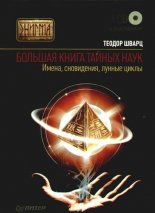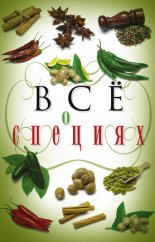Маргарита Ангулемская и ее время Петрункевич А.

Они выставляют свою веру, а стремятся к тирании даже над князьями. Они идут твердым шагом, хотя и под землей; если князь осмеливается не подчиниться им во всем, – тотчас они объявят, что его можно низложить властью церкви, то есть властью нескольких фальшивых монахов и нескольких фальшивых богословов, сговорившихся против общественного поряка.
Письмо произвело сильное впечатление на короля и явилось серьезной и неожиданной поддержкой доводам и убеждениям Маргариты. Уже из Байонны он послал строжайший приказ выпустить Беркена. Маргарита в горячих выражениях поблагодарила своего брата:
Государь, желание всегда повиноваться Вам было достаточно велико и не нуждалось быть удвоенным той милостью, которую Вам угодно было оказать бедному Беркену, согласно Вашему обещанию. Я уверена, что Тому, ради Кого он страдал, благоугодно будет Ваше милосердие, оказанное Вами во славу Господа – Его и Вашему слуге. А те [намек на Сорбонну и инквизиторов], которые за время Вашего несчастья забыли и Бога и Вас, познают, что их коварство не в силах скрыть истину пред Вашим разумом… и от этого их смущение будет не меньше, чем та вечная слава, которую дарует Вам Тот, Кто прославляется через Ваши дела!.. Я чувствую себя столь много Вам обязанной, что не могу выразить Вам свою великую благодарность иначе, как абсолютным Вам повиновением.
Рядом с этим письмом имеется и другое, адресованное к маршалу Монморанси, в котором мы читаем следующее:
…Благодарю Вас за удовольствие, доставленное мне освобождением бедного Беркена, которого я ценю и люблю, как себя, и потому Вы можете считать, что извлекли из тюрьмы меня лично.
Беркен, избегнув на этот раз смерти, не угомонился. Он восклицает в письме к Эразму:
Настало время унизить всех схоластиков!
Эразм отвечает ему:
Напротив! Настало время щадить всех людей; не доверяйтесь королю, не сталкивайтесь с Сорбонной… помните, что не нужно раздражать негодяев, и наслаждайтесь с миром Вашими научными занятиями. Главное же, не впутывайте меня в Вашу историю: это не было бы полезно ни для меня, ни для Вас…
Светлые надежды, возлагавшиеся всеми друзьями просвещения на возвращение короля из плена и на его благотворное вмешательство в работу инквизиционной комиссии, казалось, оправдывались. Счастливый от обретенной свободы, благодарный своей сестре за ее преданность и любовь, так осязательно доказанные ему в последние месяцы 1525 года, Франциск быль настроен вообще очень мягко и подчинялся легко влиянию Маргариты. После освобождения Маро и Беркена король, запретив сочинения Беды против Эразма и Лефевра, разрешил напечатать «Беседы» Эразма в количестве 24 тысяч экземпляров. Затем был выпущен на свободу Пьер Туссен; Корнелиус Агриппа получил возможность снова вернуться в Лион (из Страсбурга); Мишель Аранд был восстановлен в своей должности «раздавателя милостыни» при герцогине Алансонской и возведен в сан епископа. Наконец, Жак Лефевр и Жерар Руссель были «с честью» призваны королем. Оба они поехали сначала к Маргарите – повидаться со своей покровительницей, и уже с ней вместе возвратились потом в Блуа. Вскоре Руссель, по рекомендации Аранда, получил звание «придворного проповедника герцогини Алансонской», а Лефевра назначили хранителем королевской библиотеки и воспитателем третьего (любимейшего) сына Франциска, герцога Карла Ангулемского.
Таким образом, мечты протестантов, что «уже недалеко то время, когда во Франции наступит царство Евангелия», находили себе некоторое обоснование в действительности. Реформисты подняли голову и смелее глядели в будущее.
В сердце Маргариты снова проснулась надежда на возможность обратить короля, а с ним и всю страну, в веру менее фанатичную, но более разумную и гуманную. В этой надежде ее сильно поддерживал граф Сигизмунд Гогенлоэ, пять лет тому назад обратившийся в протестантство и мечтавший ввести его и во Франции. Он вступил в переписку с Маргаритой и ее матерью после Павийской битвы. Первое письмо герцогини, в котором она благодарит его за посещение их после постигших несчастий, помечено 24 июня 1525 года. Позже, 9 марта 1526 года, она пишет ему следующее:
…Я получила одно из Ваших писем в Испании, а другое… уже здесь, и оба они доставили мне немалое утешение, укрепив меня на пути истины, на котором я, однако, не так далеко ушла, как Вы полагаете. Относительно Вашего желания приехать во Францию, гонец сообщит Вам радостные вести, полученные мною сегодня. И так как Вы хотите повидать бедного пленника… то я Вам советую приехать в конце марта или в середине апреля, ибо тогда, я надеюсь, Вы найдете нас уже всех вместе. Надеюсь также на бесконечную милость Божию, что с Вашей помощью будет услышано слово истины. Конечно, вначале, как Вы легко себе можете представить, придется-таки поработать! Но Бог есть Бог, столько же невидимый, сколько и непостижимый, слава которого и победа так духовны, что Он побеждает именно тогда, когда весь мир мнит его побежденным!..
Однако желаниям графа Сигизмунда не суждено было исполниться. Уже 11 мая мы читаем в письме Маргариты:
…Желание повидаться с Вами еще усилилось… но все Ваши друзья решили, что, по некоторым причинам, время для Вашего приезда еще не настало. Но как только нам удастся совершить нечто, нами начатое, Вы утешитесь…
В июле было написано последнее из сохранившихся писем Маргариты.
…Не могу Вам выразить все мое огорчение… Королю было бы неприятно видеть Вас теперь. Причиной тому – опасения некоторых лиц, как бы это свидание не помешало освобождению королевских детей.
Кого Маргарита разумела под словами «некоторые лица»? Кто мог помешать исполнению ее плана и внушить королю нежелание видеться с протестантским графом? По всей вероятности, это был маршал Монморанси, товарищ детства короля. Взятый в плен при Павии вместе с многими другими, он вскоре был освобожден за большой выкуп и затем принимал деятельное участие в переговорах относительно освобождения Франциска, который, как известно, вручил ему свое «Отречение». Постоянно находясь возле короля, причем в самых простых и близких с ним отношениях, он имел на него большое влияние, особенно усилившееся с тех пор, как смерть унесла (в конце Павийской битвы) другого любимца короля, адмирала Бониве. Влияние Монморанси не было благотворным. Вот что об этом человеке – крайне ограниченном, тупом, упрямом и жестоком, тщеславном и самолюбивом – рассказывает Брантом:
Каждое утро он читал «Отче наш», и люди говорили, что нужно очень опасаться молитв господина коннетабля, ибо, шепча их, он говорил при случае: Повесьте-ка мне такого-то! Вздерните повыше другого! и т. д. Такие слова справедливости и военной дисциплины нисколько не сбивали его с «Отче наш», и он считал бы большим упущением, если бы отложил их до следующего дня.
Монморанси впоследствии, уже будучи коннетаблем Франции, причинил ей немало бедствий медлительностью, неумением пользоваться обстоятельствами и своей «системой охранения страны» путем ее совершенного разорения. Он был лишен всяких военных способностей, но не больше удавалась ему и дипломатия. Этот могущественный вельможа вместе с канцлером Дюпра стал во главе начинавшей формироваться ультракатолической партии, нашедшей себе адептов среди придворных и считавшей Маргариту вождем реформаторов. Однако Монморанси не занял открыто враждебного положения относительно герцогини и даже в мелочах услуживал ей, понимая, что такое положение вещей для него выгоднее и безопаснее, в особенности в первое время по освобождении короля, когда еще и у Франциска, и у всей Европы живы были воспоминания о недавнем бескорыстном служении ее интересам брата. Приобрести в ней явного врага не входило в расчеты хитрого царедворца, хотя он и не гнушался всячески подтачивать доверие к ней короля.
В январе 1527 года в жизни герцогини Алансонской произошла перемена, значительно отразившаяся на судьбе французской Реформации. Маргарита вышла замуж за короля Наварры. Этот новый ее брак, не позволяя ей постоянно жить при дворе Франциска I и непосредственно влиять на брата, был очень на руку ярым защитникам католицизма. Неизменная и могущественная заступница гонимых представителей лютеранства переселилась в далекое королевство, расположенное по отрогам Пиренеев. Вместе с ней от французского двора уходило Возрождение в лучших своих формах – уходили гуманность, широта взглядов, смелость и размах фантазии, талант. Вместо них оставался блеск придворной мишуры, распущенность нравов и пустота. Франциск сам уже настолько опустился, что не в силах был один поддержать то, что создал десяток лет назад блестящий мариньянский герой под свежим впечатлением «прекрасной Италии».
Зато в замках Нерака и По, в маленьких наваррских городах закипела небывалая дотоле умственная жизнь, и для них, в свою очередь, наступила эпоха Возрождения. С Наваррой отныне будут связаны имена крупнейших художников, поэтов, ученых и проповедников, которые, не найдя приюта и защиты во всем большом государстве брата, нашли верное пристанище в маленьком королевстве сестры, которая перенесла в бедную (во всех отношениях) страну блестящую культуру Италии.
Часть II
Маргарита Ангулемская – королева Наваррская
1527–1549
Глава 8
Добрый гений
В Парижской национальной библиотеке сохранилось письмо Карла V к Луизе Савойской, в котором император просит для себя руки Маргариты, герцогини Алансонской. Несомненно, что оно было написано раньше ноября 1525 года, ибо от 12 ноября имеется письмо короля Португалии к Луизе, в котором он извещает ее о браке Карла с португальской инфантой. Ответ на письмо Карла неизвестен, но (судя по тому, что происходило в дальнейшем) он, во всяком случае, был неблагоприятен, хотя еще несколько месяцев назад сама Луиза, измышляя всевозможные способы для освобождения своего сына из плена, не задумываясь, предлагала императору руку дочери. В сборнике Шамполльон-Фижака помещено письмо к Луизе, 2 июня 1525 года отправленное ей из Толедо одним из ее приближенных, где он сообщал о том, что получил все ее инструкции, а также «те соображения относительно герцогини Алансонской, которые свидетельствуют о радости регентши, если бы дочь ее была угодна императору»… Однако Карл тогда не удостоил вниманием это предложение; теперь, надо думать, ему ответили тем же.
Гораздо серьезнее и реальнее, казалось, был план брака между Маргаритой и Генрихом VIII Английским, который выступил в качестве защитника интересов Франции против безмерных притязаний императора, своего прежнего союзника. 30 августа 1525 года король Генрих заключил с Луизой Савойской мирный договор и обещал ей свою защиту. К такой перемене в дипломатии настраивал Генриха VIII его первый министр, кардинал Уолси,[54] желавший таким образом отомстить Карлу V за то, что тот два раза (при избрании римских пап Адриана VI и Климента VII) обманул его и не провел, как обещал, в папы. Но кроме этой обиды неосторожный император нанес Уолси еще и другую.
До Павийской битвы Карл оказывал всемогущему кардиналу знаки глубочайшего уважения и нередко писал ему письма за подписью «Ваш сын и кузен» (последнее было обыкновенной формулой в переписке государей того времени между собой), а после своей победы – не только перестал посылать собственноручные письма, но и в тех, которые посылались кардиналу от его имени, подписывался просто «Карл». Уолси был уязвлен и стал устраивать дружбу Англии с Францией против Германии. Но и этого было еще недостаточно для его мщения. Ненависть к Карлу он перенес на его тетку, Екатерину Арагонскую, и начал поддерживать Генриха в мысли о незаконности его брака с ней и о необходимости развода.[55] Рассказывают, будто он имел при этом в виду скрепить вновь созданную дружбу между Англией и Францией браком Генриха с Маргаритой Алансонской и с этой целью очень расхваливал ее, говоря, что во всем мире «нет женщины более достойной и подходящей для Генриха VIII».
Совершенно согласуясь с Уолси в его желании отомстить Карлу V французские дипломаты при английском дворе употребляли все усилия для того, чтобы восстановить Генриха VIII против его супруги. Сам Франциск крепко держался за политическую дружбу с Генрихом, понимая, как важен для него такой могущественный союзник. Они обменялись выражениями самой преданной и горячей дружбы.
Казалось бы, Франциск должен был с радостью ухватиться за мысль Генриха жениться на герцогине Алансонской. Этот брак мог быть очень выгоден для Франции. Однако, как мы знаем из депеш (за март и апрель 1526 года) английского посла, Франциск мешал осуществлению этого плана, не позволил дипломату выполнить возложенные на него поручения – посол должен был принести герцогине Алансонской поздравления короля Генриха по случаю преодоления всех трудностей в деле освобождения брата; вступить в непосредственные отношения с герцогиней, установить полное согласие, совещаясь с ней всякий раз, когда того потребуют обстоятельства. Но Франциск не давал послу возможности видеться с герцогиней, несмотря на то что обычно все послы постоянно общались к ней. Король не хотел, чтобы сестра вышла замуж за главнейшего и могущественнейшего политического друга. А ведь политические союзы в то время часто и охотно закреплялись брачными союзами, и сам Франциск – во исполнение одного из пунктов Мадридского договора – только что женился на вдовствующей Элеоноре Португальской, сестре Карла V. Как же объяснить такое поведение короля?
Вспомним о маршале Монморанси. Его заслуги в деле освобождения Франциска ценились очень высоко, его влияние росло с каждым днем; тем более что те люди, которые могли успешно с ним соперничать, понемногу сходили со сцены: Луиза все чаще болела, канцлер Дюпра старел, а из прежних близких товарищей оставались при дворе лишь немногие. Монморанси, как мы уже отмечали, стоял во главе образовывавшейся ультракатолической партии, которая не могла допустить брака между английским королем и Маргаритой. Сделавшись английской королевой, получив силу и власть, не станет ли она открыто на сторону реформаторов? И не склонит ли к тому же своего брата и своего супруга? Бороться с герцогиней Алансонской было трудно, но возможно; бороться с английской королевой – немыслимо.
Маргарита сама вывела всех из затруднительного положения. Она с негодованием отвергла брак, «долженствовавший совершиться на счет благополучия несчастной королевы Екатерины Арагонской». Все реформаторы того времени осуждали развод. Лютер объявил, что он скорее разрешит Генриху двоеженство, по примеру древних царей и патриархов, нежели развод. Любопытно, что эти слова Лютера совпали с мнением Уолси, который предложил папе, тоже на основании Библии, разрешить Генриху иметь сразу двух жен.
Судьба два раза предоставляла Маргарите случай стать во главе могучих государств, когда бы она несравненно более серьезно и глубоко влияла на все европейские события. Будь Маргарита германской императрицей или английской королевой, история Реформации значительно изменила бы свой характер и, вероятно, число жертв, принесенных за новое вероисповедание, было бы гораздо меньше. Но Маргарите суждено было оказаться государыней не великой европейской державы, а маленького, затерянного в Пиренеях королевства, утесняемого соседней Испанией.
При дворе Франциска находился юный Генрих Фуа д’Альбре, носивший титул короля Наваррского, хотя от всего его королевства у него оставалась лишь незначительная часть, тогда как другая, большая, уже 15 лет находилась во власти Испании.[56] Принадлежа по своему происхождению к родовитому дворянству Южной Франции, Генрих д'Альбре участвовал в последнем Итальянском походе и в битве при Павии. Он был взят в плен и заключен в башню под очень строгий надзор. Карл V намеревался вернуть Генриху свободу только в том случае, если он навсегда откажется от своих прав на Наварру. Но Генриху удалось бежать с помощью беарнского дворянина, барона д'Арроса и одной дамы, которая добилась разрешения посещать узника и принесла ему веревочную лестницу.
Из письма Генриха, короля Наваррского, к кардиналу Уолси (от 3 января 1526 года) известно, что он, Генрих, потихоньку спустился вниз, где его уже ждали готовые к бегству проводники и лошади. Беглецы благополучно добрались до французской границы и несколько дней спустя прибыли в Лион. А в это время в башне… Верный паж короля Наваррского, одинакового с ним роста и возраста, лег в его постель, притворившись спящим; когда в комнату вошел офицер, которому пленник специально был поручен, у него не возникло подозрения, что перед ним лежит Франциск де Рошфор, а не Генрих д’Альбре. Конечно, вскоре обман открылся, но король был уже далеко и вне опасности. К чести испанцев нужно сказать, что ни паж, ни камердинер, участвовавшие в этой истории, не поплатились за свою смелость; напротив, их поздравляли замужество и преданность своему господину, с какими они служили ему.
Генрих вернулся во Францию, прославившийся как храбрый рыцарь, испытавший много всяких приключений и превратностей судьбы: это делало его особенно интересным при дворе. Впрочем, молодой король обладал и более серьезными достоинствами. Карл V в 1539 году так отзывался о нем: «Во Франции я видел только одного мужчину, и этот мужчина – король Наваррский». Действительно, когда Генрих через несколько лет после женитьбы навсегда переселился в свои наследственные владения, он выказал столько деятельной энергии, столько умения в управлении государством, что, например, В. Люро с полным правом написал о нем следующее: «Это был монарх, которому не хватало только обширного королевства, чтобы быть великим королем!» Воспитание при французском дворе придало блеск его природному уму и способностям, смягчило несколько грубоватый, отважный характер, свойственный настоящему горцу-баску.
Вот с этим-то человеком Маргарита Алансонская и вступила во второй брак, несмотря на то что он был моложе ее на 11 лет. Что побудило ее к этому шагу, сказать трудно. Ж. Мишле утверждает, будто Маргарита была выдана замуж против ее воли братом, уступившим желанию своей любовницы герцогини д'Этамп,[57] боявшейся влияния герцогини Алансонской на короля и потому требовавшей ее удаления от двора. Историк пишет:
Маргарита горько рыдала, выходя замуж. Она обрекалась на изгнание, бедность, на то, чтобы быть супругой короля, у которого нет королевства.
Все это вряд ли справедливо. Тем более что у Мишле можно обнаружить и другие неточности: в одном месте, например, сказано, что Маргарита вышла замуж за Жана д'Альбре, но Жан был отцом Генриха.[58] И, насколько нам известно, отношения между Маргаритой и герцогиней д'Этамп были всегда вполне хороши, а по вопросу о протестантах они были даже союзницами, поэтому едва ли будет правильным объяснять замужество Маргариты интригами фаворитки. Кроме того, Маргарита, став королевой Наваррской, проводила все-таки большую часть времени при дворе брата. Она переселилась в свое королевство лишь несколько лет спустя.
Маргарита в замке брата
Другие биографы Маргариты утверждают, что ее брак с Генрихом был браком по любви и что Франциск согласился на него, лишь уступая склонности своей сестры. Может быть, это и так, но нельзя сказать, чтобы этот брак был создан только личными отношениями Маргариты и Генриха. Несомненно, что он имел за собой серьезные дипломатические соображения и политические выгоды, поскольку для Франции было далеко не безразлично, кого изберет себе в супруги молодой король Наваррский. Несмотря на то, что это королевство было небогато, его географическое положение придавало ему особое значение, сделав яблоком раздора между Францией и Испанией: с XIII века борьба между ними не прекращалась.
Королевство Наваррское в самом начале XVI века располагалось по обе стороны Пиренеев, около Гасконского залива,[59] и разделялось горами на две неравные части. Со стороны Франции находились графство Беарн и так называемая Нижняя (Северная) Наварра; на другой стороне, уже на полуострове, лежала Верхняя (Южная) Наварра, которую в 1512 году захватил Фердинанд Католик, а Карл V не возвращал, несмотря на неоднократные требования Франциска I. По Нуайонскому договору, 13 августа 1516 года, Карл V обязался вернуть Верхнюю Наварру в течение восьми месяцев. В 1521 году Франциск снова заявил свои требования относительно Наварры и с оружием в руках поддерживал их до августа 1522 года. По Мадридскому договору, 14 января 1526 года, Франциск отказался от помощи королю Наварры, но в начале 1527 года, выдавая сестру замуж за него, опять обязался поддерживать справедливые претензии своего зятя. Наконец, по договору в Камбре, 7 июля 1529 года, король снова отказался (в одном из тайных пунктов) от всякой помощи. Возможно, Генрих и Маргарита так никогда и не узнали об этом предательстве.
Свадьба была отпразднована со всей подобающей пышностью в Париже 24 января 1527 года. В брачном контракте (этот документ, датированный 3 января 1527 года, хранится в архивах префектуры города По) герцогине Алансонской, как королевской сестре, присваивался титул «de France».[60] Франциск осыпал новобрачных милостями, щедрыми дарами и еще более щедрыми обещаниями.
Поэты наперерыв воспевали и прославляли Маргариту, суля ей счастье, называя ее десятой музой и четвертой грацией, измышляя красивые легенды относительно ее чудесного происхождения из жемчужины, родившейся в той самой раковине, из которой некогда вышла Венера.
Пророчества и пожелания друзей-поэтов не сбылись: Маргарита и во втором своем браке не нашла счастья. Ее муж, не разделяя серьезных вкусов супруги, скоро вернулся к прежнему образу жизни свободного, бессемейного человека. По-видимому, королева относилась довольно спокойно к многочисленным изменам Генриха – потому ли, что это стало слишком уж привычным в XVI веке, или потому, что Маргарита считала: крупная разница лет до некоторой степени может смягчить вину Генриха; как бы то ни было, но уже через три года после их свадьбы она замечает в одном из писем к маршалу Монморанси, бывшему в то время (в 1530 году) в Испании:
Прошу Вас во всем давать советы ему [Генриху], и так как Вы там, то я не сомневаюсь, что все будет хорошо, кроме только того, что Вам не удастся помешать ему увлекаться испанскими красавицами.
Маргарита говорит об этой слабости своего мужа совершенно так же, как говорила бы обо всякой другой. Но не следует объяснять это спокойствие равнодушием или даже нелюбовью к Генриху. Из всех ее писем и произведений явствует, что она была к нему привязана, однако в этой привязанности было что-то напоминающее отношение взрослого к ребенку, которого нужно постоянно охранять, оберегать и поучать. Когда Маргарита не находится рядом с ним, она просит тех, кому доверяет, не отказывать ему в помощи и совете; чаще всего она поручает его маршалу Монморанси, к которому всегда питала самые дружеские чувства и большое доверие.
Поручаю Вам короля Наваррского и его свиту. Вы ведь знаете, что он в такой компании, которая не пощадит его в игре, если только Вы не поможете ему советом…
‹…›
Я очень хорошо понимаю, что если Вы послушаетесь когда-нибудь мнения короля Наваррского, он заставит Вас наделать столько беспорядков, что совсем Вас испортит.
В другой раз она пишет маршалу:
По Вашим письмам я поняла, что Вы лучший родственник, нежели король Наваррский – муж, ибо ему не захотелось даже порадовать письмом бедную больную женщину…
7 января 1528 года в замке По, в графстве Беарнском, у молодой королевской четы родилась дочь Жанна, будущая знаменитая королева Реформации, союзница адмирала Колиньи и мать великого Генриха IV.
15 июля 1530 года все королевство праздновало рождение наследника, нареченного Иоанном. Это была большая семейная радость, но она продолжалась недолго: принц Наваррский скончался двух месяцев от роду в отсутствие матери, бывшей тогда в своем герцогстве Алансонском. Ш. де Сент-Март рассказывает, что Маргарита, получив горестное известие, тотчас же направилась в церковь и просила вместо панихиды служить Те Deum,[61] ибо она знала, что у христиан есть твердая надежда на бессмертие и что не следует оплакивать сына, душа которого находится уже у Того, Кто сказал на земле: «Не возбраняйте малым сим приходить ко Мне!» Поэтому, поддержав короля Генриха христианским утешением, она велела расклеить на всех углах и перекрестках города афиши со словами из Святого Писания: «Господь дал, Господь и взял». Такой способ выражения постигшего ее горя может показаться неестественным, а между тем он вполне объясняется и целиком вытекает из того мистически-религиозного настроения, которое все сильнее и сильнее овладевало Маргаритой, давая ей нравственную силу выносить все трудности жизни. Она собственноручно известила Франциска о смерти своего ребенка:
Государь! Богу угодно было отозвать к Себе того, кого Вы называли своим внуком и появлению на свет которого Вы так радовались! Опасаясь, что Вы и Мать (Madame) слишком огорчитесь исходом болезни, я сама хотела уведомить Вас обо всем и умолять Вас обоих радоваться за него, а не горевать… Уверяю Вас, Государь, что отец и мать довольствуются волей Того, Кто может дать других [детей] для того, чтобы служить Вашим детям…
Но, успокаивая брата и утешая мужа, сама Маргарита сильно ощущала горесть своей утраты. Об этом, в частности, может свидетельствовать одно из ее писем к маршалу Монморанси.
Благодарю Вас за Ваше сочувствие. Вы помогаете мне переносить бремя, которое без помощи Божией оказалось бы гораздо тяжелее, чем я думала.
Через год пришлось переживать новую утрату – умерла Луиза Савойская. Последние годы она болела все чаще и серьезнее. Начиная с 1527 года в переписке Маргариты встречаются уже опасения за состояние здоровья матери. Вероятно, в одну из тех тяжелых минут, когда призрак смерти встал особенно ярко перед ее умственным взором, Маргарита сказала, что «боится, не суждено ли ей остаться последней из их троицы». Франциск узнал об этих словах и понял их превратно – будто сестра желала его смерти. Может быть, какой-то услужливый царедворец «помог» недоверчивому Франциску перетолковать ее слова. В суеверном страхе король разозлился на сестру и упрекнул ее. Маргарита в одном из писем (написано раньше сентября 1531 года) так оправдывается, объясняя ложно понятое:
Государь, Вы очень хорошо знаете, что не в моей власти не только что-нибудь от Вас утаить, но даже умолчать; ибо всю жизнь я говорила с Вами без всякого страха, заявляя Вам свои желания открыто, как брату, получая Ваше приказание или совет, как от отца, как от того, кому я обязана всем, чего могу желать в этом мире. Для Вас я почитала жертву собственной воли – свободой, для Вас я почитала свою жизнь – счастливой, свою смерть – славной.
Но, Государь, если даже Богу и угодно было, чтобы Вы не поняли моей мысли… и приписали мне нечто такое, одно упоминание о чем причиняет мне нестерпимую боль, – то, умоляю Вас, не заставляйте меня проходить еще через чистилище и сделайте мне честь верить: если я и сказала, что опасаюсь остаться последней, то только потому, что боюсь получить на свою долю высшую меру несчастья, которую Господь может послать своему творению! И если бы мое желание совпадало с моим страхом, я бы постаралась охранять мою жизнь и здоровье несколько старательнее, чем я это до сих пор делала.
Я уверена, Государь, что Вы все это сознаете так же ясно, как я сама. Но те слова, которые Вы мне сказали при отъезде, что, может быть, Богу угодно, чтобы я пережила Вас и мою Мать, так тяжко отозвались в моем сердце, что я не могла не написать Вам этого письма. Ибо у меня нет другой цели, желания и намерения, как жить и умереть Вашей преданной и покорной подданной и сестрой.
Вероятно, после этого между братом и сестрой наладились отношения, так как не сохранилось никаких указаний о продолжении этой ссоры.
Луиза Савойская (Люксембургский сад. Париж)
В сентябре 1531 года Маргарита находится в Фонтенбло, где ухаживает за больной матерью. В очередном письме она просит у Франциска разрешения перевезти мать куда-нибудь в другое место, полагая, что ей будет полезна перемена воздуха. И через несколько дней они уже покинули замок Фонтенбло, но, едва отъехав, вынуждены были остановиться в маленькой деревеньке Грец. Луизе внезапно сделалось очень худо, и 22 сентября 1531 года она скончалась, как пишет А. Лефран, «вдали от любимого сына, который покинул ее, убегая от свирепствовавшей тогда чумы и не думая, что близок смертный час его матери».
Маргарита описала этот трагический момент в своей поэме «Темницы» (Les Prisons), о которой мы уже упоминали. Поэма была написана вскоре после смерти короля Франциска и пронизана тяжелым настроением Маргариты, поглощенной мыслью о смерти. Она любовно и подробно описывает последние часы близких и дорогих ей людей, как бы черпая силу и спокойствие в этих грустных воспоминаниях и как бы готовясь также спокойно, как они, покинуть мир, который уже больше не представлял для нее ничего радостного и заманчивого.
Смерть Луизы высвобождала Франциска из-под влияния человека, не повиноваться которому он не мог. Все, что исходило от этой энергичной и властной женщины, подавляло его – ее любовь к нему, ее немалые административные способности и все те качества, которые у самого Франциска отсутствовали: трудолюбие, настойчивость и упорство в достижении намеченной цели. Другой вопрос – верно ли намечала она себе эти цели, правильно ли понимала государственные нужды и бескорыстно ли работала на благо родины? Большинство историков отвечают на это отрицательно. Все, что она делала, она делала для Франциска, а не для Франции, не опасаясь жертвовать интересами королевства ради выгод короля: так поступила она в деле освобождения Франциска из мадридского плена, предписывая послам отдать Бургундию, так же вела она дело и в 1529 году при заключении так называемого «мира Дам»[62] в Камбре, подписав унизительные условия для Франции – лишь бы вызволить своих внуков, «для которых воздух Испании был губителен». Страстная, слепая любовь Луизы к сыну может послужить если не оправданием, то хотя бы объяснением ее поступков.
Глава 9
Интимный круг
Генрих Наваррский обращал большое внимание на военные силы своего королевства, во-первых, твердо надеясь добиться возвращения ему от Испании другой части своих наследственных владений, а во-вторых, стараясь защитить оставшуюся часть на случай очередной агрессии. Для этого он принимал всевозможные меры: строил новые крепости, исправлял старые и укреплял пограничные города. И на все это требовались крупные денежные суммы. Ежегодно содержание королевского двора обходилось также недешево, однако и это было необходимо – по мнению Генриха, для поддержания королевского достоинства и славы дома д'Альбре, увеличившейся с тех пор, как в него вошла Маргарита, сестра великого французского короля. Маргарита, не изменяя себе, находила возможным по-прежнему помогать поэтам, художникам и ученым, всем гонимым за веру или даже за неверие. «Никто в XVI веке не занимался с большей заботливостью и практичностью устройством больниц и убежищ, чем сама королева, – пишет о ней А. Лефран. – Она основывала их в Париже, По, Неракте, Эссэ и Алансоне». Благотворительность в широких размерах ложилась тяжелым бременем на бюджет королевы, но она, по утверждению Ш. де Сент-Марта, не считала себя вправе хоть немного сократить эту все разраставшуюся статью расхода, как не считала возможным уменьшить ежегодную трату на подарки, сверх жалованья, своим служащим. Вообще отношение Маргариты к подданным носит те же черты, которые так прославили ее великого внука – французского короля Генриха IV.
Через несколько лет с бюджетом стало еще труднее. Это случилось тогда, когда Франциск, забрав Жанну д'Альбре у родителей, поселил ее в замке Плесси-де-Тур и потребовал, чтобы она имела приличный двор. Правда, он обещал давать половину нужной суммы от себя, но и этого обещания, подобно многим другим, никогда не выполнял.
Королева Наваррская носила простое черное платье, подбитое горностаем, и небольшой головной убор. Она не любила роскоши (что не исключало ее любви ко всему изящному и красивому) и всячески урезывала расходы на себя лично.
В 1860-х годах вышла интересная книга графа Гектора де ла Феррьера, составленная целиком по вновь открытому им документу – «Приходо-расходной книге королевы» (Marguerite d'Angoulme. Son livre do dpenses. 1540–1549). Эта монография, охватывающая период в 10 лет, основана на ежегодных записках ее любимого секретаря Жана Фротте. Прежде всего поражает то, что в учетной книге почти нет страницы, которая бы не была отмечена какими-нибудь дарами или пособиями Маргариты. Королева скупа только по отношению к себе самой, зато она помогает изгнанникам, содержит в университетах стипендиатов, вознаграждает художников и артистов, учреждает приюты для заброшенных детей, дает приданое бедным девушкам, прощает долги и пени, делает разные подарки своим многочисленным знакомым и приближенным, покровительствует ремеслам и промышленности.
Маргарита была бедна, но она не стыдилась своей бедности и не скрывала ее. Так, в одном из писем к брату она выражает благодарность, что он прислал ей денег, и говорит:
Хотя у меня и нет земель, которые я могла бы продать, чтобы служить Вам, и хотя все, что я имею в этом мире, дано мне Вами, однако, видя положение Вашихдел, я предпочла бы лучше продать свою мебель, купленную на Ваши же деньги, чем лишний раз просить и обременять Вас. Мне писали, Государь, что Вам угодно назначить мне пенсион… если Вы хотите оказать мне эту помощь ради того, чтобы я лучше справлялась со своими расходами, то мне было бы приятнее, если бы Вы соблаговолили приказать передавать мне его в виде дара, а не ежегодной пенсии, дабы не вменять его Вам в обязательный расход. А те десять тысяч ливров, которые Вам угодно ныне мне подарить, я употреблю на свое путешествие к Вам. Но если бы я могла занять где-нибудь такую сумму, я бы ни за что не взяла ее из Вашей казны, ибо наступает время, когда деньги Вам очень понадобятся, и я очень сожалею, что была всегда так нерасчетлива и не сумела сберечь то, что Вы мне дарили, чтобы теперь послужить Вам своими сбережениями…
Главной резиденцией королевской четы считался город По, столица графства Беарнского. Правда, этот город походил больше на деревню, а старинный феодальный замок был лишен всех тех даже примитивных удобств, которые уже в эпоху Ренессанса предъявлялись всякому жилищу как необходимейшие: он был мрачен, темен и приспособлен больше для осад, чем для мирной жизни. Маргарита, полагая, что ей и ее супругу нужно иметь дворец, достойный их положения, в котором бы она с честью могла принимать передовых людей и который бы соответствовал ее эстетическому вкусу, активно принялась за усовершенствование своего жилища. Она выписала из Италии художников и других мастеров, которые за несколько лет превратили некрасивый средневековый замок в изящный дворец. С террас, обращенных к Пиренеям, открывался прекрасный вид на высокие снежные цепи гор, а вокруг всего дворца причудливо раскинулись тенистые сады с гротами, водопадами и фонтанами, с таинственно журчащими ручьями и источниками… Эти сады долгое время славились на всю Европу.
Кто же окружал Маргариту в ее гостиных, в ее рабочем кабинете? Кто составлял тот кружок, принадлежать к которому считали для себя честью многие знаменитые люди того времени?
Начнем с придворных дам. У королевы их было 38, но, конечно, далеко не все составляли ее интимный круг. Остановимся на двух женщинах уже почтенного возраста, преданно любивших свою государыню и почти неотлучно состоявших при ней. Первая – Эме де Лафайет (Aime de Lafayette), вдова Франциска де Силли, погибшего в битве при Павии; она была близка к королеве, ездила с ней в Испанию в 1525 году. Когда Франциск забрал от родителей свою племянницу Жанну, мадам Эме была назначена воспитательницей ребенка. Маргарита, лишенная возможности лично наблюдать за своей дочерью, возложила эту обязанность на самого близкого и преданного человека. Вторая ее статс-дама – бабушка знаменитого хроникера Брантома, Луиза де Дайон (Louise de Daillon de Vivonne). Она повсюду сопровождала Маргариту, и когда королева во время путешествия что-нибудь сочиняла, мадам Луиза держала ей чернильницу или писала под ее диктовку. Так были написаны многие стихотворения Маргариты и многие из ее новелл, составивших впоследствии знаменитый сборник «Гептамерон».
Далее следует назвать и некоторых других фрейлин. Это дочь мадам Луизы (она – мать Брантома) – Аннаде Вивонн, по мужу госпожа де Бурдей; фрейлина де Сент-Патер (Saint-Pather), которой Маргарита очень доверяла и через которую оказывала тайную помощь тем, кому, по разным обстоятельствам, не могла помогать открыто; наконец, еще две дамы – д'Орсонвилье и дАвогур, воспетые К. Маро: первая – за ум, а вторая – за умение слушать.
Дамы своим присутствием оживляли общество. Они были воспитаны при блестящем дворе Франциска, умели вести тонкий, остроумный разговор, ценить произведения искусства, литературы и даже имели представление о науках.
В королевском дворце Маргариты велись и веселые, шутливые разговоры, и горячие ученые споры; здесь обсуждались все литературные новинки и все политические события; сюда приходили последние известия о религиозном движении в Германии и в других государствах. Знаменитый поэт Клеман Маро, переведенный в 1527 году из камер-юнкеров Маргариты в придворный штат Франциска все же не забывал свою покровительницу и время от времени появлялся в По или Нераке. С другим известным поэтом, Деперье,[63] Маргарита познакомилась в Лионе в 1536 году, наслышанная о нем от своего бывшего учителя Робера Гюро, руководившего также и образованием Деперье. Одаренный большим умом и получивший хорошее образование, Деперье уже в 20 лет являлся настоящим ученым и, владея языками латинским, греческим, отчасти даже еврейским, в 1532 году поселился в Лионе, этом кипучем центре тогдашней интеллектуальной жизни. Он помогал Доле с его «Латинскими комментариями», а Оливетану – в издании Библии. Он близко сошелся с Рабле и Маро. В 1537 году Маргарита зачислила его в свои камер-юнкеры.
К этим двум крупнейшим поэтам, Маро и Деперье, причислим еще третьего, имя которого тоже тесно связано с Маргаритой. Это Никола Бурбон (1503–1550). Страстный поклонник и знаток латинской литературы, писавший только по-латыни и презиравший французский язык, считая его неподходящим для произведений изящной словесности, он был истинным гуманистом по своим убеждениям, горячо верил в знание. Он искал религии не мистической, а по возможности разумной и потому на первых порах явился, подобно многим, адептом нового толкования христианства. В 1534 году Н. Бурбон подвергся гонениям Сорбонны и даже сидел в тюрьме.
Выйдя из тюрьмы, Н. Бурбон поселился в Наварре у Маргариты. Она быстро оценила его высокое образование и поручила ему обучение дочери, из-за чего он был вынужден покинуть Беарн, но приезжал на время в По или Нерак, чтобы в обществе королевы и ее друзей освежить душу и ум.
Мы находим при дворе Маргариты Николая Денизо, поэта и художника; Антуана Ле Масона, одного из секретарей королевы и переводчика; Виктора Бродо, управлявшего казной Маргариты и обменивавшегося легкими стихотворениями с Маро; Пьера Боэстюо и Клода Грюже, первых издателей «Гептамерона»; Жана де Ла Ге, первого издателя стихотворений королевы; Жана Клуе, знаменитого портретиста XVI века; эрудита Шарля де Сент-Марта. Отец Шарля был лейб-медиком, а сам он профессорствовал в Лионе, преподавая языки французский, латинский и еврейский. Обвиненный в ереси, Шарль был брошен в тюрьму, в которой просидел два года, а по выходе из нее попал прямо к Маргарите, которая назначила его сначала членом своего Совета, потом судьей в Алансон.
Автор преподносит свою книгу Маргарите Наваррской (Миниатюра XVI века)
Рядом со всеми этими поэтами, которые, по выржению Одолан Дено, превратили Наваррский двор в настоящий Парнас, мы встречаем здесь людей, представлявших и другую сторону Возрождения, – профессоров и ученых. Не схоластических ученых, мастерски высмеянных Рабле, а ученых нового времени, вставших на борьбу с догматизмом. Из них мы назовем Гийома Постеля («человека с энциклопедическим образованием и всепожирающим воображением», как его охарактеризовал А. Мартен), впервые начавшего изучение азиатских языков и литератур и «провидевшего Древний Восток и единство первичного мира в недрах его». (Он был так сильно увлечен своей идеей, так поражен гигантским видением, вызванным им самим, что кончил сумасшествием.) В 1535 году Г. Постель отправился путешествовать на Восток и по возвращении оттуда, по ходатайству Маргариты, был назначен профессором математики и восточных языков в высшую королевскую школу. Это был человек глубоко религиозный, и он верил в возможность обратить все народы к Евангелию исключительно путем разумных убеждений и доводов. Эта мечта о всеобщем согласии и мире, о соединении всех самых разнообразных народов одной общей религией была для него заветной. Он увлекал Маргариту своим богатым воображением и своей широкой, всеобъемлющей любовью к страдающему человечеству, жизнь которого он хотел облегчить, озарив его светом разумного христианства.
Назовем и другого профессора той же школы – Каноссу Парадизио, перекрещенного еврея, родившегося в Венеции. Приехав в Париж в 1531 году, он близко сошелся с королевой Наваррской, которую стал обучать еврейскому языку. Она рекомендовала его как профессора королю, назначившему его в свою школу на кафедру еврейского языка. Его сестра, Франсуаза Каносса, была пожалована сначала фрейлиной королевы Наваррской, а потом – Екатерины Медичи. Симпатичный профессор быстро пошел в гору и приобрел многочисленных друзей и доверие самого короля, но и среди всех своих удач он никогда не забывал, что первой в чужой стране его поддержала Маргарита; он воспел ее в одной из своих поэм.
Не забудем, что с 1531 года в Беарне поселился Лефевр д'Этапль и что Ж. Руссель, возведенный в звание придворного проповедника Маргариты, ее стараниями был вскоре (в 1538 году) назначен епископом Олоронским. Гостеприимный дворец в По посещали также Жан Кальвин и Теодор де Без.
Теперь, познакомившись с теми, кто составлял обычный круг королевы, посмотрим, как они проводили время. День Маргариты был всегда очень занят. Она сама отмечает это в прологе к «Гептамерону», говоря о Парламанте, в которой большинство исследователей видит портрет автора, что «она никогда не была праздной».
Утро обыкновенно посвящалось государственным делам. Маргарита не только управляла своими герцогствами, внимательно следя за их жизнью, нуждами и потребностями, но и принимала большое участие в делах Наварры, тем более что ее супруг, будучи наместником Франциска I в Гаскони, должен был часто отлучаться из своего королевства по делам службы; в этих случаях он передавал бразды правления королеве.
Покончив с докладами, проверками и решениями, требовавшимися по всевозможным вопросам и делам, отпустив всех должностных лиц, королева просматривала корреспонденцию и отвечала на письма – писала сама или поручала сделать это своему секретарю Фротте, рассказав, о чем и как должно быть написано.
Сент-Март собщает:
Когда она знала, что своим вмешательством в дело может помочь кому-нибудь или хотя бы только доставить удовольствие, она собственноручно писала рекомендательные письма или, если другие занятия отвлекали ее, поручала это своему секретарю Фротте. Она так упрашивала тех, к кому обращалась, что, прочтя ее письма, можно было подумать, что она хлопочет для себя лично.
После всех этих утренних занятий наступал отдых – чаще всего это время отводилось для какой-нибудь художественной работы. В искусстве вышивания, достигшем в ту эпоху степени настоящего художества, в котором кисти заменялись иголками, а краски – шелками различных оттенков, королева стояла на высокой ступени совершенства. В Руанской библиотеке хранится ковер, вышитый ее руками, на котором изображено торжественное богослужение. К сожалению, ковер этот был впоследствии испорчен ее дочерью, королевой Жанной д'Альбре, ревностной гугеноткой, заменившей голову священнослужителя лисьей мордой.
Занимаясь рукоделием, Маргарита диктовала свои произведения или просила, чтобы почитали вслух (поэтические, исторические или философские сочинения).
Нередко по поводу прочитанного возникали разговоры и даже споры, в которых затрагивались разные вопросы, волновавшие неракское общество. Воспоминание об одном таком споре мы находим у Сент-Марта.
Однажды (мы были тогда в Туссонском монастыре) шел спор по поводу евангельских слов: «Истинно, истинно глаголю вам: аще не будете яко единый от малых сих, не внидете во царствие небесное». Жерар Руссель, придворный проповедник, высказывался, как приличествует богослову, и подтверждал свои слова цитатами из св. Августина; Режен, один из придворных, человек гуманный и ученый, приводил доказательства из св. Иеронима, и так как королева сделала мне честь пожелать услышать и мое мнение, я высказал его, приводя некоторые положения св. отцов: Златоуста, Феофилакта и др. И когда мы развили все наши доводы, королева изложила нам свое мнение и объяснила свою мысль. Случайно при этой беседе присутствовал один испанский дворянин, который до того был поражен всем виденным и слышанным, что имел вид человека, находящегося в экстазе или видящего привидение… Несколько дней спустя, будучи в гостях у одного кардинала, этот испанец, когда речь зашла о королеве, рассказал сцену, при которой присутствовал в Туссонском монастыре, прибавив, что Маргарита говорила о вещах пустых и бессодержательных с Бог знает какими «колпаками» (bonnets ronds), имея в своем обществе всего только двух или трех жантильомов, а ему самому не сказала даже ни слова.
Сент-Март отмечает с насмешливым сожалением, как жестоко было уязвлено дворянское самолюбие этого испанца, не понимавшего того уважения, которое воздавалось здесь уму и образованию.
Но не всегда королева и ее друзья занимались серьезным чтением или философскими беседами. Все серьезное могло смениться пением и музыкой, веселыми рассказами, шутками и смехом. Деперье услаждал общество импровизациями, аккомпанируя себе на лютне, или пел свои романсы.
Маргарита страстно любила музыку и еще в юности сочиняла мелодии к своим стихам. Эти ее произведения хранятся в Парижской национальной библиотеке. Поселившись в Беарне, она охотно слушала народные песни и нередко во время своих прогулок записывала те мотивы, которые ей особенно нравились. Иногда Деперье выступал в роли рассказчика. В этом никто не оспаривал у него пальму первенства, и он пользовался прочно установившейся и вполне заслуженной славой.
Оживленное общество располагалось часто в живописных садах королевского дворца. Более чем вероятно, что не один Деперье развлекал всех своими рассказами. Пролог «Гептамерона» доказывает, что с некоторых пор это развлечение вообще было в большом ходу.
Но самым любимым времяпрепровождением маленького общества была постановка и разыгрывание драматических произведений, выходивших из-под пера Маргариты. Эти пьесы сохранились до нашего времени. Их можно разделить на две группы: первая заключает в себе три фарса и одну светскую комедию, вторую же составляют четыре пьесы, сюжеты которых целиком взяты из Евангелия, как на то указывают их названия. Историки XVI века отмечали, что королева сделала трагикомический перевод почти всего Нового Завета. Представления давались в большом зале дворца, перед королем и королевой. Были призваны лучшие актеры Италии. Догадываясь о склонности королевы, они вплетали в представления разные песенки о духовенстве, так что всегда доставалось какому-нибудь монаху, которого безжалостно высмеивали.
Глава 10
Сила грешной души
Вернувшись из мадридского плена, Франциск I хотел, чтобы кругом все было тихо и мирно и чтобы борьба религиозных партий не мешала ему наслаждаться обретенной свободой со всеми радостями и удовольствиями. Нежелание преследовать веру к тому же было продиктовано и соображениями дипломатии – новая вера могла стать господствующей в Англии, с королем которой Франциск по прибытии во Францию обменялся необыкновенно дружественными приветствиями.
Видя такое миролюбивое настроение Франциска I и торжество новаторов, главные представители которых с честью вышли из борьбы (благодаря содействию Маргариты), канцлер Дюпра, стоявший вместе с маршалом Монморанси во главе партии католиков, решил созвать несколько поместных соборов с целью «борьбы с ересью и успокоения общественного мнения некоторыми частными улучшениями». (Один общий для всей Франции собор не созывался, потому что, как говорит А. Мартен, королевская политика не любила больших национальных собраний.) Эти соборы состоялись в феврале и марте 1528 года в Париже и Лионе, а также в Бурже – городе, принадлежавшем Маргарите.
Некоторые из их постановлений интересны тем, что ярко характеризуют тогдашнее состояние католического духовенства. Например, проповедникам запрещалось смешить публику баснями и сказками – каковы были эти басни и сказки, мы можем судить по некоторым новеллам «Гептамерона». Запрещалось устраивать в церквях светские сборища, справлять праздник дураков, играть на органе во время богослужения шутливые и неприличные песни. Было также несколько упорядочено отлучение от церкви, которым злоупотребляли, пользуясь им как средством личной мести. Но рядом с этим были проведены строжайшие меры против реформаторов. Парижский собор под председательством самого Дюпра обратился к королю Франциску с таким увещанием:
…Благополучие и слава от века принадлежали только тем государям, которые, всецело предавшись католической вере, непоколебимо преследовали и убивали еретиков как первейших врагов короны.
Но король не внимал пока еще этим советам и продолжал держаться прежнего миролюбивого настроения. Маргарита же явно покровительствовала «лютеристам». После бракосочетания Маргариты с Генрихом д'Альбре ее духовником был назначен Ж. Руссель; с тех пор он постоянно находился при ней – и в резиденциях, и во время путешествий. Граф Гогенлоэ прислал ей в 1527 году собрание произведений М. Лютера, переведенных на французский язык протестантами, скрывавшимися в Страсбурге. В мае 1528 года Капитон (известный реформатор, друг Лютера и Цвингли[64]) посвятил королеве свои «Комментарии на пророка Оссию» и в длинном послании подчеркнул, что «взоры всех обращены на нее, что она надежда и упование реформатов и что все от души желают видеть ее торжествующей над теми многочисленными и крупными препятствиями, которые возникают перед женщиной и в особенности перед королевой, как только дело коснется исповедания истины». Однако Маргарита еще не в силах была «торжествовать».
В ночь с 31 мая на 1 июня, перед наступлением Духова дня, в Париже кто-то разбил статую Мадонны, стоявшую на перекрестке двух улиц. Фанатики сразу сообразили, какую пользу можно извлечь из этого кощунственного деяния. Франциск всегда особенно боялся народных волнений. Вот ему и внушили: все идет именно к этому, потому что последователи нового вероисповедания – враги всякого порядка, гражданского и политического.
Народ, возбужденный католическими проповедниками, действительно был возмущен и громко требовал мести за оскорбление святыни. Чтобы его успокоить, по Парижу целую неделю двигались торжественные искупительные процессии, во главе которых находился сам король. Он специально для этого приехал из Фонтенбло и собственноручно поставил на место разбитой статуи другую, из серебра. Католитики торжествовали. Они быстро запустили в народ легенды о чудесах, творимых осколками разбитой Мадонны. Фанатизм требовал кровавых жертв, и в искупление неизвестно кем совершенного злодеяния в столице и в провинции началось избиение всех, кого подозревали в ереси. «Беда на радостях приметно разъяряется», – писал Эразм в октябре 1528 года.
При таких обстоятельствах возобновилось дело Беркена, спасенного милостью короля два года назад. Оно было передано на рассмотрение комиссии, назначенной Франциском с одобрения папы. В этой комиссии находился и знаменитый Гийом Бюде, одно присутствие которого здесь уже дает повод думать: король и на этот раз хотел спасти Беркена и, назначая над ним суд, уступал лишь горькой необходимости, не имея достаточно сил, чтобы бороться с католиками. Маргарита не осталась безучастной к новому бедствию, постигшему ее гонимого друга; она опять обратилась к королю, прося его о заступничестве:
Государь, бедный Беркен, понимающий, что только через Вашу доброту Господь уже два раза спас ему жизнь, отправляется теперь к Вам лично, не имея никого, кому бы он мог поручить засвидетельствовать перед Вами его невиновность. Я не боюсь умолять Вас сжалиться над ним. И если Вам угодно будет принять его дело к сердцу, я надеюсь: истина покажет Вам, что создатели ереси – больше сплетники и ослушники, нежели ревнители веры.
Это выражение «создатели ереси» довольно ясно указывает нам (а в одном из дальнейших писем мы найдем и прямое подтверждение наших слов), что Маргарита возлагала ответственность за происшедшие беспорядки на тех, кому выгодно было создавать ереси для того, чтобы затем уничтожать еретиков. В другом письме она повторяет свою просьбу:
Соблаговолите, Государь, сжалиться над бедным Беркеном, который обрекается на страдания только потому, что любит слово Божие и повинуется Вашим приказаниям. Поэтому-то те, кто во время Вашего отсутствия поступал как раз иначе (то есть не повиновались ни слову Божию, ни воле государевой), возненавидели его, и их лукавство нашло себе ходатая перед Вами, для того чтобы заставить Вас забыть его истинную веру в Бога и любовь к Вам. Вот почему, если Вам не угодно будет выслушать его лично (для чего он к Вам и едет), он будет в отчаянии…
Может быть, Беркену удалось бы спастись и в третий раз, не случись инцидента, вероятно, подстроенного его врагами и окончательно предавшего его в руки инквизиции. Преследователи Беркена нуждались в каких-нибудь доказательствах его ереси и старательно искали их, хотя до сих пор безуспешно, так как обыски ни к чему не приводили. Зная это, Беркен для большей безопасности поручил своему приятелю уничтожить все свои произведения. Рассказывают, что этот человек, проходя там, где была разбита статуя Мадонны, от волнения упал в обморок и в бессознательном состоянии был поднят прохожими. В его карманах обнаружили рукописи Беркена – улики, которые так долго и безуспешно искали. А список чудес, творимых Мадонной (теперь уже серебряной), увеличился еще одним фактом. «Мадонна, – говорили католики, – сама указала на еретика».
Беркен был приговорен к пожизненному заключению, к пробуравлению языка каленым железом и к присутствию при публичном сожжении всех его сочинений. Напрасно Бюде умолял его отречься от своих мнений или, по крайней мере, смягчить их – Беркен оставался непоколебим. Его упорство еще больше разозлило врагов. Парламент изменил первоначальный приговор, назначив вместо пожизненного заключения смертную казнь через сожжение, как особенно упрямому еретику. Этот приговор был вынесен судьями 22 апреля 1529 года – в 10 часов утра, а в полдень его уже привели в исполнение.
Такая поспешность была вызвана опасением нового вмешательства короля в это дело. Франциск находился в это время в Блуа, не подозревая о самовольной расправе сорбоннистов. Когда же он узнал о казни Беркена, гнев охватил его и он вознегодовал и на Сорбонну, и на парламент. Маргарита была в отчаянии. Протестанты оплакивали Беркена как одного из самых великих своих учителей.
Теодор де Без написал:
Если бы Беркен нашел в короле Франции второго Фридриха Саксонского, он мог бы стать французским Лютером.
Чрезмерное рвение Сорбонны имело на короля действие как раз обратное тому, которого она желала. Франциск, раздраженный нарушением его воли, которое сорбоннисты продемонстрировали в случае с Беркеном, снова отвернулся от ультракатолической партии, к которой уже примкнула его мать, и благосклонно взглянул на тех, кто покровительствовал реформаторам, – к ним, кроме его сестры, принадлежали также герцогиня д'Этамп, адмирал Шабо де Брион и братья Дю Белле, друзья и покровители Рабле. Эта перемена в настроении короля выразилась в целом ряде фактов. Возможно, самый важный из них – открытие в 1530 году высшей королевской школы, Коллеж де Франс (Collge de France), которой так долго ждали гуманисты и которая стала для них в некотором роде убежищем от преследований Сорбонны.
В том же 1530 году У. Цвингли счел своевременным прислать Франциску свое второе сочинение – «Краткое и ясное изложение христианской веры». В нем священник предсказал королю, что тот узрит святых, если только будет мудро управлять государством, порученным ему от Бога. В следующем затем перечне святых он смело помещает рядом с отцами церкви героев классической древности. Это характерно для философско-религиозных воззрений швейцарского реформатора.
А. Мартен говорит:
Ученый усмехнется, читая сказочные имена Тесея, Аристида и Катона, но философ с почтением преклонится перед действительно религиозным чувством этого человека, обладавшего широчайшей мыслью и гуманнейшим сердцем Реформации.
Вспомним: терпимость Франциска I по отношению к протестантизму поддерживалась и политическими соображениями. Как раз в это время английский король Генрих VIII вступил в открытую борьбу с папой римским и, нуждаясь в поддержке, искал ее у Франции. С этой целью в октябре 1532 года было устроено свидание между Франциском и Генрихом (в Булони и Кале). Английский король горячо убеждал своего «любезного брата» (как все монархи называли друг друга) последовать его примеру и «свергнуть иго папской тиары». Мысль эта сама по себе нисколько не пугала Франциска и даже казалась ему разумной, но он боялся поспешным решением навсегда лишить себя возможности укрепиться в Италии и – колебался. Его колебаниями воспользовался Климент VII и в следующем, 1533 году окончательно парализовал гибельное для курии влияние Генриха VIII. Но Франциск – до его марсельской встречи с папой – продолжал дружить с Англией, и эта дружба во многом защищала французских протестантов от их врагов.
Итак, 1530, 1531 и 1532 годы можно считать сравнительно благоприятными для Реформации. Правда, отдельные проявления жестокости возникают в разных частях королевства, но в общем отношение к реформаторам становится и мягче, и терпимее.
На юге Франции, и особенно во владениях Маргариты, очагами Реформации являются по преимуществу университеты; среди них важную роль играет университет в Бурже. В 1529 году Маргарита пригласила сюда, на юридический факультет, знаменитого итальянца Альциати,[65] представителя совсем нового направления в изучении юридических наук. Он вступает в борьбу с профессорами-схоластами, впервые пытаясь поставить вопрос о происхождении, соотношении и духе законов на историческую почву. Его слушателями были Кальвин, Без,[66] Дашель и Ано, сожженный за ересь в 1561 году. Говорили, что он знал Юстинианов кодекс так хорошо, как будто сам жил в те времена, и так увлекался, читая лекции, что сухой предмет в его изложении становился увлекательным, иногда даже поэтичным. Случалось, что, пораженный какой-нибудь новой мыслью, он тут же излагал ее стихами, вызывая бурный восторг аудитории. Из пяти непосредственных преемников Альциати по кафедре права, трое, видимо, склонялись к Реформации, а двое открыто перешли на ее сторону.
Из других знаменитых профессоров университета в Бурже нужно назвать Мельхиора Вольмара, немца, приглашенного королевой на кафедру латинского и греческого языков. Он был близок с Лефевром, Русселем, Оливетаном, Доле, Маро и Рабле. Любимыми учениками его были Кальвин и Теодор де Без, что достаточно ясно говорит нам, к которой из двух боровшихся партий он принадлежал по своим убеждениям.
Это была самая блестящая пора в истории Буржского университета: слава его пережила надолго его знаменитых профессоров. Там же начали свою преподавательскую деятельность два стипендиата Маргариты – Жак Амио[67] (знаменитый переводчик Плутарха, воспитатель Карла IX и Генриха III) и Клод Бадюэль (Baduel; уроженец города Нима, ученик Меланхтона[68] и впоследствии ректор Нимского университета).
Маргарита совсем не знала К. Бадюэля, когда 1 июня 1534 года получила письмо от Меланхтона. Знаменитый богослов просил у королевы покровительства и материальной помощи для одного из своих виттенбергских учеников, француза, который по бедности не мог закончить курса наук. Маргарита немедленно откликнулась на эту просьбу и дала Бадюэлю полную возможность завершить свое образование, а затем назначила его профессором; когда в 1539 году ее стараниями в Ниме открылся университет, она перевела своего подопечного туда ректором.
В 1530-х годах обстановка в Бурже и Ниме была такова, что университетские профессора и школьные учителя могли довольно открыто заявлять о своих симпатиях к новому религиозному движению. Более того, известно, что именно в это время Бурж являлся убежищем для многих изгнанников и что в нем «довольно свободно раздавалась евангельская проповедь». Маргарита послала в Бурж своего духовного отца «для того, чтобы возвещать там слово Божие», и горячо благодарила всех граждан за их рвение к богослужению, прося их в то же время особенно заботиться о «евангелическом учении». Тем временем в Ниме шла глухая борьба между городским духовенством и консулатом. Духовенство обвиняло консулов в том, что они недостаточно энергично борются с ересью и что магистратура смотрит на все безобразия сквозь пальцы и даже хотела назначить учителем в школу человека, сильно заподозренного в лютеранстве. Вообще можно сказать, что муниципалитеты консулатских городов отнюдь не всегда являлись защитниками единства католической церкви. Кажется, что желание оградить свою коммунальную автономию и от епископальной юрисдикции, и от вмешательства центральной власти заставляло их часто скрывать, уменьшать и даже терпеть религиозные волнения. Вот в чем, может быть, кроется одна из причин того необыкновенного успеха протестантизма на юге и юго-востоке страны (где особенно царил консулатский режим), который замечается накануне французских религиозных войн.
Несомненная склонность профессоров Буржа и Нима к Реформации не составляла особенности этих двух городов, а проявлялась и в других местах королевства; она наблюдается в высших школах Лиона и Бордо, Орлеана, Тулузы и Парижа. Когда король открыл свой Коллеж де Франс, то оказалось, как сообщает А. Лефран, что почти все профессора, назначенные им по указанию Бюде, более или менее заражены ересью.
Молодая королевская школа, несмотря на все придирки и нападки Сорбонны, сразу возненавидевшей свою соперницу, процветала и разрасталась. Теологи потребовали, чтобы парламент запретил «королевским лекторам» толковать книги Священного Писания, но это ни к чему не привело. Профессора, не смущаясь, продолжали читать свои курсы, постоянно собиравшие большое число слушателей. Еврейский, латинский и греческий языки пользовались наибольшей популярностью, потому что они были равно необходимы как для тех, кто интересовался «чистой» наукой, так и для тех, кто искал религиозную истину и терзался вопросами веры и философии.
Г. Хаузер (франц. Озэ; Hauser) пишет:
Реформация, предписывая каждому христианину составить собственное и продуманное мнение относительно тайн религии, тем самым заставляла каждого воспитывать и образовывать свой ум. Она так же, как и гуманизм, отбрасывала бесплодную схоластику средневековых университетов, это вечное движение ума в замкнутом круге, и заменяла ее методом более свободным, основанным на личной интерпретации Св. Писания. Обращая его в единственное, необходимое и достаточное мерило своих вероаний и поведения, реформаты хотели быть по крайней мере уверенными в том, что владеют истинным, неискаженным словом Божиим в его первоначальной чистоте.
Вот почему им, как и гуманистам, нужно было прежде всего «знание».
Летом 1531 года в Париже поселился молодой ученый, только что окончивший курс юриспруденции в Орлеане и Бурже. В столицу он приехал для занятий филологией и греческим языком. Вскоре имя юноши стало известно всей Европе, ибо это был Жан Кальвин (Calvin). С Жаном особенно сошелся товарищ по занятиям, сын королевского лейб-медика и будущий ректор университета, Никола Коп. Мало-помалу юрист, присматриваясь и прислушиваясь к тому, что волновало тогдашнюю интеллигенцию, сам заинтересовался религиозными вопросами. В душе его началась глухая и мучительная борьба сомнений, лишавшая его всякого спокойствия. Позже он признавался:
Всякий раз, когда я углублялся в самого себя или обращался с молитвой к Богу, меня охватывал такой ужас, что никакие покаяния не могли его рассеять. И чем больше анализировал я себя, тем острее становились терзания моей совести.
Но Кальвин был не такой человек, чтобы остановиться на полпути, поэтому искал выход из своего мучительного состояния и не успокоился, пока не нашел его. Во второй половине 1532 года он решительно вступил в кружок парижских реформатов и через некоторое время стал играть там ведущую роль. Он сам говорил об этом:
Все, что было предано чистому учению, собиралось вокруг меня, чтобы поучаться.
Чаще всего Кальвин проповедовал в доме своего друга – купца Делафоржа. Его пламенное и убежденное слово, его строгая последовательность и неумолимая логика производили неотразимое впечатление на слушателей. Он познакомился с Ж. Русселем, благочестие которого, по его собственному признанию, вызывало в нем удивление, а «пример был необыкновенно полезен».
Наступил Великий пост 1533 года. Франциск уехал из столицы, оставив там короля и королеву Наваррских. Руссель находился с ними. Маргарита нашла возможным устроить в своем помещении, в Лувре, открытую проповедь евангелического учения. Ежедневные беседы Русселя, объяснявшего Святое Писание по-французски и притом простым языком, привлекали огромные массы народа.
Теологи пытались донести на Русселя как на еретика, но Франциск не захотел их даже слушать, а епископ Парижский, кардинал Жан дю Белле, один из самых просвещенных и гуманных людей своего времени, отнюдь не склонен был поддерживать интриги и козни фанатиков. Тогда сорбоннисты начали обличать с кафедры не только королеву Наваррскую, но даже епископа Парижского и самого Франциска I, называя их сообщниками и покровителями еретиков. Больше всех шумели Ле Пикар и синдик Беда. Последний, не смущаясь, говорил, что для того чтобы искоренить ересь, надо уничтожить прежде всего ее «высоких покровителей», очевидно, намекая на Маргариту. Другие по его примеру рассказывали с кафедры: сестра короля не только прикрывает своих друзей-единомышленников, но и какими-то чарами внушает к ним симпатию и королю Франциску, и своему супругу, королю Наваррскому, убедив их, что «лютеранство не есть ересь». Говорили также: если Франциск не перешел еще окончательно в протестантство, то только благодаря маршалу Монморанси.
Маргарита, примкнув к реформатам, стала врагом Монморанси. Пользуясь своей близостью к королю, он пытался посеять в его душе недоверие к сестре. Маршал убеждал Франциска, что реформаты заняты не столько вопросами религии, сколько замыслами против общественного и государственного порядка, поэтому нужно искоренить ересь, как бы ни было высоко положение затронутых ею лиц. Намек был довольно прозрачен, но маршал не решался еще прямо называть Маргариту. Вскоре при дворе стало известно об истинном отношении маршала Монморанси к королеве Наваррской – ни для кого, кроме нее самой, это не составляло тайну. Весьма вероятно, что Сент-Март намекал именно на маршала, когда говорил «о черной неблагодарности некоторых лиц, которые, будучи особенно любимы, ласкаемы и ценимы Маргаритой, употребляли все средства, чтобы исподтишка восстановить против нее брата и мужа».
Дерзость католических проповедников достигла наконец совершенно невозможных размеров. Во владениях самой Маргариты нашелся монах, с церковной кафедры советовавший «зашить королеву в мешок и утопить в Сене». Узнав об этом, Франциск возмутился за свою сестру. Она же относилась равнодушно к неистовствам католиков, пока эти неистовства касались только ее личности. По приказу короля проповедник был схвачен и судим за оскорбление величества; его присудили к тому самому наказанию, которое он придумал для своей королевы. Но королева не допустила того, чтобы совершилась такая жестокость: по ее настоянию Франциск смягчил приговор, заменив его всего только двумя годами ссылки на галеры.
Однако даже и это не успокоило врагов Маргариты. В ней они видели оплот и силу протестантской партии. Голос Маргариты заглушал голоса теологов и Беды, ее влияние перевешивало влияние Монморанси. Надлежало направить все усилия именно против нее и доказать королю, что она еретичка и ее деятельность ведет к гибели церкви, а это приведет к гибели государства. Католики пустили в ход все средства и с диким фанатизмом обрушились на королеву Наваррскую. Например, в первых числах октября 1533 года в одном училище был разыгран фарс, показывавший Маргариту и Жерара Русселя. Пьеса начиналась изображением королевы, занятой пряжей, как подобает всякой женщине и доброй хозяйке. В это время к ней подходит Мегера и с целью соблазнить протягивает ей Евангелие. Едва только королева взялась за эту книгу, как сразу обратилась в фурию, бросила домашние занятия и направила свои силы на угнетение «несчастных и невинных» (то есть католиков). Это представление вызвало бурный восторг публики и гром рукоплесканий. На нем присутствовали теологи из Сорбонны. Пьесу, хотя она была примитивной и нисколько не остроумной, велели напечатать для удобного ее распространения в публике.
Понемногу борьба, завязавшаяся между двумя религиозными партиями, охватывала все больше людей, и вскоре все население столицы начало глухо волноваться. Католики только этого и желали. Им во что бы то ни стало нужно было доказать королю, что протестанты не только церковные реформаторы, но и революционеры и что их учение колеблет все устои государственной жизни и неизбежно влечет за собой нарушение общественного спокойствия и всевозможные беспорядки. Католические проповедники удвоили свое рвение, и в церквях вместо слов любви и примирения слышались только призывы к мщению и возгласы яростной вражды. Но они не устрашали Маргариту.
Как раз в это время (в 1531 году – в Алансоне, в 1533-м – в Париже) Маргарита Наваррская выпустила в свет стихотворную книгу «Зерцало грешной души» (Le miroir de l'me pcheresse). Она вызвала в Сорбонне целую бурю осуждения за еретические взгляды. Королева обратилась к Франциску. Он потребовал отчета у Сорбонны, за что именно осуждена книга. Королевский духовник объявил, что он не находит решительно ничего еретического в произведении королевы Маргариты и не согласен с цензурой Сорбонны. Опасаясь гнева короля, в Сорбонне к его мнению присоединились все.
Что же за ереси проповедовала Маргарита в своем небольшом сочинении? В авторском обращении к читателям, предпосланном поэме, выражена цель: показать, во-первых, что делается с человеком, когда Господь захочет его спасти и для этого ниспошлет ему дар благодати, то есть веру, и, во вторых, – каково человеческое сердце само по себе, до получения веры, которая одна дает нам силу познать доброту, мудрость и могущество, то есть Бога. «Зерцало» начинается с провозглашения одного из основных догматов протестантской церкви – об оправдании благодатью и верой. Этот догмат давал теоретическое основание для борьбы протестантов против папских индульгенций.[69] Как известно, католическая церковь утверждала, что хотя заслуги Христа и достаточны для спасения всего рода человеческого, но к этому небесному сокровищу постоянно пибавляются еще заслуги святых, совершивших больше подвигов, чем требовалось для их личного спасения. Из этого-то запаса «избытков» добрых дел, распоряжение которым предоставлено наместнику Христову, папа и может отпускать грехи, кому он захочет. Протестантизм же учил, что спасение всех и каждого обусловлено не личными добрыми делами, а только милостью Божией, дающей человеку истинную веру, которая и спасает его. Добрые дела бессильны для нашего спасения, а потому никакой «сокровищницы» у папы нет и никаких грехов он отпустить индульгенциями не может.
Этого одного уже было бы совершенно достаточно для того, чтобы глубоко возмутить Сорбонну, которая, конечно, верно оценила книгу Маргариты, увидев угрозу своему благополучию.
Маргарите некогда было думать о себе: она была всецело поглощена судьбой Ж. Русселя (арестованного во время волнений, возникших по поводу речи Н. Копа) и Ж. Кальвина (судимого парламентом). Речь, написанная Кальвином, была произнесена его другом, ректором Копом, 1 ноября 1533 года на ежегодном торжественном собрании университета. Она развивала учение об оправдании благодатью, задевала попутно теологов и схоластиков, именуемых «софистами». Коп был обвинен в ереси и бежал в Базель; его голова, живого или мертвого, была оценена в 300 экю. Кальвин бежал в Нерак к Маргарите.
Маргарита в который уже раз обратилась к брату. Желая лично убедиться, насколько справедливы обвинения, возводимые на Русселя, Франциск устроил диспут между Русселем и Бедой; последний был разбит по всем пунктам. Вскоре после этого Беда вместе с двумя товарищами за памфлет, направленный против короля, был обвинен в оскорблении величества и заключен в тюрьму, а потом отправлен в ссылку, где и кончил свои дни в 1537 году.
Франциск и Маргарита летом 1534 года обратились письменно к Меланхтону и пригласили его приехать в Париж, чтобы с местными богословами обсудить некоторые спорные вопросы. Меланхтон охотно откликнулся на призыв, но Сорбонна возмутилась этим проектом и, испугавшись того благоприятного впечатления, которое, по всей вероятности, произвел бы на короля немецкий реформатор, послала к Франциску депутацию с целью доказать ему: будет гораздо удобнее спорить письменно, а не устно; ей, Сорбонне, вообще не пристало дискутировать со схизматиками. Таким образом, приезд Меланхтона в Париж затянулся, и удобный для этого момент был пропущен навсегда.
В октябре 1534 года Франциск находился в Блуа. Выйдя утром из своей комнаты, он увидел приклеенное к дверям воззвание (плакард) антикатолического содержания. Гнев его был беспределен. Франциск усмотрел в этом не только средство религиозной борьбы, но и личное оскорбление: какие-то люди имели дерзость проникнуть в глубь его дворца, чуть не в его спальню, для того чтобы в грубых и непристойных выражениях глумиться над религией, к которой принадлежал он сам – «Христианнейший король»! Вскоре стало известно, что такие же плакарды вывешены были во многих местах.
Маршал Монморанси, два брата Гиза и жестокий фанатик кардинал де Турнон (Tournon) воспользовались гневом короля, поклявшегося жестоко наказать виновных, и еще подлили масла в огонь, уверив Франциска, что все это – начало анабаптистского движения,[70] что в столице очень много анабаптистов и что они собираются сжечь все церкви и разграбить Лувр. К негодованию на неслыханную дерзость смельчаков в душе короля прибавился еще слепой страх перед народным бунтом.
Было назначено денежное вознаграждение тем, кто выдаст виновных. К 10 ноября все тюрьмы переполнились и было уже подписано семь смертных приговоров. Тогда изобрели всякие приспособления для мучений казнимых. Их вешали, например, над кострами на блоках и затем медленно подымали и опускали в пламя. Гонения, начавшиеся в Париже, скоро распространились по всему королевству, и ужас охватил протестантов, которым некуда было бежать, кроме владений Маргариты или соседних протестантских государств. Пытки и казни продолжались полгода без перерыва.
Маргарите не удавалось на этот раз смягчить гнев брата. Франциск был беспощаден. 13 января 1535 года он издал эдикт об уничтожении всех типографий – как средств распространения ереси. Правда, вскоре он опомнился и сам приостановил (26 февраля) действие своего указа. 21 января в Париже совершилась грандиозная искупительная процессия, закончившаяся трапезой в епископском дворце, во время которой король возбужденно произнес речь о своей преданности единой католической церкви и поклялся пожертвовать своими собственными детьми, если окажется, что они заражены «лютеровой ересью». Торжество завершилось сожжением шести еретиков; присутствовали в качестве зрителей король с королевой, окруженные своими придворными. В то время это не казалось чем-то необычным. Как правило, вместе с еретиками сжигали и все их крамольные рукописи и книги. Вот почему (из-за отсутствия многих документов) теперь довольно трудно восстановить с точностью историю французских протестантов-мучеников.
«Много и других еретиков было сожжено в последующие дни, – рассказывает очевидец, – так что в Париже только и видны были что столбы, торчавшие в разных местах и пугавшие народ». Мужество, с которым умирали протестанты, предварительно измученные страшными пытками, возбуждало в толпе любопытных удивление и даже сочувствие.
Газета «Парижский обыватель» (Journal d'un bourgeois de Paris), говоря об ужасных карах, налагавшихся королем на лютеран, сообщала:
Сам папа написал ему, что хотя он, папа, и уверен в том, что король это делает из добрых побуждений, однако, когда Господь был на земле, то больше употреблял милосердие, нежели суровое правосудие, и что сожжение живого человека – ужасно жестокая казнь. Вот почему святой Отец просит и убеждает короля утишить свою строгость и рвение, и помиловать их…
Но увещания папы не сразу подействовали на Франциска. Чтобы достойно закончить «очищение» столицы и страны от ереси, 29 января 1535 года был издан эдикт, по которому те, кто принимал и укрывал у себя протестантов, приравнивался перед судом к ним самим, а всякий доносчик на еретика получал четверть его конфискованного имущества. Понятно, что последняя мера значительно увеличила число обвинений… Уже через несколько дней парламент потребовал к ответу 73 человека, в числе которых находился и Клеман Маро, который, едва узнав об этом, скрылся сначала в Беарн, а потом в Феррару.
К весне гонения на реформатов несколько поутихли. Король, подумав, что его действия могли произвести крайне неблагоприятное впечатление на союзников, немецких протестантских князей, принял меры, чтобы оправдаться в их глазах. Он сам написал им, что все казненные были бунтовщиками и анабаптистами, прикрывавшимися только именем Лютера; приказал выпустить всех немецких подданных и снова, обратившись к Меланхтону, пригласил его в Париж.
Несмотря на эти уступки в пользу протестантизма, можно сказать, что с этого времени (1534–1535 годы) началась черная полоса в истории французской Реформации: систематические и серьезные гонения, раскол между гуманистами и реформатами. Период, когда всякий ученый непременно оказывался более или менее протестантом, уже миновал. Теперь те гуманисты, которые даже и сочувствовали в душе новому религиозному движению, глубоко таили свои симпатии, боясь поплатиться за них жизнью и предпочитая пользоваться некоторыми из новшеств, внесенных протестантизмом, не отказываясь, однако, и от тех преимуществ, которые им давала прежняя система. Любя больше всего уединение и тишину своих рабочих кабинетов, они уже полагали, что должны существовать две религии: одна – для простого народа, другая – для философов, а последним так же мало годился протестантизм, как и католичество. В конце концов, они не поддержали ни реформированную, ни римскую церковь, но им принадлежит честь сохранения «сокровища свободной мысли».
Глава 11
Высокое покровительство
Отношение Франциска I к реформатской церкви резко изменилось с началом «дела плакардов». До 1534 года король еще не решается безусловно поддерживать католиков, которые, преследуя еретиков, преследуют в то же время и ученых. Но вот он становится открытым врагом Реформации, окончательно подчиняется гибельному влиянию Монморанси и кардинала де Турнона, является слепым орудием в руках ультракатолической парии. После искупительной процессии по Парижу, после эдиктов об уничтожении типографий и о наказании за укрывательство протестантов можно утверждать, что прежнего Франциска, который был покровителем наук и искусств, уже больше нет.
Религиозным преследованиям теперь подвергаются не только те, кого называют еретиками, но и поэты, и ученые. Многие бежали из Парижа. Руссель поспешил уехать в Наварру, Амио нашел убежище в Бурже (у Маргариты), Кальвин вернулся в Париж в мае 1534 года и бежал в ту же осень через Страсбург в Базель.
Клеман Маро был вызван парламентом на суд, когда он находился в Блуа. Уверенный в том, что ему удастся доказать свою полную непричастность к «делу плакардов», поэт уже собирался ехать в столицу, как вдруг получил известие, что у него на квартире, в Париже, произвели обыск и нашли компрометирующие его книги. Видя Франциска слишком раздраженным, чтобы хоть сколько-нибудь рассчитывать на его заступничество перед Сорбонной и парламентом, Маро бежал в Наварру. Но и там он оставался недолго – вскоре покинул Наварру по совету самой Маргариты и отправился искать убежища во владениях Ренаты Феррарской, близкого ей человека.
Рената Феррарская – дочь Людовика XII и Анны Бретонской, родилась 25 октября 1510 года. В детстве принцесса училась у Лефевра д'Этапля и постоянно переписывалась с Маргаритой. В 1528 году она стала женой герцога Эрколе (Геркулеса) д'Эсте. По примеру Маргариты, которую она очень любила, Рената покровительствовала ученым, поэтам, художникам и реформаторам. В особенности она благоволила французам, для которых двери ее дворца всегда были гостеприимно открыты. Вот и Клемана Маро молодая герцогиня приняла очень радушно, хотя прежде не знала его лично. В июле 1535 года он получил место ее секретаря.
Гонения, которым Маро подвергся во Франции, докончили его обращение в протестанта. И он, найдя герцогиню очень подготовленной к принятию нового вероучения, начал сильно на нее влиять. Герцог Феррарский совсем не знал Маро и потому не препятствовал своей супруге в решении принять к себе на службу «галльского поэта», от которого не ждал ничего, кроме безобидных стихов и остроумных эпиграмм. Поэтому он не обратил внимания на донесения своих дипломатов, уведомлявших его, что «некий француз, по имени Клеман, недавно поселился у светлейшей герцогини, будучи изгнан из Франции за лютеранство, и что этот человек очень способен привить ей язву ереси». Опасения послов сбылись. Вскоре маленькая Феррара оказалась прибежищем для всех, кто не мог оставаться во Франции из-за своих взглядов и убеждений. В марте 1536 года к Ренате приехал Кальвин. Герцогиня с радостью встретила его, подолгу беседовала с ним и вскоре стала его последовательницей. Таким образом, Кальвин докончил то, что успешно начал Маро.
Неожиданный случай нарушил установившуюся жизнь феррарского кружка. 14 апреля 1536 года во время торжественного богослужения один певчий вышел из церкви с громкими богохульствами. Он был француз родом и принадлежал к ревностным ученикам Маро. Началось дело. Трое из приближенных герцогини Ренаты были арестованы; имена двоих известны – Zanetto и Carnillon, что касается третьего, имя которого старательно выскоблено во всех документах по этому делу, то здесь мнения историков расходятся: некоторые полагали, что это был сам Кальвин, другие называли каноника дю Тийе (Tillet), наконец А. Лефран в этюде «О религиозных воззрениях Маргариты» доказывает, что этот таинственный узник был не кто иной, как сам Маро.
По поводу инцидента завязалась переписка Ренаты с французским двором и с Маргаритой, которая, конечно, принялась хлопотать за феррарских заключенных. Лефран доказывает, что именно своему любимому поэту Клеману Маро королева Наваррская не раз писала в феррарскую тюрьму, утешая его и обещая скорое избавление. Историк обращает внимание на одно произведение Маргариты – «Жалоба узника» (Complainte pour un dtenu prisonnier). Оно представлялось исследователям загадочным и вызывало самые разнообразные толкования (предполагали, что этот узник – сам Франциск, или Жерар Руссель, или Беркен). От имени кого же писала Маргарита свою «Жалобу»? Вот вопрос, неизбежно возникающий при чтении этого небольшого произведения, и разрешению этого вопроса Лефран посвящает целую статью. Он приходит к выводу, что «Жалоба» написана королевой за поэта Маро, который сидел в феррарской тюрьме.
Известно, что поэту удалось бежать с помощью герцогини Ренаты и французского посла, и он укрылся в Венеции. Однако Маро здесь скоро стосковался, и его неудержимо потянуло на родину. Ответом на его послания к королю и к дофину было разрешение вернуться во Францию с условием публично покаяться и «жить по-христиански». Маро согласился и был принят в Лионе кардиналом де Турноном, после чего отрекся от всех своих прежних «заблуждений». В Парижской национальной библиотеке хранится письмо кардинала де Турнона к маршалу Монморанси от 14 декабря 1536 года:
Monsieur Clment Marot est depuis quelques jours en cette ville [Lyon] qui est venu en bonne volont. Il me semble de vivre chrtiennement; il a dlibr de faire abjuration solennelle devant moi et devant le vicaire de Monsieur de Lyon.[71]
Но благополучие, купленное такой ценой, оказалось непрочным и недолгим. К. Маро – по совету и с помощью своего друга, профессора высшей королевской школы Ф. Ватабля – принялся переводить псалмы, за которые он брался и раньше. Успех был неслыханный. Псалмы распевали с утра до ночи решительно все, причем каждый подбирал к словам любой мотив, нисколько не стесняясь степенью его пригодности к духовному содержанию. Маро поднес даже экземпляр своего перевода Карлу V, проезжавшему в 1539 году через Париж в Нидерланды, и получил от него за это в награду 200 золотых. Однако (несмотря на явное покровительство короля) Сорбонна негодовала на переводчика, дерзнувшего взяться за одну из священных книг; по ее мнению, перевод на французский язык лишал Библию всякого священного значения, а потому это могло быть только делом еретика. Казалось подозрительным и то обстоятельство, что перевод сделан с помощью ненавистного Сорбонне профессора-семитолога.
Приложив некоторое старание, сорбоннисты «открыли ереси» в переводе псалмов и на основании этого открытия послали королю просьбу запретить поэту продолжение начатого им труда. Франциск не сразу согласился, но все же уступил. Это не предвещало ничего доброго поэту; он испугался новых гонений, новых опасностей, надвигавшихся на него, и бежал в Женеву (в 1543 году), думая там найти больше терпимости к убеждениям, больше свободы мысли. К несчастью, он ошибался. Женевский диктатор был страшнее Сорбонны. Маро не мог оставаться в городе Кальвина и переселился в Турин, где в следующем году и умер на руках у своего верного друга Лиона Жане, который вырезал на его могиле десятистишие, кончающееся гордым девизом поэта: «La mort n'y mord!»[72] Таков финал жизни человека, которым должна была бы гордиться Франция XVI века.
Титульный лист издания К. Маро (Лион, 1558 год)
Другой большой поэт и друг Клемана Маро, Бонавантюр Деперье, был секретарем (и так же, как Маро, другом) Маргариты. Мы уже говорили о том, какое глубокое влияние имела она на развитие его таланта, какое светлое и поэтическое чувство сумела она внушить человеку, заклейменному именем безбожника, не имеющего ничего святого, ничего заветного в душе. Мы сказали также, что некоторые из его произведений дышат искренним религиозным чувством и что пробуждение этого чувства должно быть приписано опять-таки королеве, его покровительнице. Как же объяснить тогда появление из-под пера Деперье такого произведения, как «Кимвал мира»? Оно сразу прославило автора дерзкой смелостью, возмутив и католиков, и протестантв. Все выступили против, все голоса (в первый раз совпали мнения Кальвина и Сорбонны) слились в один негодующий хор. Книгу запретили, хотя самого автора и не тронули – благодаря заступничеству Маргариты.
«Кимвал мира» был первым французским сочинением, прямо указавшим на существование наряду с двумя теологическими партиями (католической и протестантской) третьей группы – свободных мыслителей. Вначале Деперье примкнул к новому религиозному движению. Как мы знаем, он участвовал даже в издании Библии Оливетана и переводил псалмы и кантики. Но с каждым годом ему становилось все яснее и яснее, что Реформация, выливавшаяся во Франции в конце 1530-х годов в мрачную и нетерпимую догматику Кальвина, становилась такой же сухой, такой же фанатичной, как и само католичество. Деперье выступил против них с четырьмя маленькими диалогами, в которых беспощадно высмеял всех «верующих» своего времени, которые все, в конце концов, «опирались одной рукой на алтарь, а другой – на плаху». В «Кимвале» было выражено, что «всякая вера есть утверждение того, чего никто не знает и знать не может»; что «все теологи похожи на дерущихся детей»; что «ни Лютер, ни Буцер не изменят строя мира и что после них, как и до них, останутся те же бедствия, те же злоупотребления»; что «за реформаторами идут только до тех пор, пока они – своего рода новинки». Понятно, что такие заявления не могли не задеть. Поэтому книгу назвали самой вредной и возмутительной. Но это не смутило ее автора. Будто подзадориваемый всеобщей враждой, Деперье переиздал свое сочинение в конце года, из-за чего он был удален от двора Маргариты, которая, находясь в это время в открытой ссоре с Сорбонной, не могла защищать его и принуждена была сделать эту уступку общественному мнению. Деперье уехал в Лион, но Маргарита не прекратила общаться с изгнанником, продолжала интересоваться его судьбой и постоянно помогала ему при посредстве своей фрейлины де Сент-Патер.
Деперье страстно хотелось вернуться к своей покровительнице, несмотря на то, что в Лионе он нашел своих старых друзей и знакомых, блистательнейших представителей тогдашней науки, литературы и искусства, постоянно собиравшихся в салоне мадам дю Перрон, супруги Антуана Гонди.
Титульный лист книги Б. Деперье «Кимвал мира» (1537 год)
В 1541 году его надежды оживились. В сентябре в Лион прибыл весь двор, сопровождавший Франциска и его сестру. Деперье воспрянул духом и настойчивее прежнего стал умолять королеву о возвращении ему доверия и о зачислении его снова в штат наваррского двора. В октябре ему выдали 110 ливров в качестве камер-юнкерского жалованья. Это возвращение милости поэту сильно не понравилось многочисленным его врагам. Королеву обвиняли в чрезмерной доверчивости, снисходительности и даже в некотором легкомыслии, ее упрекали за то, что «она поддерживает своими средствами, благосклонностью и расположением тех лиц, которые подозреваются одни в нарушении католической религии, другие в совершенном презрении к ней». Никто из обвинителей не мог понять Маргариту и ее терпимость даже по отношению к тем, чьи воззрения она не разделяла. Только Ш. де Сент-Март верно оценил мотивы, руководившие поступками Маргариты:
Королева твердо помнила ответ Аристотеля своему другу. На вопрос последнего – зачем он подал милостыню дурному человеку, философ возразил:
– Я дал эти деньги не порочному человеку, а человечности.
Недаром Маргариту называли «пристанью и убежищем всех несчастных»: она смело и открыто шла на помощь всякому человеку, не спрашивая о его философских и религиозных теориях, но веря, что если только они искренни и бескорыстны, в них всегда найдется доля безусловной истины, к которой, в конце концов, все одинаково стремятся.
Деперье недолго наслаждался вновь обретенной милостью своего друга и покровительницы. В 1544 году он окончил жизнь самоубийством. Невозможно сказать, что побудило его к этому: было ли это результатом его философского мировоззрения, или же нашлись какие-нибудь частные причины, завязавшие перед ним сложный узел, который он не мог развязать иным способом.
Смерть прервала его работу по подготовке к изданию полного собрания своих сочинений – собрания, которое он посвятил Маргарите. Оно вышло в свет уже после смерти автора под редакцией его приятеля, Антуана Дюмулена, тоже секретаря королевы. Дюмулен исполнил последнюю волю поэта и украсил издание посвящением – надписью, долженствовавшей выразить чувства Деперье к Маргарите. Ей завещал поэт единственное свое богатство – свои рукописи.
В 1545 году Кальвин написал трактат «Против либертинов[73]», в котором указывал на то, что Маргарита допускает людей этой категории к себе и что они совращают ее с пути истины. К нему был приложен другой (небольшой) «Трактат, указывающий, что должен делать верный человек, познавший евангельскую истину, когда он находится среди папистов». Здесь Кальвин строго разбирал и критиковал всех людей, окружавших Маргариту, распределив их по классам. Тут говорилось о протестантах, которые, для того чтобы угодить своим покровителям или чтобы сохранить свои бенефиции, соглашались служить мессу под тем предлогом, что это вещь внешняя и безразличная (намек на Русселя); говорилось о вельможах и царедворцах, которые, пожалуй, и перешли бы в новое вероисповедание, если бы оно не мешало им предаваться всякого рода удовольствиям и наслаждениям; упоминалось об ученых и гуманистах, которые только в теории желают церковной реформы, но ничего не делают для этого и создают «свою собственную религию» при помощи платоновских идей, считая себя выше всяких внешних форм. Нападки, казалось, были прямо направлены против королевы. Естественно, что оба эти трактата, написанные человеком, которого она ценила, защищала и укрывала у себя в пору гонений, произвели на нее тяжелое впечатление. Это дошло до Женевы, и Кальвин написал (ставшее знаменитым) письмо к Маргарите. Это письмо мы приводим целиком ввиду его особенной ценности как для характеристики королевы, так и для характеристики самого реформатора.
Я получил от одного человека письма, которые будто бы написаны по Вашему приказанию. Судя по их тону, мне кажется, что моя книга о «либертинах» не заслужила Вашего одобрения. Я огорчен тем, что огорчил Вас, но, может быть, это огорчение на пользу; может быть, это то огорчение, о котором говорится, что не надо бояться причинять его? Тем не менее я не могу постичь, почему Вам так не понравилась эта книга. Тот, кто мне пишет, объясняет это тем, что она будто бы направлена лично против Вас и против друзей Вашего дома. Что касается первого пункта, то мне никогда и в голову не приходило нападать на Вас и таким образом нарушать то почтение, которое Вам обязаны оказывать все благочестивые люди… Я знаю те особые дары благодати, которыми так щедро одарил Вас Господь и которые Вы употребляли на укрепление и распространение царства Его на земле. Всех этих причин совершенно достаточно, чтобы я относился к Вам с полным уважением. Будьте уверены, что те, кто восстанавливает Вас против меня, делают это не для Вашего блага, а для того, чтобы ослабить ту искреннюю привязанность к церкви Божией, которую Вы всегда к ней имели. Что же касается до круга Ваших обычных друзей, я не могу не пожелать, чтобы Ваш дом был более достоин называться истинной семьей Иисуса Христа. Между тем некоторые из них заслуживают скорее имя служителей дьявольских, и не только служителей, но даже и сотрудников его. Вы, конечно, не ждете от меня измены доверенному мне делу распространения Евангелия ради угождения Вам… Тот, кто писал мне, говорит, что Вы не нуждаетесь в таких слугах, как я, что они Вам бесполезны и неприятны. Это справедливо: я сам сознаю, что не могу быть Вам полезен, и мне кажется, что Вы действительно не нуждаетесь в человеке моего склада. Но не преданности Вам не хватает у меня: даже если бы Вы совершенно отвергли меня и пренебрегли мной, я все-таки сохранил бы к Вам прежнюю свою постоянную привязанность. Те, кто меня знает, могут удостоверить, как мало я ищу благоволения королей: для меня достаточно быть допущенным на службу великого Господа…
Как только я получил письмо, я поторопился ответить, опасаясь, как бы Вы не охладели из-за меня к святыне. Да сохранит Вас Господь Иисус Христос, и да внушит вам Духом Своим продолжать тот путь, который он предначертал Вам, с прежним рвением и осторожностью.
28 апреля 1545 года.
Но и это письмо Кальвина не заставило королеву изменить своему привычному образу действий. Не внимая увещаниям реформатора точно так же, как и угрозам Сорбонны, она продолжала защищать и спасать всех, кто искал у нее помощи и защиты.
Глава 12
Тяжелые события
Маргарита и во втором своем браке не нашла счастья. Генрих Наваррский обращался с королевой не только резко, но по временам даже грубо, так что Франциску приходилось вмешиваться в их распри и усмирять гнев несдержанного Генриха. К тому же он был ужасно ревнив.
В семейной жизни королевской четы наступил очень трудный момент, когда возник вопрос о замужестве их дочери. Отношения Генриха и Маргариты тогда так обострились, что посланники докладывали об этом в своих донесениях. Дескурра писал Карлу V, что Генрих Наваррский пригрозил Маргарите «такой несчастной старостью, какой еще не видывала ни одна женщина, если она выдаст его планы королю Франциску».
Герцогский замок в Алансоне
Жанна была у них единственным ребенком. Рождались и другие дети, но все они рано умирали. Да и жизнь Жанны, слабенькой и болезненной девочки, не раз висела на волоске. Детские годы она провела в имениях своей матери, в замках Лонгре, Блуа и, главным образом, в Алансоне, любимой резиденции Маргариты, где сама она, даже будучи уже королевой Наварры, проводила немало времени. Жанне здесь, в Алансоне, было раздолье. К замку примыкал огромный старинный парк, в котором девочка чувствовала себя полной госпожой и в одном из уголков которого у нее было свое хозяйство: ручная белка, попугай и семейство индеек (эти крупные птицы тогда только что были завезены в Европу и представляли из себя заморскую редкость).
Жанну рано начали учить. Маргарита хотела дать ей отличное образование и потому поручила это дело одному из первых латинистов своего времени, поэту Никола Бурбону. Сохранилось несколько учебников, написанных им для своей ученицы. Он преподавал по-новому, не так, как учили в тогдашних школах; казалось, он взял себе за образец учителя, выведенного в романе Рабле (Понократ). Во время прогулок он начинал свое объяснение по поводу виденного или слышанного, и незаметно, без труда девочка знакомилась с окружавшим ее миром. Через некоторое время Жанна, подчиняясь моде и примеру своего наставника, сама стала описывать в стихах то, что особенно поражало ее детское воображение.