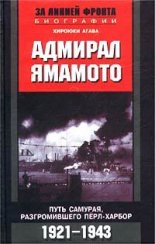Гроб хрустальный. Версия 2.0 Кузнецов Сергей
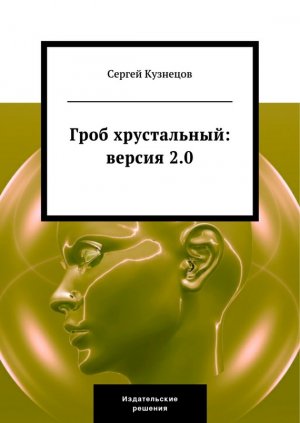
– Если Вольфсон гитару отдаст, – сказал Емеля. – И тогда я тебе спою чего-нибудь из Визбора.
На кухне Абрамов и Феликс пили шампанское из чайных чашек.
– Блядь, – сказал Феликс, – я даже не верю, что это все кончилось. Больше – никакой школы.
– Ну, – сказал Абрамов, – ты за этот год не перетрудился.
– Ты думаешь, это было легко? – ответил Феликс. – Встаешь с утра, собираешься, выходишь из дома и едешь в центр смотреть кино. Или идешь в соседний подъезд и ждешь, пока родители уйдут.
– Страдалец ты наш, – рассмеялся Абрамов. – Ходил бы тогда в школу.
– Я, честно говоря, даже звонок не мог слышать.
– Ну, самым приятным был последний, – ответил Абрамов. – Звенит звонок, настал конец.
Это была старая шутка, тестовый вопрос. Надо было продолжить фразу: "Звенит звонок, настал…". Все девочки говорили "урок", а мальчики, разумеется, "пиздец". Одна Светка почему-то ответила "шнурок", чем подтвердила свою репутацию милой дурочки.
Спустя много лет, вспоминая выпускную ночь, Глеб с изумлением обнаружил, что помнит, какие пели песни – но не может вспомнить ни одной реплики. Слова живых людей отпечатались в мозгу хуже, чем стихи под гитару. Он не помнил, о чем говорили сидевшие рядом Светка с Иркой, но хорошо запомнил, как Вольфсон перешел на Галича и запел "Левый марш":
- И не пуля, не штык, не камень
- Нас терзала иная боль.
- Мы бессрочными штрафниками
- Начинали свой малый бой.
- По детдомам как по штрафбатам
- Что не сделаешь – все вина.
- Под запрятанным шла штандартом
- Необъявленная война
Опьяневший Глеб слушал и понимал, что это песня про них. Малая война, которую они все вели против Советской власти, под запрятанным штандартом, на котором была нарисована эмблема их школы и написано "Курянь – дрянь", с машинкой "Эрика" вместо пулемета, с папиросной бумагой вместо пулеметной ленты.
- Левою, левою, левою
- Левою, шагом арш!
Чака можно считать первой жертвой этой необъявленной войны. Сволочи, пьяно думал Глеб, чекистские выродки, доконали человека! Я вам этого никогда не прощу. Если бы я не был мальчиком из интеллигентной еврейской семьи, я бы проклял вас до девятого колена. Ненависть поднималась в его душе. Испепеляющая, очищающая ненависть. Всю жизнь пронести с собой, всю жизнь подчинить этой борьбе. Он был готов к пятидесяти годам необъявленных войн, потому что знал, что эта власть – навсегда. На дворе был 1984 год, казавшийся Оруэллу столь далеким и оказавшийся таким близким для них всех. Амальрик, предсказывавший, что Советский Союз до него не доживет, не дожил сам, убитый КГБ в Италии. Впереди была жизнь, полная безнадежной борьбы, – и сама безнадежность придавала особый смысл и борьбе, и жизни.
- И ничто нам не мило, кроме,
– пошел Вольфсон на последний куплет, -
- Поля боя при лунном свете
- Говорили – до первой тройки
- А казалось – до самой смерти.
Глеб как-то спросил Вольфсона, что значат эти слова, и Вольфсон объяснил: в сталинские времена за двойки по общественно-политическим можно было загреметь в исправительную спецшколу. И там держали до первой тройки, а если только двойки получал – то прямиком в лагерь, а потом – в штрафбат и на фронт. В эту версию Глеб, честно говоря, мало верил, но образ школы, которая длится до первой тройки так долго, что кажется – до самой смерти, часто приходил на ум в десятом классе.
Вольфсон отложил гитару и попробовал почитать Галича стихами – все шло по плану, но немножко наспех, а впрочем, все герои были в яслях, – но его быстро заткнули. Ирка давно хотела танцевать, затребовала музыку и, взяв Емелю за руку, пошла с ним в полутемный угол, где уже топталась Светка со своим кавалером. Глеб поднялся и пригласил Оксану.
Они танцевали обнявшись и, осмелев от выпитого, Глеб нагнулся и тихонько поцеловал Оксану в шею. Оксана засмеялась и покачала головой. Глеб чуть отстранился, и они продолжили неторопливый танец.
Марина встала и, тяжело вздохнув, вышла в коридор. Ей не хотелось танцевать – да, собственно, и не с кем. Тошнило все сильнее – видимо, сказалась водка. Марина вошла в туалет, заперлась и нагнулась над унитазом. Через тонкую стенку слышались пьяные голоса Феликса и Абрамова.
– Я чувствую себя полным говном, – говорил Абрамов. – И, главное, я думаю, все знают и только делают вид.
– Почему ты говно? – спросил Феликс. – Если из-за той бутылки "Алигате", которую вы в Питере заначили с Глебом и Емелей, то мы как-то простили тебе уже.
– Хуй с ней, с бутылкой, – послышались бульканье наливаемой жидкости, – хотя и там я повел себя как говно.
– Крысятничать нехорошо, – назидательно сказал Феликс. Было слышно, как они выпили, а потом Абрамов сказал:
– Дело не в том, что крысятничать. Я же тогда Емелю подговорил на этот трюк с винищем. И всех собак на Емелю навешали.
Боже мой, подумала Марина, какие дети. Полчаса обсуждать бутылку "Алигате", выпитую полгода назад. Тошнота чуть отступила, она вытерла рот туалетной бумагой и поднялась с колен. И тут Абрамов сказал:
– С Чаком ведь получилась та же история. Он пришел ко мне – ну, когда Белуга его поймала, спрашивает: "Что делать?". А я подумал – надо уговорить его заложить Вольфсона. Потому что тогда Вольфсона посадят, Чак окажется весь в говне, а Царёва мне достанется.
– Дааа, – протянул Феликс. – Хуеватенько выглядит, ничего не скажешь.
– Я же не думал, что так все будет! – пьяно закричал Абрамов. – Кто же знал, что Чак из окна прыгнет! Я же думал – все как-нибудь обойдется!
– Ты бы хоть потом сказал, когда все Чака травить стали.
Марина стояла, прижавшись лбом к холодной стене, и слезы текли у нее по щекам. Она вспомнила, как стучали карандаши по партам, как она крикнула Леше: "Предатель!", как он лежал потом в гробу, совсем чужой, непохожий на себя.
– Я боялся! Мне было стыдно! – кричал за стеной Абрамов. – Ты ведь теперь тоже будешь считать меня говном? Я же всего-навсего дал совет! Он же мог его не слушать!
– Я, пожалуй, пойду, – сказал Феликс, и Марина услышала, как он прошел мимо по коридору. Следом за ним бежал Абрамов, крича: "Постой, постой, выслушай меня!". Их голоса вскоре стихли. Марина вытерла слезы и почувствовала, как скорбь сменяется холодной, как кафель, ненавистью. Теперь она знала, кто виновен в смерти Леши. Это не она. Это Абрамов.
Ее снова затошнило, и она нагнулась над унитазом. На этот раз ее вырвало по-настоящему, словно тело хотело извергнуть из себя все следы прошлого. Льющаяся вода подхватила желто-красные сгустки. Марина чувствовала себя очищенной и опустошенной.
Но глубоко внутри оставалось что-то. Какая-то искра прошлого, слабый зародыш будущего.
35
– Я вот на днях задумался, – сказал Андрей, наливая водку. – Чем бы я хотел заниматься всю жизнь? Если как бы выбрать какое-то одно занятие.
– Может, секс? – сказал Бен. – Нет, все-таки я бы предпочел еду.
– Я бы читал и слушал музыку, – сказал Ося. – А если что-то одно, то все-таки секс. В стиле какой-нибудь евразийской тантры, еще не открытой.
– Ты бы и открыл, – вставил Бен. – А ты, Глеб?
– Я бы спал, – ответил Глеб. – Или просто лежал бы на диване.
– А я бы разговаривал, – сознался Андрей, – что, собственно, я и так делаю.
– Как и все мы, – сказал Бен.
– Собственно, мы и делаем то, что выбрали бы, – поправил Ося.
Все засмеялись, а Шаневич вдруг сказал:
– Пять лет назад я бы ответил – смотреть.
Глеб мог ему только позавидовать. Сколько он ни смотрел, в памяти почти ничего не удерживалось, одна-две детали. Выцветшие на крымском солнце волосы Тани, черные ногти Снежаны, буква "А" в круге, профиль Оксаны в полумраке кинозала, выгнувшаяся дугой Наталья Бондарчук. Не стоило тратить жизнь на то, чтобы увидеть так мало.
Он встал из-за стола. На этой неделе решили пригласить специальную женщину готовить, а не ходить в ближайшую шашлычную, и теперь обедали полтора часа, под водку и разговоры за будущее.
Глеб направился в прихожую. Он был почти уверен, что убийца – Ося, но хотел напоследок поговорить с соседкой снизу. Перед тем, как выйти на лестницу, он заглянул к Нюре Степановне. При виде Глеба она убрала фирменный кодаковский пакет под стопку лежащих на столе факсов. Она в самом деле напоминала юркую мышку – Глеб кивнул и вышел на лестницу. Забавно, подумал он, мы с Нюрой оба тут на отшибе. Она – старше всех, а я – слишком поздно появился. Или просто не хочу оказаться внутри.
Глеб спустился этажом ниже и остановился перед дверью. Разговаривать с соседкой не хотелось. Представил себе полоумную бабку, для которой лишено смысла все, что важно для него. Женщину, застрявшую в давно прошедшем времени. Вздохнув, он позвонил. Раздались шаркающие шаги, и знакомый старческий голос сказал из-за двери:
– Кто там?
– Я от Ильи Шаневича, вашего соседа сверху, – представился Глеб.
Дверь открылась, и на него подозрительно уставилась сухонькая женщина.
– Меня зовут Глеб, – сказал он. – Простите, не знаю как вас…
– Ольга Васильевна. Что вас интересует, молодой человек?
– Извините, Ольга Васильевна, я могу войти? – спросил Глеб.
Они прошли на кухню. Когда-то это была опрятная кухня, но следы старческого увядания заметил даже Глеб. Плита в разводах, по углам – остатки плохо сметенной паутины. Стол аккуратно покрыт застиранными салфетками, пятна с которых, видимо, не смогла бы вывести даже тетя Ася из телерекламы.
– Я хотел вас спросить про ту девушку… – начал Глеб, – ну, которую вы нашли на лестнице.
– Да, убитую, – сказала Ольга Васильевна. – Я никогда раньше ее не встречала, нечего мне о ней сказать.
– Я понимаю, вас уже спрашивала милиция, – продолжал Глеб, понимая, что впустую тратит время, – но, может, вы вспомните какую-нибудь деталь…
– Милиция! – фыркнула женщина. – Они ни о чем толком не спрашивали. Им бы лишь дело закрыть, я знаю. Наркоманы с улицы! Ерунда! При драке никто не режет горло так, как это сделал убийца. Ножом ударяют в живот или в грудь. Чтобы так ударить, надо подойти сзади и ударить из-за спины.
– Значит, это был кто-то знакомый? – спросил Глеб.
– Почему? – удивилась Ольга Васильевна. – Это просто была профессионалка. Женщина, знающая, как снимать часовых.
Боже мой, подумал Глеб, она слишком много смотрит телевизор. Как назывался тот фильм, который так нравился Тане, – про девушку, завербованную спецслужбами?
– Почему – женщина? – спросил он.
Ольга Васильевна посмотрела на него изумленными, ясными глазами:
– Я слышала, как она убегала. Я, слава богу, еще не оглохла и вполне способна узнать стук каблуков.
Когда Глеб вернулся в квартиру, Нюры в предбаннике не было. Не удержавшись, Глеб достал из-под стопки факсов пакет и быстро просмотрел снимки. На всех фотографиях Влад Крутицкий обнимал Нюру заботливо и нежно: точь-в-точь как на фотографии в Светином альбоме. "Наш пострел везде поспел", – неприязненно подумал Глеб и вернул снимки на место.
– Значит, я был не прав, – писал Глеб Горскому вечером, – это не может быть Ося.
– Значит, ты был не прав с самого начала, – ответил Горский. – Это не het. Это либо Катя, либо Настя, либо Н.С. Ни одна из них не может быть любовником твоей Марины и, значит, все совпадения, про которые ты говорил, случайны. Что я и подозревал. Твоя бритва Оккама затупилась.
– Это не может быть ни одна из девушек, у всех алиби. Н.С. была пьяна, Настя трахалась, а Катя была с мужем.
– Ты мало читал детективов, – ответил Горский. – Все это – не алиби. Бен никогда не выдаст жену, Луганов мог наврать, что трахался с Настей, а Н.С. могла притвориться, будто напилась.
Есть вещи, которые не сымитируешь, подумал Глеб. Например, нельзя притвориться, будто блюешь. Он собирался так и написать, но выскочили следующие реплики Горского:
– Это просто логическое рассуждение. Я не собираюсь искать убийцу Снежаны. Зато я знаю, как поймать псевдоЧака.
Глеб раздраженно стукнул по вопросительному знаку. Какого хрена, подумал он, что он мне голову морочит? Очень мне нужны его логические рассуждения.
– Мне, видимо, придется все-таки связаться с твоим Вольфсоном. Дай мне его адрес – и если он согласится, мы отловим Чака. Я сейчас тебе все объясню.
План Горского был прост. Вольфсон должен послать Чаку письмо: вроде бы письмо на лист, но получит его один Чак. В этом письме надо дать ссылку, которая Чака заинтересует, – и когда он пойдет по ссылке, сервер зафиксирует IP-адрес: уникальную последовательность цифр, позволяющую понять, через какого интернет-провайдера человек заходит в Сеть.
– Иными словами, – объяснял Горский, – мы будем хотя бы знать, в Москве он или нет, и, таким образом, сузим круг подозреваемых.
– А почему нельзя просто написать ему письмо с этой ссылкой?
– Потому что, если он параноик, то пойдет через анонимайзер, и мы ничего не узнаем. А так он ничего не заподозрит. И к тому же, если понадобится, мы можем похожим образом определить IP-адреса остальных подписчиков и узнать, не повторится ли этот адрес еще раз. Скажем, у Абрамова или у тебя.
– У меня не повторится, – ответил Глеб.
– Помнишь, ты объяснял принцип презумпции виртуальности? Если добавить к нему обычный принцип детективного жанра, становится ясно: подозревать надо всех. Даже меня можно подозревать в том, что я не существую. Например, давно умер. У Гибсона есть герой, который умер, а мозг его в компьютере, – может, это про меня как раз?
– Кто такой Гибсон? – спросил Глеб.
– Писатель. Киберпанк.
Что такое киберпанк, подумал Глеб. Панк за компьютером? Программист в майке с Егором Летовым? Гибрид Оси и Бена?
– В привычном смысле слова тебя и не существует, – ответил он, почему-то вспомнив Оруэлла. – Есть какой-то человек, с которым я говорю. Он и есть "ты". Больше мне про тебя ничего не известно. Если тебя зовут не Горский, а, скажем, Речной – что от этого изменится?
– Если Речной – ничего. А если Абрамов или Вольфсон – многое. – Горский отправил Глебу очередной смайлик и спросил: – Знаешь ведь старую шутку про то, что трудно поймать черную кошку в темной комнате?
– Да, – ответил Глеб. – Особенно если ее там нет.
– Вот это в виртуальных делах самое интересное. Мы можем поймать Чака – человека, которого давно нет, – только потому, что ловим в мире, которого нет. Ловим виртуала на виртуальную наживку в виртуальном мире.
Глеб ответил смайликом, а Горский написал:
– В этом есть своя логика. Преступление совершено в Интернете – там и надо ловить преступника.
– Какое преступление? – не понял Глеб.
– Кто-то выдал себя за мертвого, – объяснил Горский. – Смерть требует более серьезного отношения.
36
Вольфсон послал письмо на следующий день. В Калифорнии было утро, в Москве – вечер. Глеб ушел из Хрустального минут за двадцать пять до назначенного часа, попрощавшись с Нюрой Степановной и Шаневичем. Пока Глеб добирался до дома, Вольфсон уже отправил невинное на вид письмо – ловушку для того, кто выдавал себя за реинкарнацию Чака.
Наживкой стали фотографии выпускного вечера. Вольфсон привез их с собой в Америку и, потратив полчаса, разыскал в одной из коробок в пустующем гараже. Пять лучших отсканировал: Вольфсон и Феликс жгут Сканави, Феликс демонстрирует новые джинсы, Вольфсон поет под гитару, Вольфсон и Феликс наутро после выпуска пишут краской на стене школы "1984 г", где "г" – не сокращение от слова "год", а буква их класса. И, наконец, привет из будущего – танцуют Ирка и Емеля. Кем бы ни был псевдоЧак, он должен клюнуть.
Он клюнул. Когда Глеб законнектился из дома, его ждало письмо Вольфсона (копия – Горскому). Лаконично: четыре числа, разделенные точками. Они ничего не говорили Глебу, но, глядя на них, он подумал, что матшкольные мальчики любят цифры больше, чем мертвых и живых, потому что цифры не умирают и способны лишь менять порядок.
Он написал письмо Горскому, но едва отправил, в ящик свалилось новое письмо: Горский уже определил IP-адрес. Не Америка, не Германия, не Израиль – Москва.
– Всего каких-то одиннадцать миллионов жителей, – написал Глеб в IRC.
– Меньше, – ответил Горский. – Более того, я определил точно, откуда заходил Чак. Помнишь, вчера ночью – вашим утром – я тестировал счетчик и попросил тебя зайти ко мне на тестовую страницу. Так вот, у Чака IP такой же, как у тебя.
– Это не мог быть я, – ответил Глеб. – Я был в метро.
– Это не ты, – ответил Горский. – Это человек, зашедший с того же компьютера. Ты ведь из офиса на тестовую страницу заходил?
– Да.
– Значит, Чак сейчас в Хрустальном. Или, по крайней мере, был там десять минут назад.
Значит, я прав, подумал Глеб. Значит, Чак – тот, кто выдает себя за Чака, – в самом деле был все время где-то рядом. Я не ошибся, бритва Оккама не подвела. Het, Чак и убийца Снежаны – одно лицо.
– Подожди минутку, я сейчас туда позвоню, – написал Глеб Горскому и расконнектился.
К телефону подошел Шаневич.
– Привет, Илья, – сказал Глеб, – ты не посмотришь, у компьютера мой Кортасар не лежит? А то не могу понять, я ее в метро потерял или в офисе забыл.
– Нет у нас твоей книжки, – сказал через минуту Шаневич.
– А никто ее взять не мог?
– Разве что Нюра Степановна. Но она только что ушла.
– А больше никто не появлялся?
– Только мы вдвоем и были.
– Значит, в метро посеял, – притворно вздохнул Глеб.
Гласнет был занят минут пять, но когда Глеб снова вышел в Сеть, Горский еще был онлайн.
– Значит, две кандидатуры, – подытожил он. – Шаневич и Н.С.
– Но зачем Шаневичу изображать Чака? – спросил Глеб. – Это же бред какой-то.
– Ну, у Н.С. совсем нет резона.
– Постой, – ответил Глеб, – дай подумать.
Неожиданно мозг заработал четко, будто при решении школьных математических задач. Он потянулся к ящику, достал листок бумаги и перечитал:
Убийца Снежаны – это het.
Het выдает себя за Чака на листе нашего класса.
Старушка из квартиры внизу сказала, что убийца – девушка. Значит, если по-прежнему иметь в виду обе гипотезы, убийцей оказывается Нюра Степановна. По крайней мере, алиби у нее слабее, чем у Шаневича. Эта версия выглядела непротиворечивой: все предположения сходились к одному человеку, решение существовало и притом – единственное.
Было чем гордиться. Задача решилась – и не только благодаря ловушке, поставленной в нематериальном мире Интернета, но и потому, что он, Глеб, все-таки поговорил с единственным реальным свидетелем. Реальный свидетель, понял он, был нужен так же, как самой красивой физической теории требуется экспериментальная проверка.
Реальное и виртуальное встретились: и в точке их встречи оказались две девушки, с которыми Глеб спал. Одна уже мертва; другая выдает себя за мертвого.
Задача решена. Не хватает мелочи: мотива. В задачах из "Науки и жизни" мотивов никогда не было. Были подозреваемые, были показания, говорилось про ложь и правду – и логические выкладки приводили к виновному. Зачем он убивал – не было сказано. Составители задач, вероятно, полагали, что был бы человек – мотив найдется.
– Ничего удивительного, что мы не знаем причину преступления, – написал ему Горский. – Мы решали эту ситуацию как логическую задачу. Но логика не может раскрыть подлинный мотив, потому что сбой в логике как раз и приводит к преступлению.
37
Утром Глеб проснулся поразительно бодрым. Казалось, мир чисто вымыт, краски приобрели яркость, звуки – четкость и простоту: шум чайника на плите, булькающая музыка по радио, крик одинокой птицы за окном. Вчера они с Горским вычислили убийцу Снежаны. Нюра Степановна, неприметная секретарша Шаневича. Ай да Аникеев, ай да сукин сын! думал Глеб победоносно. Он был счастлив.
В одиннадцать Глеб приехал в офисе. Никто еще не было, и заспанный Шаневич один пил кофе на кухне.
– Что так рано? – зевнул он.
– Не спалось, – ответил Глеб. – Все про книжку переживал. А Нюра когда придет?
– Вообще не придет, – сказал Шаневич. – На неделю в отпуск отпросилась.
– Ой, блядь, – выдохнул Глеб. – А ее домашний у тебя есть?
– Думаю, она уехала уже, – ответил Шаневич, – но посмотреть можно.
Почесывая заросшую рыжим мехом грудь, он направился в кабинет и вернулся с большим коричневым гроссбухом.
– Отдел кадров, – сказал он, похлопав рукой по корешку. – Все вы у меня здесь.
Он зашуршал страницами.
– А куда она собиралась в отпуск? – спросил Глеб.
– За границу куда-то, – ответил Шаневич. – Я ей печать ставил на анкету для загранпаспорта. А что?
– Нет, просто так.
Илья вдруг пристально посмотрел на Глеба, и в его глазах мелькнуло что-то вроде уважения.
– А может, она и не вернется, – сказал он. – Может, ей и не нужно уже возвращаться. Так что лучше купи себе новую книжку.
На секунду Глебу показалось: Шаневич хочет сказать что-то еще.
– А почему ты думаешь, Илья, что она не вернется?
Шаневич промолчал, будто и не слышал вопроса. Наконец нашел нужную страницу и перевернул книгу так, чтобы Глеб мог читать.
– Вот, – сказал он, – записывай.
На разграфленном клетчатом листе крупными округлыми буквами были сведены в таблицу имена, фамилии и адреса сотрудников. Глеб не сразу понял, куда смотреть, но Шаневич ткнул пальцем в третью строку снизу. Глеб прочитал:
"Царёва, Марианна Степановна, секретарь-референт, д/р 5 июля 1967 г."
– Почему – Марианна? – только и смог спросить он.
– Мама с папой, видать, так назвали, – сказал Шаневич. – Но она просила звать ее Аней, ну, а Нюра потом как-то прижилось. Теперь уже неважно.
Я все-таки был не прав, потрясенно подумал Глеб. Мир матшкольников и мир Таниных друзей действительно различаются. Для них важны образы и лица, для нас – цифры и слова. Если бы я учился в МАрхИ, а не на ВМиК, узнал бы Марину Царёву и через двадцать лет.
Горского удалось застать только поздно ночью.
– Судя по тому, что ты рассказываешь, Шаневич тоже обо всем догадался, – сказал Горский. – Я уже думал, было бы странно, если б он не провел собственное расследование. Человек, занимающийся бизнесом в России, не может быть так беспечен.
– Но почему она это сделала?
– Наверное, Н.С. и Влад Крутицкий подставили твоего друга Абрамова. Снежана, скажем, про это узнала и хотела сказать тебе – за это Марина ее и зарезала.
– Это невозможно, – ответил Глеб, – я до сих пор не могу поверить, что Нюра – это Марина. Как я мог ее не узнать? Да, все говорили, что постарела, изменилась, но все-таки… мы же месяц работали в соседних комнатах. Я даже спал с ней один раз.
– Вы, молодые, – ответил Горский, – слишком большое значение придаете сексу. На самом деле, секс – очень поверхностная вещь. Только кажется, что он помогает узнать человека лучше. Беседа по IRC – и то полезней.
– С женщинами вообще ничего не поймешь, – ответил Глеб. – Ты знаешь, я любил в своей жизни трех женщин, и все они куда-то исчезли. Таня уехала навсегда, я даже адреса не знаю, Снежана умерла.
– А третья кто?
– Она была первая. Моя одноклассница, Оксана. Впрочем, мы были такие молодые, что ее, можно сказать, и не было никогда. Я же ее не видел, только профиль в полутьме кинозала, только то, что сам придумал.
– Почему ты считаешь, – ответил Горский, – что видел Снежану? Потому что спал с ней?
Глеб вспомнил колечко в пупке, черные ногти в белой вуали чулка, цитаты из Тарантино и Пелевина, а потом почему-то представил: Снежана стоит на лестнице и чего-то ждет, а Нюра – Марина – подходит к ней сзади с ножом в руке. Убийца была одновременно Мариной – девочкой-подростком, первой красавицей класса, – и Нюрой: тихой мышкой Нюрой Степановной и обнаженной Нюрой в сумеречной комнате, с волосами, пахнущими детским мылом.
– Я должен написать Марине, – сказал он. – Пусть она, например, встретится с нами на IRC, и мы сможем поговорить. Просто понять.
– ОК, – ответил Горский.
"Дорогая Марина,
– написал Глеб на адрес Чака, –
прости, что я не узнал тебя сразу при встрече. Я немного близорук и плохо запоминаю людей. Жалко, что ты не захотела сказать, кто ты, ни мне, ни ребятам. Этот маскарад с Чаком – и правда, шутка немного дурного тона. Он на самом деле мертв, и мы все это знаем. Впрочем, неважно. Я догадываюсь, что ты теперь далеко и вряд ли вернешься – но если у тебя будет время и желание, я бы хотел поговорить с тобой, на IRC, как когда-то мы общались все вместе на Снежанином канале. У нас с тобой очень много общего прошлого – и, похоже, нам есть что друг другу рассказать. Неизменно помнящий – хотя и не узнавший тебя – Глеб".
Он отправил письмо уже глубокой ночью. Часы показывали 3.55 утра. Двадцать второе июня 1996 года. Глеб подумал, что пятьдесят пять лет назад началась война – и погибшим тогда совсем не важно, выбрали этот день за самую короткую ночь или потому, что солнце должно было победить снег.
В Нью-Йорке – вечер. Оксана едет по Бруклинскому мосту, в динамиках подержанного "форда" поет Леонард Коэн, про двадцать лет скуки, про попытку изменить систему изнутри, про красоту оружия, про то, что сначала мы возьмем Манхэттен, потом – Берлин. Оксана подпевает, почти не задумываясь.
Погибшие на необъявленных войнах лежат под своими запрятанными штандартами: слушали Галича в 1982-м, читали Оруэлла в 1984-м, мечтали стать льдом под ногами майора в 1989-м, погибали в 1991-м и в 1993-м, превращают себя в остров-крепость, поют по маленьким клубам, сопротивляясь антинародному режиму, запускают Интернет, потому что Сеть – это тот же Самиздат, воспитывают детей под нарисованной на стене пентаграммой, проигрывают выборы, всегда будут против. Вечные подростки, бойцы невидимого фронта, солдаты войны, что все никак не кончается. Сначала – Манхэттен, потом – Берлин, затем – Париж, Москва, далее везде. Двадцать лет скуки, систему нельзя изменить изнутри, красота оружия, стук печатных машинок, шум магнитофонных кассет, хриплый голос и голос глуховатый, листы папиросной бумаги и синие ленточки на веб-страницах, гитарный перебор и барабанный бой, democracy is coming to the USA, back in the USSR, назад, к нашему детству, к нашей юности, к льду под ногами майора, к облакам в Абакан, к Большому Брату, Берлинской Стене, прошлому, что все время прорастает в будущее, к страшному празднику мертвой листвы, к мертвым листам ненужного Самиздата, голосу Америки, голосу Свободы, голосам Высоцкого и Галича, Летова и Неумоева, Чака, Емели, Снежаны.
В Москве – четыре часа утра. В Нью-Йорке – восемь вечера. Оксана едет по Бруклинскому мосту, Леонард Коэн поет: I don't like what happened to my sister, и обещает сначала взять Манхэттен, потом – Берлин, словно это может кому-то помочь.
38
Вы хотите поговорить? Хорошо, давайте назначим время, договоримся о канале. Я уложу сына спать, включу компьютер, сяду поудобней. Как вы будете меня называть? Марина? Нюра Степановна? НЕТ? Впрочем, какая разница. Спрашивайте, я буду отвечать.
Kadet: Почему ты помогла Крутицкому?
Неправильный вопрос, Глеб, неправильный. Я не помогала ему, это он помог мне. Поэтому я отвечаю: я хотела отомстить Вите Абрамову.
Gorsky: За что?
За то, что он подставил Лешу Чаковского.
Неправильный вопрос, неинтересный, скучный. Всегда найдется, за что ненавидеть человека. Лучше спросите меня: каково это – жить, пестуя ненависть, словно второе дитя? Каково это, когда первое движение плода совпадает с первым спазмом ненависти, с первой судорогой отчаяния? Я бы хотела, чтобы вы представили: я стою в прихожей, смотрю сквозь слезы в зеркало, отражение растекается, лица не разглядеть, видишь только силуэт, да и то с трудом. Взлохмаченные светлые волосы, узкие плечи, стройные ноги, растущий с каждым днем живот. На пятом месяце мама наконец-то заметила. Ах, мальчики, вам не понять. Ваши матери никогда не называли вас шлюхами, не грозили выгнать из дома.
Kadet: Да, я знаю. Мне Феликс недавно рассказал.
Как это мило, Глеб, что и через столько лет вы продолжаете общаться. Школьная дружба не стареет. Школьная ненависть тоже.
Я часто представляла себе, как убиваю Абрамова. Лежа на родильном кресле, вся в крови, я думала: это его кровь. Не очень хорошее начало жизни для ребенка, но так уж вышло. Зачат в любви, рожден в ненависти.
Спросите лучше, что чувствуешь, когда твой сын впервые говорит "мама". Что чувствуешь, когда он утыкается в колени и ты гладишь затылок, с мягкими, ни разу не стриженными волосами. Берешь в кровать, когда ему снятся кошмары, когда он болеет. Охраняешь от Серого Волка, от Кащея Бессмертного, от Черной Летающей Руки. Что чувствуешь, когда твой сын впервые спрашивает: "А где мой папа?" Он умер, сынок. Его убили. Вот и весь ответ. Негусто, да.
Kadet: А кто из вас придумал план?
Мы придумали вместе. Влад сказал: у Абрамова в конторе все держится только на нем. Вот бы выдернуть его на несколько дней, в нужный момент.
Спросите: кто первый об этом заговорил? Спросите, и я отвечу: с самого начала я знала, чего хочу. Я ждала одиннадцать лет, ждала своего счастливого случая – и могла подождать еще пару месяцев. Я боялась спугнуть, боялась, Влад догадается, что мне от него надо. Помню, номер в гостинице, мы лежим в кровати, я заговорила о Емеле, потом – о Вите Абрамове. Большое зеркало во всю стену, но я стараюсь в него не смотреть: боюсь, лицо выдаст меня.
Kadet: Как ты познакомилась с Владом?
В Хрустальном. Меня туда устроил Емеля.
Спросите еще – любила ли я Влада? Конечно же, нет. За всю свою жизнь я любила только Лешу и своего сына – никого больше. Двух мужчин вполне достаточно для одной женщины.
Лучше еще раз спросите – люблю ли я своего сына? Лучше я расскажу вам, как в девять лет он боялся смотреть телевизор, когда танки стреляли в Москве. Он боялся, но все же не шел спать: и я обнимала его и говорила: Сынок, отвернись, тебе ни к чему это видеть.
Kadet: Ты сама нашла Емелю?
Нет, случайно получилось.
Искала ли я его? Нет, никогда. Разрабатывала ли план мести? Да, много раз. В мечтах представляла, как говорю Абрамову: Лешина кровь на тебе! – и убиваю. Я только ждала, пока сын подрастет. Спросите лучше меня о сыне, спросите, что чувствуешь, когда твой ребенок идет в школу, откуда приносит пятерки или двойки, неважно. Когда приходишь домой, и он говорит тебе: мама, привет!
Kadet: А ты спала с Емелей?
Да. Если тебя интересует, была ли у него пизда подмышкой, могу сказать, что не было.
Спроси меня: что я чувствовала, когда спала с ним? Ничего. Ничего особенного. У меня было довольно много мужчин. Одинокая женщина с ребенком не может выжить одна. Не может устроиться на работу, раздобыть денег, не может одна ничего. Все эти годы я как-то крутилась. Любовник, другой – всем нужно только одно. Секс – это секс, и не больше того. Чувства здесь ни при чем.
Gorsky: Пизда подмышкой?
Kadet: Школьная шутка. А ты разве ее знала?
Все всё знали, кроме того, что Леша не был стукачом, а заложил всех Абрамов.
Все всё знали. Даже как Светка сказала "зубов бояться – в рот не ходить", хотя в восьмом классе сама объясняла девочкам, что такое минет. Спросите меня: что такое минет? – и я тоже отвечу. Взять в рот – это последний приют, последнее, что остается, когда уже нет желанья и сил что-то изображать. Не нужно стонать, содрогаться всем телом. Просто встать на колени и отсосать. Мужчины на это ведутся – а это так просто. В случае чего всегда можно покрепче сжать яйца. Глеб должен помнить.
Я приходила домой и сидела в прихожей. Светлые волосы, узкие плечи, стройные ноги, не видно лица. Я понимала – Емелю мне соблазнить будет просто. Школьные чувства долго живут, я-то уж знаю.
Gorsky: Как вы подставили Абрамова?
Я же сказала: я предупредила Влада о дне, все остальное спланировал он. Я даже не знаю деталей.