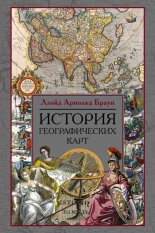Сводя счеты (сборник) Аллен Вуди
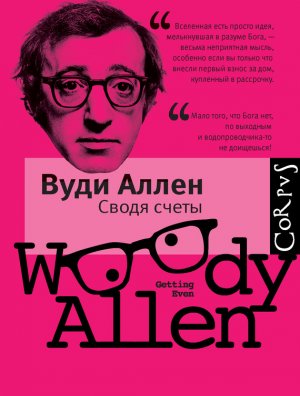
Квитанции Меттерлинга
© Перевод А. Смолянского
Наконец-то издательство “Жюлик и сыновья” выпустило в свет первый том собрания прачечных квитанций Меттерлинга (“Ханс Меттерлинг. Собрание прачечных квитанций”. Том I; 437 стр.; XXXII стр. предисловия; предметный указатель; 18 долл. 75 ц.), включающий в себя научный комментарий Гюнтера Айзенбуда, известного исследователя творчества Меттерлинга. Можно только приветствовать разумное решение опубликовать первый том, не дожидаясь окончания работы над всеми четырьмя томами этого фундаментального издания. Появление блестящего, безупречного в научном отношении труда положит конец досужим обвинениям, будто бы издательство “Жюлик и сыновья”, неплохо заработав на публикации пьесы Меттерлинга, его романов, записных книжек, дневников и писем, намерено и впредь стричь купоны на той же ниве. Как же ошибались злопыхатели!
Уже самая первая квитанция
трусы — 6
майки — 4
носки голубые — 6
сорочки голубые — 4
сорочки белые — 2
Не крахмалить!
представляет собой замечательное по глубине введение в творчество мятежного гения, которого современники называли “Пражский чудила”. Черновики первой квитанции создавались в период работы над “Исповедью сырной головы”, сочинением ошеломляющей философской мощи, в котором автор не только доказывает ошибочность взглядов Канта на Вселенную, но и отмечает, что за свой труд не сумел получить ни гроша. Отвращение к крахмалу весьма характерно для рассматриваемого периода жизни Меттерлинга. Обнаружив, что белье, указанное в квитанции № 1, было все же туго накрахмалено, мэтр впал в глубокую депрессию. Его квартирная хозяйка, фрау Вайзер, сообщала друзьям: “Герр Меттерлинг уже несколько дней не выходит из комнаты и рыдает над трусами, которые накрахмалили вопреки его воле”. Как известно, Брёйер[1] уже указывал на связь накрахмаленного нижнего белья с постоянно мучившим Меттерлинга подозрением, будто некие толстощекие личности распускают о нем злонамеренные слухи (см. “Меттерлинг. Параноидально-депрессивный психоз и ранние квитанции”. Изд. “Цейс-пресс”). Тема нарушенных указаний прослеживается в единственной пьесе Меттерлинга “Удушье”, герой которой Нидлман по ошибке прихватил с собой в Валгаллу заговоренный теннисный мяч. Самая большая загадка квитанции № 2
трусы — 2
майки — 5
носки черные — 7 пар
рубашки голубые — 6
платки носовые — 6
Не крахмалить! -
появление семи пар черных носков, ведь пристрастие мэтра к голубым тонам общеизвестно. На протяжении многих лет одно только упоминание любого другого цвета приводило Меттерлинга в бешенство, однажды он даже ткнул Рильке лицом в вазочку с медом, когда тот обмолвился, что любит кареглазых женщин. Анна Фрейд[2] считает (см.: Носки Меттерлинга как символ фаллической матери. “Успехи психоанализа”, ноябрь, 1935), что неожиданный переход к темным носкам связан с переживаниями по поводу знаменитого “Происшествия в Байройте”.[3] Как известно, во время первого акта “Тристана и Изольды” Меттерлинг чихнул, да так, что с одного, чуть ли не самого главного, мецената слетел парик. Слушатели были возмущены до глубины души, но сам Вагнер стал на защиту Меттерлинга и произнес слова, ставшие классическими: “Каждый может чихнуть”. Козима Вагнер, однако, разрыдалась, заявив, что Меттерлингу чихать на триумф ее мужа.
Меттерлинг несомненно имел виды на Козиму Вагнер. Сохранились сведения, что он дважды брал ее за руку: в Лейпциге и спустя четыре года — в Рурской долине. В Данциге во время грозы он набрался храбрости и пробормотал что-то невразумительное по поводу берцовой кости фрау Вагнер, после чего та вообще перестала с ним встречаться. Меттерлинг вернулся домой совершенно обессиленный и тотчас сочинил “Размышления цыпленка”, посвятив рукопись Вагнерам. Узнав, что Вагнеры подложили рукопись под ножку шаткого стола, мэтр впал в меланхолию и переключился на черные носки. Хозяйка умоляла его вернуться к голубым, столь любимым им когда-то, или, по крайней мере, к коричневым, но Меттерлинг грубо оборвал ее: “Стерва! Может, еще в клеточку предложишь!” В квитанции № 3
платки носовые — 6
майки — 5
носки — 8 пар
простыни — 3
наволочки — 2
впервые упоминается постельное белье. Не секрет, что Меттерлинг был к нему весьма неравнодушен, особенно к наволочкам, которые они с сестрой в детстве натягивали на голову, изображая привидения (пока в один прекрасный день будущий писатель не свалился в каменоломню). Меттерлинг любил спать на свежем белье. Этой страстью он наделил и своих героев. В “Селедочном филе”, например, слесарь-импотент Хорст Вассерман совершает убийство из-за пары чистых простыней, а в “Пальце пастыря” Дженни уступает домогательствам Клинемана (которого ненавидит за то, что он вымазал маслом ее мать), поскольку “он обещал постелить свежие простыни”. Конечно, постоянная неудовлетворенность работой прачечной окрашивала жизнь писателя в трагические тона, но было бы абсурдом утверждать вслед за Пфальцем, что именно это помешало ему завершить “Камо грядеши, кретин?”. Да, Меттерлинг с превеликим удовольствием отдавал белье в стирку, но рабом простыней он не был!
Книга стихов, задуманная писателем еще в юности, так и осталась незаконченной из-за неудавшегося романа, следы которого находим в квитанции № 4, “Знаменитой четвертой”
трусы — 7
платки носовые — 6
майки — 6
носки черные — 7
Не крахмалить!
Срочная стирка!
В 1884 году Меттерлинг познакомился с Лу Андреас-Саломе, и вот мы узнаём, что теперь ему ежедневно требуется свежее белье. Познакомил их Ницше, который сказал Лу, что Меттерлинг либо гений, либо полный идиот, — ей следовало проверить оба предположения и выбрать верное. В те годы срочная стирка сделалась очень популярной в Европе, особенно среди интеллектуалов, и Меттерлинг горячо приветствовал это новшество. Его радовало, что заказ выполняется немедленно, — медлить он не любил. На званые обеды мэтр являлся заблаговременно, иногда несколькими днями раньше, так что хозяевам приходилось размещать его в комнате для гостей. Лу тоже обожала ежедневно получать из стирки свежее белье. Она радовалась как ребенок и частенько приглашала Меттерлинга прогуляться по лесу, где они вместе разворачивали только что доставленный сверток. Она души не чаяла в майках Меттерлинга и в его носовых платках, но больше всего ее восхищали трусы. В письме к Ницше Лу признавалась, что ничто (даже “Так говорил Заратустра”) не производило на нее такого впечатления. Ницше стоически перенес это признание, однако продолжал ревновать ее к белью Меттерлинга, которое, по словам друзей, считал “в высшей степени гегельянским”. Лу Саломе и Меттерлинг расстались после опустошительного “Паточного голода” 1886 года. Впоследствии мэтр простил Лу, но та не переставала твердить, что “в голове у него шариков не больше, чем полушарий”. Квитанция № 5
майки — 6
трусы — 6
платки носовые — 6
всегда озадачивала исследователей полным отсутствием носков. (Много лет спустя загадочная квитанция так захватила воображение Томаса Манна, что он посвятил ей целую пьесу — “Белье Моисея”. К несчастью, Манн обронил рукопись в канализационный люк.) Почему же из квитанций титана духа внезапно пропали носки? Нет, не правы те, кто считал это первым признаком приближавшегося безумия, хотя общеизвестно, что именно в указанные годы в поведении Меттерлинга начинают наблюдаться некоторые странности. К примеру, ему никак не удавалось понять: то ли за ним следят, то ли он сам постоянно выслеживает кого-то. Близким друзьям Меттерлинг сообщал, что правительство хочет украсть у него подбородок. Однажды, когда мэтр отдыхал в Йене, он на протяжении четырех дней не мог произнести ничего, кроме слова “баклажан”. Однако подобные приступы были нечасты и ни в коей мере не могут объяснить исчезновения носков, впрочем, как и гипотеза, будто он в этом подражал Кафке (испытывая комплекс вины, тот на время вовсе отказался от носков). Нет, утверждает Айзенбуд, конечно же Меттерлинг продолжал носить носки, просто он перестал отдавать их в стирку. Почему же? А потому, что как раз в то время в его жизнь входит новая домработница — фрау Мильнер. Она согласилась стирать носки вручную, и Меттерлинг был так тронут, что решил завещать ей все свои богатства: черную шляпу и остатки табака. Фрау Мильнер явилась прототипом Хильды в аллегорической комедии “Сукровица мамаши Брандт”.
Очевидно, что к 1894 году сознание Меттерлинга начинает раздваиваться. Это единственный вывод, который можно сделать на основе анализа квитанции № 6
платки носовые — 25
майки — 1
трусы — 5
носки — 1
Неудивительно, что Меттерлинг становится пациентом Фрейда. Познакомились они задолго до того в Вене, на спектакле “Эдип” (после которого Фрейда вынесли в холодном поту). Если верить записям Фрейда, где поведение Меттерлинга названо агрессивным, то можно предположить, что сеансы проходили довольно бурно. Меттерлинг все время твердил, что Фрейд похож на помощника его прачки, а однажды даже грозился вырвать у профессора бороду. Постепенно выяснились подробности болезненных взаимоотношений Меттерлинга с отцом. (Исследователям уже знакома эта личность: мелкий чиновник, постоянно унижавший сына, сравнивая его с “колбасиной”.) Ключом к подсознанию Меттерлинга послужил сон, который в записи Фрейда выглядел так:
Я присутствую на званом обеде в доме друзей. Неожиданно появляется человек с переполненной супницей на поводке. Он обвиняет мое нижнее белье в предательстве. Некая леди встает на мою защиту, но у нее вдруг отваливается лоб. Во сне это кажется смешным, и я начинаю хохотать. Вскоре уже смеются все гости, кроме помощника моей прачки, который сосредоточенно набивает уши овсяной кашей. Входит отец. Он хватает отвалившийся лоб и убегает. Выскочив на ратушную площадь, отец вопит: “Ура! Наконец-то у меня есть собственный лоб! Я больше не завишу от своего сына-идиота”. Хотя это и сон, но все равно ужасно обидно, и меня охватывает желание расцеловать белье бургомистра. (Тут пациент начинает рыдать и не в силах больше ничего вспомнить.)
Проанализировав сон, Фрейд сумел помочь Меттерлингу. Теперь во всем, что не касалось лечения, их связывали дружеские отношения (тем не менее Фрейд не позволял Меттерлингу стоять у себя за спиной).
Во втором томе Айзенбуд анализирует квитанции № 7-25, относящиеся к периоду “домашней стирки” и ко времени исторического конфликта с соседней китайской прачечной.
Взгляд организованную преступность
© Перевод С. Ильина
Ни для кого не секрет, что прибыли организованной преступности Америки составляют около сорока миллиардов долларов в год. Сумма не малая, особенно если учесть, что Мафия почти не тратится на канцелярские принадлежности. Из надежных источников известно, что в прошлом году “Коза ностра” израсходовала на именную почтовую бумагу ее сотрудников не больше шести тысяч долларов, а на скрепки и того меньше. Более того, Мафия обходится одной-единственной секретаршей, которая печатает на машинке все, что Мафии требуется, и всего-навсего тремя небольшими комнатками, в коих располагается ее штаб-квартира, плюс Танцевальная школа Фреда Перски.
Обратившись к прошлому году, мы можем отметить, что организованная преступность несет прямую ответственность за сто с чем-то совершенных за этот период убийств, не считая того, что “мафиози” были косвенно замешаны еще в нескольких сотнях таковых, поскольку оплачивали проезд убийц в общественном транспорте и держали их пальто, пока те занимались своим грязным делом. Другие виды противоправной деятельности, к которым так или иначе причастны члены “Коза ностра”, включают в себя азартные игры, торговлю наркотиками, проституцию, грабежи на большой дороге, дачу денег под проценты и предпринимаемую с аморальными целями переброску крупных сигов через границы штатов. Щупальцы этой растленной империи проникли даже в правительственные учреждения. Всего несколько месяцев назад двое “отцов мафии”, которым на федеральном уровне уже были предъявлены обвинения, провели целую ночь в Белом доме, так что президенту пришлось отсыпаться на кушетке.
В 1921 году Фома (“Мясник”) Ковелло и Киро (“Закройщик”) Сантуччи предприняли попытку объединить разрозненные этнические группы преступного мира и тем самым добиться полного контроля над Чикаго. Их планы были расстроены, когда Альберт (“Логический Позитивист”) Корилло организовал покушение на “Малыша” Липского — Альберт запер несчастного в чулане и через соломинку высосал оттуда весь воздух. Брат Липского Менди (он же Менди Льюис, он же Менди Ларсен, он же Менди Онже) отомстил за убийство Липского, похитив брата Сантуччи Гаэтано (известного также под именами “Малютка Тони” и “Рабби Генри Шарпстейн”) и через несколько недель возвратив его семье в двадцати семи отдельных каменных урнах. Этот его поступок послужил поводом к началу кровавой бойни.
Доминик (“Герпетолог”) Миони застрелил перед баром в Чикаго “Счастливчика” Лоренцо (получившего свое прозвище после того, как бомба, взорвавшаяся в его шляпе, не причинила ему никакого вреда). В отместку Корилло со своими людьми выследил Миони в Ньюарке и изготовил из его головы духовой инструмент. В то же самое время банда Витали, возглавляемая Джузеппе Витали (подлинное имя Куинси Бедекер), предприняла решительные шаги, имевшие своей целью отобрать у “Ирландца” Ларри Дойля — рэкетира, отличавшегося такой подозрительностью, что он не позволял никому из жителей Нью-Йорка заходить ему за спину и потому передвигался по улицам, совершая пируэты и временами вращаясь на месте, — весь бизнес, связанный с бутлегерством в Гарлеме. Дойля убили после того, как Строительная компания Сквиланте надумала возвести свой новый офис прямо на его переносице. Вслед за этим командование принял на себя “лейтенант” Дойля, “Маленький Петя” (он же “Большой Петя”) Росс — пытаясь противостоять Витали, он заманил последнего в пустой гараж неподалеку от центра города под тем предлогом, что в этом гараже якобы будет устроен костюмированный бал. Когда ничего не подозревавший Витали, нарядившись гигантской мышью, вошел в гараж, его изрешетили из крупнокалиберного пулемета. Люди Витали, из верности своему погибшему боссу, тут же переметнулись к Россу. Точно так же поступила и невеста Витали, Беа Моретти, хористка и звезда нашумевшего бродвейского мюзикла “Читайте каддиш”, которая в конце концов вышла за Росса замуж, хотя впоследствии и затеяла с ним бракоразводный процесс на том основании, что он намазал ее какой-то вонючей мазью.
Страшась вмешательства федеральных властей, Винсент Колумбаро, “Король гренков с маслом”, призвал враждующие стороны заключить мирное соглашение. (Колумбаро столь плотно контролировал движение намасленных гренков через границы штата Нью-Джерси, что одного его слова было довольно, чтобы оставить без утреннего завтрака две трети населения Америки.) Члены преступного мира собрались в городе Перт-Амбой на обед, на котором Колумбаро объявил им, что междоусобную войну надлежит прекратить и что отныне им придется носить приличные костюмы и не вилять бедрами при ходьбе. Письма, которые до той поры содержали вместо подписи изображение черной руки, следует, объяснил он, впредь завершать словами “С наилучшими пожеланиями”, а всю территорию Соединенных Штатов придется поделить поровну, причем штат Нью-Джерси должен отойти матери Колумбаро. Вот так и появилась на свет Мафия, или “Коста ностра” (в дословном переводе — “моя”, или “наша зубная паста”). Два дня спустя Колумбаро, намереваясь помыться, погрузился в горячую ванну, и в течение последующих сорока шести лет никто о нем больше не слышал.
Структура “Коза ностры” мало чем отличается от структуры любого правительства или крупной корпорации — или гангстерской шайки, что в принципе одно и то же. Во главе ее стоит “capo di tutti capos”, или “босс всех боссов”. Все совещания происходят у него на дому, причем он несет полную ответственность за то, чтобы мясного ассорти и кубиков льда для напитков хватило на всех присутствующих. В случае нехватки того либо другого несчастного убивают на месте. (Кстати сказать, смерть — это одно из худших наказаний для любого члена “Коза ностры”, и потому многие из них предпочитают ей простую уплату штрафа.) Боссу боссов подчинены так называемые “лейтенанты”, каждый из которых с помощью членов своей “семьи” управляет одним из районов города. Мафиозные семьи состоят вовсе не из жены и детей, которые вечно просятся в цирк или на пикник. На самом деле такая “семья” образуется из довольно серьезных мужчин, главная радость которых состоит в исследовании вопроса о том, как долго тот или иной человек способен продержаться на дне Ист-Ривер, прежде чем он начнет пускать пузыри.
Посвящение в члены Мафии представляет собой довольно сложную церемонию. Предположительному новому члену завязывают глаза и вводят его в темную комнату. После того, как ему набивают карманы ломтями выращенной в Шотландии дыни, он должен немного попрыгать на одной ноге, издавая крики: “Волыню! Волыню!” Затем каждый член совета директоров, их еще называют “commissione”, оттягивает его верхнюю губу и отпускает, прислушиваясь к производимому ею щелчку, — некоторые проделывают это дважды. Потом ему сыплют на голову овсяную крупу. Если посвящаемый протестует, его дисквалифицируют. Если же он говорит: “Господи, как я люблю, когда на голове моей всходят овсы”, его тут же принимают в братство, для чего целуют в щеку и жмут ему руку. С этой минуты ему запрещается употреблять в пищу индийские приправы, развлекать друзей, изображая снесшую яичко курицу, а также убивать кого бы то ни было по имени Вито.
Организованная преступность — это болезнь нашей страны. Многие молодые американцы соблазняются преступной карьерой, якобы обещающей легкую жизнь, и это несмотря на то, что большинству преступников приходится проводить на работе долгие часы, причем зачастую в помещениях без кондиционеров. Распознавать преступников каждому из нас надлежит самостоятельно. Обычно их легко узнать по крупным запонкам, а также по тому, что, когда на голову человека, сидящего рядом с ними в ресторане, падает наковальня, они продолжают жевать как ни в чем не бывало. Наилучшие способы борьбы с организованной преступностью таковы:
1. Сказать организованным преступникам, что вас нет дома.
2. Обнаружив, что в вашей прихожей собралось слишком много поющих хором работников Сицилийской прачечной, вызвать полицию.
3. Прослушивать телефонные разговоры.
Последний способ не допускает огульного применения, однако его эффективность иллюстрируется расшифровкой записанного ФБР разговора двух боссов нью-йоркской мафии:
Энтони. Алло? Рико?
Рико. Алло?
Энтони. Рико?
Рико. Алло.
Энтони. Рико?
Рико. Я тебя не слышу.
Энтони. Это ты, Рико? Я тебя не слышу.
Рико. Что?
Энтони. Ты меня слышишь?
Рико. Алло?
Энтони. Рико?
Рико. Что-то со связью.
Энтони. Ты меня слышишь?
Рико. Алло?
Энтони. Рико?
Рико. Алло?
Энтони. Оператор, у нас что-то со связью.
Оператор. Повесьте трубку, сэр, и наберите номер еще раз.
Рико. Алло?
Эта запись позволила вынести приговор Энтони (“Рыбе”) Ротунно и Рико Панцини, которые в настоящее время отбывают в Синг-Синге пятнадцатилетний срок за незаконное владение районом Бенсонхерст, что в Нью-Йорке.
Мемуары Шмида
© Перевод С. Ильина
Неиссякаемый, по всему судя, поток литературы, посвященной Третьему рейху, вскоре пополнится мемуарами Фридриха Шмида. Шмид, самый известный из парикмахеров Германии военной поры, обслуживал Гитлера и множество иных официальных лиц из правительственных и армейских кругов. Как было отмечено на Нюрнбергском процессе, Шмид не только всегда оказывался в нужное время на нужном месте, но и обладал, похоже, “фотографической памятью”, которая сделала его человеком, более чем способным детально описать тайное тайных нацистской Германии. Ниже приводятся краткие извлечения из его воспоминаний.
Весной 1940 года у дверей моей парикмахерской на Кёнигштрассе, 127, остановился большой “мерседес” и в парикмахерскую вошел Гитлер. “Чуть-чуть подровнять, — сказал он, — только не снимайте лишнего сверху”. Я объяснил, что ему придется немного подождать, потому что Риббентроп занял очередь первым. Гитлер сказал, что очень торопится, и попросил Риббентропа уступить ему очередь, но Риббентроп ответил, что, если он пойдет на уступки, Министерство иностранных дел Британии перестанет воспринимать его всерьез. В конце концов Гитлер позвонил по телефону, и после нескольких сказанных им коротких фраз Риббентропа перевели в Африканский корпус, а Гитлер постригся вне очереди. Такого рода соперничество никогда не ослабевало в нацистских кругах. Как-то раз полиция, науськанная Герингом, под надуманным предлогом задержала на улице Хейндриха, и в результате Геринг смог занять кресло у окна. Геринг вообще был человеком распущенным, он часто требовал, чтобы ему разрешили во время стрижки сидеть на коне-качалке. Высшее нацистское командование относилось к этому факту с возмущением, но против Геринга оно было бессильно. Однажды сам Гесс попытался воспротивиться Герингу, сказав:
— Сегодня, герр Фельдмаршал, сидеть на деревянном коне буду я.
— Не выйдет. Я заранее забронировал его, — рявкнул Геринг.
— А у меня приказ фюрера. В нем сказано, что я могу стричься, сидя на деревянном коне. — И Гесс вынул из кармана соответствующее письменное распоряжение Гитлера.
Геринг был вне себя от злости. Он никогда не простил этого Гессу и часто клялся, что рано или поздно доведет Гесса до того, что жена будет стричь его на дому, да еще и под горшок. Гитлер, услышав об этом, очень смеялся, но Геринг не шутил и, безусловно, добился бы своего, если бы министр вооружений не отверг его проект реквизиции ножниц для прореживания волос.
Меня часто спрашивают, ощущал ли я, выполняя мою работу, моральную сопричастность тому, что творили нацисты. Как я уже говорил на Нюрнбергском процессе, я не знал, что Гитлер был нацистом. Я-то всегда считал его простым служащим телефонной компании. Когда я в конце концов осознал, какое это чудовище, предпринимать что-либо было поздно, поскольку я уже внес первый взнос за купленную в рассрочку мебель. Впрочем, однажды, в самом конце войны, мне пришла в голову мысль немного ослабить салфетку, которой я повязывал шею Гитлера, чтобы несколько волосков упали ему на спину, однако в последнюю минуту у меня сдали нервы.
Как-то раз, уже на Берхтесгаден, Гитлер спросил меня: “Как по-вашему, пойдут мне бакенбарды?” Услышав этот вопрос, Шпеер рассмеялся, чем сильно обидел Гитлера. “Я более чем серьезен, герр Шпеер, — сказал он. — По-моему, бакенбарды мне будут к лицу”. Геринг, этот подобострастный шут, немедля вмешался в их разговор, сказав: “Фюрер в бакенбардах — какая великолепная мысль!” Однако Шпеер с ним не согласился. В сущности говоря, Шпеер был единственным человеком, которому хватало честности и прямоты для того, чтобы указывать фюреру на необходимость подстричься. “Слишком безвкусно, — сказал он в тот раз. — На мой взгляд, бакенбарды скорее подошли бы Черчиллю”. Гитлер пришел в ярость. Собирается ли Черчилль отрастить бакенбарды, пожелал узнать он, и если собирается, то сколько и когда? Немедленно вызвали Гиммлера, который, как все считали, отвечает за разведку. Геринг, раздраженный позицией Шпеера, прошептал ему на ухо: “Чего ты волну-то гонишь, а? Хочет бакенбарды, ну и пусть их получит”. Однако Шпеер, как правило, беспредельно тактичный, назвал Геринга лицемером и “куском соевого сыра в германском мундире”. Геринг поклялся, что так ему этого не оставит, и впоследствии поговаривали, будто он приказал охранникам из СС изрезать простыни Шпеера в мелкую лапшу.
Тут появился сходящий с ума от тревоги Гиммлер. Когда его вызвали по телефону на Берхтесгаден, он как раз брал урок чечетки. Гиммлер опасался, что его станут расспрашивать насчет неизвестно куда подевавшейся партии в несколько тысяч остроконечных партийных шляп, обещанных Роммелю на период зимней кампании. (Гиммлера, по причине его слабого зрения, редко приглашали обедать на Берхтесгаден, поскольку фюрер выходил из себя, видя, как Гиммлер подносит вилку с куском еды к самым глазам, а после тычет ею себе в щеку.) Гиммлер сразу понял, что дела обстоят скверно, поскольку Гитлер назвал его “Недомерком” — прозвище, к которому фюрер прибегал лишь в минуты крайнего раздражения. Безо всякого предупреждения Гитлер набросился на него с криком: “Собирается ли Черчилль отрастить бакенбарды?”
Гиммлер побагровел.
“Я жду ответа!”
Гиммлер промямлил, что будто бы такие разговоры ходили, но все это еще неофициально. Что касается размера и числа бакенбардов, пояснил он, то их будет, скорее всего, две, средней протяженности, однако говорить об этом с полной уверенностью никто не хочет, пока не обретет таковой. Гитлер визжал и лупил кулаком по столу. (Это был триумф Геринга над Шпеером.) Развернув на столе карту, Гитлер показал нам, как он намерен организовать блокаду, которая оставит Англию без горячих салфеток. Перекрыв Дарданеллы, Дениц сможет воспрепятствовать доставке салфеток на английское побережье, а оттуда — на встревоженно ожидающие их лица британцев. Остался, однако, нерешенным главный вопрос: сможет ли Гитлер опередить Черчилля по части отращивания бакенбард? Гиммлер твердил, что Черчилль начал первым и что догнать его, скорее всего, не удастся. Геринг, этот бессмысленный оптимист, сказал, что фюрер, возможно, успеет вырастить бакенбарды раньше Черчилля, в особенности если мы сможем бросить на выполнение этой задачи все силы немецкой нации. Фон Рундштедт, выступая на совещании Генерального штаба, заявил, что попытка отрастить бакенбарды на двух фронтах одновременно была бы ошибочной, и порекомендовал сосредоточить все наши усилия на одной щеке. Однако Гитлер твердил, что способен справиться с двумя щеками сразу. Роммель согласился с фон Рундштедтом. “Они никогда не получатся ровными, mein Fuhrer, — сказал он. — Особенно, если вы будете их подгонять”. Гитлер разгневался и ответил, что это касается только его самого и его парикмахера. Шпеер пообещал к наступлению осени утроить валовое производство крема для бритья, и Гитлер, услышав об этом, впал в восторженное состояние. Затем, зимой 1942 года, русские перешли в контрнаступление, вследствие чего бакенбарды у Гитлера расти перестали. Он впал в депрессию, опасаясь, что Черчилль вскоре приобретет роскошную внешность, между тем как он, Гитлер, так и останется “заурядным”, но тут поступило сообщение о том, что Черчилль отказался от идеи отрастить бакенбарды, сочтя ее осуществление слишком дорогостоящим. Таким образом, жизнь в который раз подтвердила правоту фюрера.
После вторжения союзников волосы Гитлера начали сохнуть и сечься. Отчасти причиной этого стало успешное продвижение союзников, а отчасти — рекомендация Геббельса мыть голову каждый день. Когда генерал Гудериан прослышал о ней, он немедленно возвратился в Германию с русского фронта, дабы сказать Гитлеру, что пользоваться шампунем следует не более трех раз в неделю. Такова была процедура, к которой Генеральный штаб с неизменным успехом прибегал в последних двух войнах. Но Гитлер в очередной раз не послушал своих генералов и продолжал мыть голову ежедневно. Борманн помогал ему ополаскиваться и, казалось, всегда был рядом, держа наготове расческу. В конечном счете Гитлер впал в такую зависимость от Борманна, что всякий раз, перед тем как поглядеться в зеркало, просил Борманна заглянуть в него первым. По мере того, как войска союзников продвигались к востоку, прическа Гитлера приходила во все больший упадок. Временами он, с пересохшими, непричесанными волосами, несколько часов кряду бился в гневном припадке, объясняя окружающим, как красиво он пострижется, как чисто, может быть, даже до блеска, побреется, когда Германия победит в войне. Ныне я понимаю, что он никогда по-настоящему не верил в это.
Однажды Гесс, украв у Гитлера флакон “Виталиса”, удрал самолетом в Англию. Прослышав об этом, высшее германское командование пришло в неистовство. Командование понимало, что Гесс намеревается сдать этот лосьон для волос союзникам в обмен на предоставление ему амнистии. Особенно прогневался, услышав об этом, Гитлер, потому что он как раз вылез из-под душа и собирался привести свои волосы в порядок. (Позже, во время Нюрнбергского процесса, Гесс откровенно рассказал о своем плане, пояснив, что хотел помочь Черчиллю отрастить шевелюру, гарантировав тем самым победу союзников. Он уже успел пригнуть Черчилля над раковиной умывальника, но тут его арестовали.)
В конце 1944 года Геринг отрастил усы, и это стало причиной слухов насчет того, что он будто бы скоро заменит Гитлера. Гитлер вышел из себя и обвинил Геринга в нелояльности. “Усы у вождей Рейха могут быть только одни, и это должны быть мои усы!” — восклицал он. Геринг сказал в свою защиту, что если число усов удвоится, то это внушит немецкому народу удвоенную надежду на победу в войне, которая складывается пока не лучшим образом, однако Гитлер с ним не согласился. Затем, в январе 1945 года, возник заговор генералов, намеревавшихся сбрить у спящего Гитлера усы и провозгласить Деница новым вождем нации. Заговор этот провалился вследствие того, что фон Штауффенберг, обманутый царившей в спальне Гитлера темнотой, сбрил вместо усов брови фюрера. В стране было введено чрезвычайное положение, а вскоре после этого в моей парикмахерской появился Геббельс. “Было совершено покушение на усы фюрера, однако оно завершилось провалом”, - весь дрожа, произнес он. Геббельс распорядился организовать мое выступление по радио с обращением к народу Германии, которое я зачитал, почти не заглядывая в подготовленный текст. “Фюрер невредим, — сказал я народу. — Усы по-прежнему при нем. Повторяю: фюрер сохранил свои усы. Заговор, направленный на то, чтобы сбрить их, провалился”.
Уже в самом конце войны меня вызвали в бункер Гитлера. Армии союзников приближались к Берлину, и Гитлер чувствовал, что, если русские придут первыми, ему придется обриться наголо, если же первыми окажутся американцы, то достаточно будет просто слегка подровнять волосы. Вокруг все нервничали, переругивались. В самый разгар общей ссоры Борманн вдруг захотел побриться, и я пообещал выкроить для него местечко в моем графике. Фюрер все больше мрачнел, замыкался в себе. По временам он заговаривал о том, чтобы устроить себе пробор от уха до уха, или о том, что, ускорив создание электрической бритвы, он сможет переломить ход войны в пользу Германии. “Мы будем тратить на бритье не больше нескольких секунд, не так ли, Шмид?” — бормотал он. Упоминал он и о других безумных планах, а однажды заявил, что подумывает когда-нибудь не просто постричься, но сделать красивую прическу. Со всегдашним его стремлением к монументальности, Гитлер клялся, что рано или поздно соорудит на своей голове такой “помпадур”, от которого содрогнется мир и для укладки которого потребуется почетный караул”. На прощание мы обменялись рукопожатиями, и я в последний раз подровнял ему волосы. Фюрер дал мне пфеннинг на чай. “С радостью дал бы больше, сказал он, — но после того, как союзники завладели Европой, я несколько стеснен в средствах”.
Моя философия
© Перевод С. Ильина
Побудительным толчком к разработке моей философской системы явилось следующее событие: жена, зазвав меня на кухню, чтобы я попробовал впервые приготовленное ею суфле, случайно уронила чайную ложку последнего мне на ногу, сломав несколько мелких костей стопы. Пришлось собрать консилиум, доктора сделали и затем изучили рентгеновские снимки, после чего велели мне пролежать месяц в постели. В процессе выздоровления я обратился к трудам самых заумных мыслителей западного мира — стопку их книг я давно держал наготове как раз для такого случая. Презрев хронологический порядок, я начал с Кьеркегора и Сартра, а затем переключился на Спинозу, Юма, Кафку и Камю.
Поначалу я опасался, что чтение окажется скучным, но нет. Напротив, меня зачаровала бойкость, с которой эти великие умы расправляются с проблемами морали, искусства, этики, жизни и смерти. Помню мою реакцию на типичное по своей прозрачности замечание Кьеркегора: “Отношение, которое соотносит себя со своим собственным “я” (то есть с собой), образовываться должно либо собою самим, либо другим отношением”. Эта концепция едва не довела меня до слез. Господи, подумал я, какой же он умный! (Сам-то я из тех людей, которые, когда их просят описать “Мой день в зоопарке”, с превеликим скрипом сооружают от силы два осмысленных предложения.) Правда, я ничего в приведенном замечании не понял, ну да и бог с ним, лишь бы Кьеркегору было хорошо. Внезапно обретя уверенность, что метафизика — это именно то, для чего я создан, я взялся за перо и принялся набрасывать первое из моих собственных рассуждений. Работа шла ходко, и всего за два вечера — с перерывами на сон и попытки загнать два стальных шарика в глаза жестяного медведя — я завершил философский труд, который, надеюсь, останется никем не замеченным до дня моей смерти или до 3000 года (в зависимости от того, что наступит раньше) и который, как я скромно верую, заслужит мне почетное место в ряду авторитетнейших мыслителей, известных истории человечества. Ниже приводится несколько небольших примеров того, что образует интеллектуальное сокровище, которое я оставляю последующим поколениям — или уборщице, если она появится первой.
Первый вопрос, которым нам следует задаться, приступая к формулированию любой философской системы, таков: что мы, собственно, знаем? То есть в каком именно нашем знании мы уверены или уверены, что мы знаем, что знали его, если оно вообще является познаваемым. Или, быть может, мы просто забыли то, что знали, и теперь стесняемся в этом признаться? Декарт намекнул на эту проблему, когда написал: “Мой разум никогда не знал моего тела, хотя с ногами моими у него сложились довольно теплые отношения”. Кстати, под “познаваемым” я не подразумеваю ни того, что может быть познано посредством чувственной перцепции, ни того, что может быть усвоено разумом, но по преимуществу то, о чем можно сказать, что оно Должно Быть Познанным, или обладать Знаемостью, либо Познаемостью, — или по меньшей мере то, о чем можно поболтать с друзьями.
Ну в самом деле, “знаем” ли мы Вселенную? Бог ты мой, да нам далеко не всегда удается выбраться даже из китайского квартала. Суть, однако же, в следующем: существует ли что-либо вне данной точки пространства? И зачем? И чего оно так шумит? И наконец, невозможно сомневаться в том, что одной из характеристик “реальности” является полное отсутствие сущности. Это не означает, что сущности в ней нет совсем, просто сейчас она отсутствует. (Реальность, о которой я здесь говорю, это та же самая, которую описывал Гоббс, только моя немного поменьше.) Вследствие этого, смысл картезианского изречения “Я мыслю, следовательно, существую” может быть гораздо яснее передан словами: “Глянь-ка, а вон и Эдна с саксофоном идет!” Но в таком случае, чтобы познать субстанцию или идею, мы должны в ней усомниться, и таким образом, подвергая ее сомнению, воспринять качества, которыми она обладает в конечном своем состоянии, каковое и есть подлинная “вещь в себе”, или “вещь вне себя”, или еще что-нибудь, или просто пустое место. Уяснив это, мы можем на время оставить гносеологию в покое.
Мы можем сказать, что вселенная образуется субстанцией, которую мы называем “атомами”, или еще “монадами”. Демокрит называл ее атомами. Лейбниц монадами. По счастью, эти двое никогда не встречались, иначе они затеяли бы на редкость скучную дискуссию. Эти “частицы” были приведены в движение некой причиной или основополагающим принципом, а может быть, на них просто что-то упало. Главное, теперь уже ничего не поделаешь, хотя, впрочем, можно попробовать съесть столько сырой рыбы, сколько вместит душа. Все это, разумеется, не объясняет бессмертия последней. Оно также ничего не говорит нам о загробном существовании или о том, почему моему дяде Сендеру все время казалось, будто его преследуют албанцы. Причинное соотношение между первоначальным принципом (т. е. Богом или же сильным ветром) и любой телеологической концепцией бытия (Бытие) является, согласно Паскалю, “столь смехотворным, что это даже не смешно” (Смешно). Шопенгауэр называл его “волей”, однако лечащий врач Шопенгауэра утверждал, что речь тут может идти всего-навсего о сенной лихорадке. В последние свои годы Шопенгауэр очень злобствовал по этому поводу, хотя, скорее всего, причина тут была в его все усиливавшихся подозрениях насчет того, что он никакой не Моцарт.
Что же, в таком случае, представляет собой “красота”? Слияние гармонии с точностью или слияние гармонии с чем-то иным, что лишь созвучно слову “точность”? Возможно, гармонию следовало бы сливать с “сочностью”, а все наши неприятности проистекают как раз из того, что мы этого не делаем? Истина, разумеется, и есть красота — или “необходимость”. То есть все, что хорошо или обладает качеством “хорошести”, в конечном счете приводит нас к истине. А если какая-то вещь нас туда не приводит, то можете смело побиться об заклад, что вещь эта лишена красоты, пусть даже она остается водонепроницаемой. Мне все-таки кажется, что я был прав изначально и что все следует сливать с сочностью. Ну ладно.
Человек приближается ко дворцу. Единственный вход в него охраняется свирепыми гуннами, пропускающими только тех, кого зовут Юлий. Человек пытается подкупить стражу, предлагая годовой запас куриных окорочков. Стражники не отвергают этого предложения, но и не принимают его, а просто берут человека за нос и начинают выкручивать таковой, и выкручивают до тех пор, пока нос не приобретает сходство с шурупом. Тогда человек заявляет, что ему совершенно необходимо попасть во дворец, потому что он принес императору свежую перемену подштанников. Поскольку стража все-таки его не пускает, человек начинает отплясывать чарльстон. Танец стражникам нравится, но вскоре они снова мрачнеют, вспомнив о том, как федеральное правительство обошлось с индейцами племени навахо. Человек, запыхавшись, упадает наземь. Он умирает, так и не повидав императора да еще и не заплатив компании “Стейнвей” шестьдесят долларов за пианино, которое он в прошлом августе взял у нее напрокат.
Мне вручают депешу, которую я должен доставить генералу. Я скачу и скачу на коне, но расстояние до штаб-квартиры генерала все возрастает и возрастает. В конце концов гигантская черная пантера набрасывается на меня и начинает пожирать мою душу и сердце. В результате все мои планы на вечер идут прахом. Сколько я ни стараюсь, мне не удается настичь генерала, хоть я и вижу, как он в одних трусах бежит вдали, шепча в сторону противника: “Сами вы мускатные орехи”.
Человек не может объективно переживать собственную смерть и при этом еще насвистывать веселенький мотивчик.
Вселенная есть просто идея, ненадолго мелькнувшая в разуме Бога, — весьма неприятная мысль, особенно если вы только что внесли первый взнос за купленный в рассрочку дом.
Вечное Ничто — штука неплохая, если успеть приодеться к его появлению.
Если бы только Дионис был жив! Где бы теперь обедал?
Мало того, что Бога нет, по выходным и водопроводчика-то не доищешься!
Да, но разве паровая машина смогла бы сделать такое?
© Перевод С. Ильина
Я перелистывал журнал, ожидая, когда Йозеф К., мой бигль, появится после обычного своего пятидесятиминутного вторничного визита к ветеринару юнговского толка: беря по пятидесяти долларов за сеанс, ветеринар отважно внушает ему, что наличие крепких челюстей вовсе не является помехой для достижения успеха в обществе, — так вот, перелистывая журнал, я наткнулся внизу страницы на сообщение, которое буквально загипнотизировало меня, словно банковское извещение о переборе с текущего счета. Внешне оно выглядело, как заурядный заголовок, предваряющий разного рода дребедень, поставляемую информационными агентствами, что-то вроде “Гистограммы!” или “Спорим, вы об этом не знаете”, однако глубина его содержания оглушила меня примерно так же, как оглушают первые такты Девятой симфонии Бетховена. “Сэндвич, — говорилось в нем, — изобретен графом Сэндвичем”. Ошеломленный этой новостью, я перечитал сообщение несколько раз и против воли своей содрогнулся. В мозгу моем взвихрились мысли о непостижимых устремлениях и надеждах, о неисчислимых препонах, встававших, надо полагать, на пути создателя первого подлинного бутерброда. Взгляд мой, прикованный к мреющим в окне небоскребам, застлала слеза, меня осенило ощущение вечности, преклонение перед Человеком, перед местом, которое он ухитрился занять во Вселенной. Человеком Изобретающим! Перед моим внутренним взором закружились записные книжки да Винчи — бесстрашные кроки наивысших устремлений рода человеческого. Я размышлял об Аристотеле, Данте, Шекспире. О “Первом фолио”. О Ньютоне. О “Мессии” Генделя. О Моне. Об импрессионизме. Об Эдисоне. О кубизме. О Стравинском. Об Е=тс2…
Лелея в сознании мысленный образ первого сэндвича, который покоится ныне в особом саркофаге, установленном в Британском музее, я потратил следующие три месяца на составление краткой биографии великого творца, Его Касательства Графа.
Несмотря на то, что познания мои в истории оставляют желать лучшего, а способность к романическому изложению не превышает среднего уровня рядового торчка, я, как мне кажется, все-таки смог уловить хотя бы самые важные черты личности непревзойденного гения и потому надеюсь, что мои разрозненные заметки вдохновят настоящего историка, который воспользуется ими в качестве отправной точки.
1718. Рождается в семье, принадлежащей к высшим слоям общества. Отец новорожденного как раз в это время получает пост верховного кузнеца при дворе Его величества Короля, — честь, переполнявшая душу отца восторгом в течение нескольких лет, по прошествии коих он обнаруживает, что его считают заурядным молотобойцем, и, исполнившись горьких чувств, подает в отставку. Мать графа простая Hausfrau немецких кровей, чье не отмеченное сколько-нибудь яркими свершениями меню не выходит обычно за пределы топленого свиного сала и овсяной размазни. Впрочем, проявляемое ею по временам умение приготовить сбитые сливки с вином обнаруживает в этой женщине признаки кулинарного воображения.
1725–1735. Посещает школу, в которой его обучают верховой езде и латыни. Здесь он впервые знакомится с холодной отварной говядиной и проявляет выходящий за рамки обычного интерес к нарезанным тонкими ломтиками ростбифу и ветчине. По окончании школы интерес этот приобретает черты отчасти маниакальные, но хотя написанная им статья “Анализ холодных закусок, а также феноменов, сопутствующих поглощению оных” и привлекает внимание ученого мира, однокашники продолжают относиться к нему как к эксцентричному недоумку.
1736. Исполняя волю отца, поступает в Кембридж, дабы изучать риторику и метафизику, однако не проявляет особой тяги ни к той, ни к другой. Постоянно выказывает неприятие академической науки, а это приводит к тому, что его обвиняют в краже нескольких батонов и в проведении над оными противоестественных опытов. Обвинения в ереси влекут за собой изгнание из университета.
1738. Лишенный наследства, отправляется в Скандинавские страны, где отдает три года напряженному изучению сыров. Большое впечатление производит на него также разнообразие сардин, с которыми ему приходится сталкиваться в повседневной жизни. В его записной книжке той поры читаем: “Я убежден, помимо всего, что уже успело познать человечество, существует еще вечносущая реальность, образуемая наслоениями различных продуктов питания. Простота, простота — вот ключ ко всему!” Возвратившись в Англию, знакомится с Адой Малкалибри, дочерью зеленщика, и вступает с нею в брачный союз. Этой женщине предстоит научить графа всему, что он когда-либо знал о латуке.
1741. Живя в деревне на небольшое наследство, он день и ночь трудится, порой экономя на еде, чтобы купить продукты питания. Первая из завершенных им работ — ломтик хлеба, на нем другой ломтик хлеба, а поверх обоих ломтик индейки — терпит жестокий провал. Горько разочарованный, он запирается в своем кабинете и начинает все заново.
1745. После четырех лет самозабвенного труда осознает, что стоит на пороге успеха. Представляет узкому кругу равных ему созидателей свое новое творение: два ломтика индейки с ломтиком хлеба между ними. Творение это также остается непризнанным — один лишь Дэвид Юм, ощутивший в нем предвестие чего-то неизмеримо великого ободряет изобретателя. Воодушевленный дружбой философа, он с обновленной энергией приступает к работе.
1747. Впав в нищету, лишается в дальнейшем возможности трудиться над ростбифом и индейкой и переходит на более дешевую ветчину.
1750. Весной этого года выставляет на ярмарке три ломтика ветчины, уложенных один на другой; экспонат пробуждает определенный интерес, преимущественно в интеллектуальных кругах, однако широкую публику оставляет равнодушной. Три ломтя хлеба один на другом укрепляют репутацию изобретателя, и хотя зрелость его стиля еще не бросается в глаза, Вольтер приглашает его к себе — погостить.
1751. Приезжает во Францию, где драматург-философ демонстрирует ему некоторые любопытные результаты, полученные в ходе опытов с хлебом и майонезом. Между ними завязывается дружба, а следом и переписка, которая резко прерывается, когда у Вольтера кончаются марки.
1758. Все возрастающее признание, которым он пользуется у творцов общественного мнения, приводит к тому, что королева Англии просит его приготовить “что-нибудь оригинальное” к завтраку и приглашает в гости испанского посла. Работает день и ночь, раздирая в клочки сотни набросков и чертежей, и наконец — в 4.17 утра 27 апреля 1758 года — создает произведение, состоящее из нескольких ломтиков ветчины, прикрытых сверху и снизу двумя кусочками ржаного хлеба. В приливе вдохновения инкрустирует свой шедевр горчицей. Творение его производит такой фурор, что графа подряжают готовить субботние завтраки для королевы вплоть до конца того года.
1760. Успех следует за успехом, он создает “сэндвичи”, названные так в его честь, из ростбифа, курятины, языка и практически любого холодного мяса, какое только удается добыть. Не желая останавливаться на уже опробованных рецептах, он ведет неустанный поиск новых идей и изобретает комбинированный сэндвич, за который и получает Орден Подвязки.
1769. Живя в своем сельском поместье, граф принимает у себя величайших людей столетия; в его доме гостят Гайдн, Кант, Руссо и Бен Франклин, некоторые из них наслаждаются за обеденным столом его выдающимися творениями, прочим указывают на дверь.
1778. Несмотря на физическое одряхление, продолжает поиски новых форм, записывая в своем дневнике: “Работаю допоздна, а поскольку ночи стоят холодные, поджариваю все подряд, чтобы хоть немного согреться”. Ближе к концу этого года граф создает открытый горячий сэндвич с ростбифом, кажущаяся простота которого вызывает шумный скандал.
1783. Дабы отпраздновать свое шестидесятипятилетие, изобретает гамбургер и лично отправляется в турне по главным столицам мира, где готовит гамбургеры в концертных залах, на глазах у солидной, млеющей в благоговении аудитории. В Германии Гёте предлагает аранжировать гамбургеры на булочках — идея, которая приводит графа в такой восторг, что он говорит об авторе “Фауста”: “Этот Гёте — малый не промах”. Замечание это воодушевляет Гёте, тем не менее, на следующий год между ними происходит интеллектуальный разрыв, связанный с тонкостями в толковании понятий прожаренного на славу, прожаренного посредственно и просто хорошо прожаренного.
1790. Во время проходящей в Лондоне ретроспективной выставки его произведений внезапно ощущает боль в груди и решает: конец близок, однако оправляется настолько, что руководит группой своих талантливых последователей, взявшихся соорудить “богатырский сэндвич” из цельного батона. Торжественное открытие этого монумента в Италии приводит к национальному восстанию, творение его так и остается не понятым никем, кроме горстки проницательных критиков.
1792. Не залеченное вовремя злокачественное искривление колена приводит к тому, что он тихо отходит во сне. Тело его погребают в Вестминстерском аббатстве, на церемонии присутствуют тысячи скорбящих. Во время похорон графа немецкий поэт Гельдерлин подводит итог его достижениям, вознося покойному неприкрытую хвалу: “Он освободил человечество от горячего завтрака. Мы все в неизмеримом долгу перед ним”.
Смерть открывает карты
© Перевод С. Ильина
Действие пьесы разворачивается в спальне принадлежащего Нату Акерману двухэтажного дома, стоящего где-то в Кью-Гарденз. Все стены в коврах. Просторная двойная кровать и немалых размеров туалетный столик. Изысканная мебель, шторы, на стенных коврах — несколько живописных полотен и довольно несимпатичный барометр. При открытии занавеса звучит негромкая мелодия — это основная музыкальная тема спектакля. Нат Акерман, лысый, пузатенький пятидесятисемилетний производитель готового платья, лежит на кровати, дочитывая завтрашний номер “Дейли ньюс”. Нат в халате и шлепанцах, газету освещает лампочка в белом металлическом абажуре, прикрепленная зажимом к спинке в изголовье кровати. Время близится к полуночи. Внезапно раздается какой-то шум, Нат садится и поворачивается к окну.
Нат. Какого черта?
В окне, неуклюже корячась, возникает мрачная личность. На незнакомце черный плащ с клобуком и черный, в обтяжку, костюм. Клобук покрывает голову, оставляя открытым лицо — лицо пожилого человека, но совершенно белое. Внешне он немного смахивает на Ната. Громко пыхтя, незнакомец переваливается через подоконник и рушится на пол.
Смерть. Иисусе Христе! Чуть шею не сломал.
Нат (в замешательстве глядя на пришлеца). Ты кто такой?
Смерть. Смерть.
Нат. Кто?
Смерть. Смерть. Послушай, можно я присяду? Я едва шею себе не свернул. Дрожу как осиновый лист.
Нат. Нет, но кто ты такой?
Смерть. Да Смерть же, Господи. Стакан воды у тебя найдется?
Нат. Смерть? Что ты этим хочешь сказать — смерть?
Смерть. Ты что, не в себе? Не видишь — весь в черном, лицо белое…
Нат. Ну, вижу.
Смерть. Разве нынче Хэллоуин?
Нат. Нет.
Смерть. Ну вот, значит, я — Смерть. Так могу я получить стакан воды — или хоть лимонаду?
Нат. Если это какая-то шутка…
Смерть. Какие шутки? Тебе пятьдесят семь? Нат Акерман? Пасифик-стрит, сто восемнадцать? Если только я ничего не перепутал… сейчас, у меня где-то был список вызовов… (Роется по карманам и наконец извлекает карточку с адресом. Похоже, адрес правильный.)
Нат. И чего ты от меня хочешь?
Смерть. Чего я хочу? А как по-твоему?
Нат. Ты, наверное, все-таки шутишь. Я совершенно здоров.
Смерть (равнодушно). Ну да, еще бы. (Оглядывается по сторонам.) А ничего у тебя квартирка. Сам обставлял?
Нат. Нанял тут одну бабу, декораторшу, да только за ней все равно пришлось присматривать.
Смерть (вглядываясь в одну из картин). А вот эти детишки с вытаращенными глазами мне нравятся.
Нат. Я пока еще не хочу уходить.
Смерть. Да ну? Слушай, не затевай ты эту бодягу. Меня, к твоему сведению, все еще тошнит от подъема.
Нат. Какого подъема?
Смерть. По водосточной трубе. Хотел произвести впечатление. Вижу, окна большие, ты не спишь, читаешь. Вот и решил, что стоит попробовать. Думаю, влезу и появлюсь с этаким — ну, сам понимаешь… (Прищелкивает пальцами.) А пока лез, завяз башкой в каких-то плетях, труба обломилась, я и повис, буквально на волоске. Потом еще капюшон начал расползаться. Послушай, пойдем, что ли? Ночка выдалась тяжелая.
Нат. Ты сломал мою водосточную трубу?
Смерть. Ломал. Да только она не сломалась. Так, погнулась немного. А ты что, ничего не слышал? Я знаешь как об землю хряпнулся?
Нат. Я читал.
Смерть. Наверное, что-нибудь интересное. (Поднимает с пола газету.) “Групповая оргия с участием девушек, изучающих "Новую Американскую Библию"”. Можно, я это возьму?
Нат. Я еще не дочитал.
Смерть. Ну… я не знаю, как тебе объяснить, дружище…
Нат. А почему ты просто в дверь не позвонил?
Смерть. Я же тебе говорю, можно было б и позвонить, но как бы оно выглядело? А так все-таки — драматический эффект. Нечто внушительное. Ты “Фауста” читал?
Нат. Кого?
Смерть. И потом, вдруг у тебя компания? Сидишь тут с важными шишками. И нате — я, Смерть, звоню в дверь и впираюсь к вам, как я не знаю кто. Разве так можно?
Нат. Послушайте, мистер, время уже позднее…
Смерть. Ну, а я о чем? Пошли, что ли?
Нат. Куда?
Смерть. Брось. Жилье. Иди. За. Мною. У. Меня. Во гробе. Тихо. (Разглядывает свое колено.) Надо же, как разодрал. Первое задание, а я, того и гляди, гангрену подхвачу.
Нат. Постой, постой. Мне требуется время. Я еще не готов.
Смерть. Сожалею. Но помочь не могу. И рад бы, да вот, видишь ли, — пробил твой час.
Нат. Какой такой час? Я вон только что слил свою компанию с “Оригинальными Модистками”.
Смерть. Подумаешь, разница — парой баксов больше, парой меньше.
Нат. Тебе-то, конечно, без разницы. Тебе небось все расходы оплачивают.
Смерть. Так пойдем мы или не пойдем?
Нат (внимательно вглядываясь в собеседника). Ты меня, конечно, извини, но я не верю, что ты — Смерть.
Смерть. Почему это? А ты кого хотел увидеть — Марлона Брандо?
Нат. Дело не в этом.
Смерть. Прости, если разочаровал.
Нат. Да ты не расстраивайся. Я не знаю, я всегда думал, что ты… ну… ростом повыше, что ли.
Смерть. Пять футов семь дюймов. Средний рост для моего веса.
Нат. И вообще, ты немного смахиваешь на меня.
Смерть. На кого же мне еще смахивать? Я, как-никак, твоя смерть.
Нат. Ты все-таки дай мне немного времени. Ну хоть один день.
Смерть. Не могу. Да ты и не ждал другого ответа.
Нат. Один-единственный день. Двадцать четыре часа.
Смерть. На что он тебе? Вон по радио говорили — завтра дождь будет.
Нат. Ну, может, все же договоримся как-нибудь?
Смерть. Например?
Нат. В шахматишки сыграем, на время?
Смерть. Не могу.