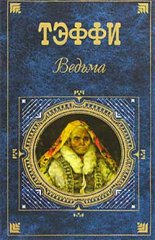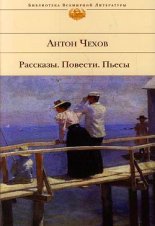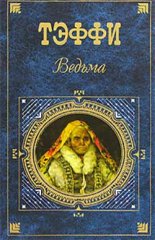Хамсин Говоруха Ирина

Но не было измен, все это пустяки,
Не стоит принимать решений резких.
Не ветер перемен, не ветер перемен,
Не ветер перемен, а просто сквозняки
Колышат в нашем доме занавески.
Л. Рубальская
– Дим, добавь отопление.
Дима, сидевший в одной майке, даже не услышал. Он читал письмо. Электронное письмо ему обжигало пальцы.
– Слушай, из окон так дует. Мы же поменяли их три месяца назад. Смотри, тюль шевелится. Ты не знаешь, где телефон мастеров?
Лада стояла и двигала вазоны на подоконнике.
– Опять листья в пыли. Нужно будет еще раз серьезно поговорить с домработницей. Смотри, на каллах в палец пыли! Дим, слышишь? А из окон-таки сквозит.
– Это не от окон…
– Что ты сказал, я не услышала.
– Лада, не приставай ко мне с ерундой.
Ему вдруг стало тошно. От какой-то чужой жизни, которую ему впарили. От того, что они постоянно обсуждают какую-то Алевтину Сергеевну, которая никак не может выбрать себе домработницу. И что у них дома появилась совершенно чужая женщина, которая стирает ему потные после пробежки майки. И меняет постель. В те дни, когда она приходила, Лебедев старался пораньше выскочить из дома и не слышать:
– Доброе утро, Дмитрий Александрович. Что желаете на завтрак?
Да ничего он е желает. Разве что завтрак, приготовленный женой. И чтобы только вдвоем они сидели за столом. Он в одних трусах. Лада – еще в рубашке. И чтобы, ленясь тянуться за ложкой, он мог свободно перевернуть вилку и так размешать сахар. А при чопорной домработнице к столу нужно выходить уже при полном параде.
Он хотел чуть попроще. Уж лучше пусть Лада ворчит, что ничего, ровным счетом ничего не успевает. И пусть у него не будет свежевыглаженной рубашки. Справлялся же раньше сам? А теперь открываешь шкаф, а там все как на радуге. Полутона входят в тона. И некуда даже запихнуть свои рваные шорты, в которых на выходных он еще погоняет в волейбол. И нельзя прийти и вывалить все из карманов на зеркальный стол. Домработница тут же материализуется и станет у него под носом все убирать. Ну не привык он, что чужая тетка в переднике раскладывает ему белье…
Он смертельно устал от этих бесконечных повествований о вздувшемся ламинате, о кусачих собаках в квартире на улице Ковпака, о ребенке с гемофилией на улице Институтской, об Amway. Он не мог разобраться в этих одинаковых белых бутылках, размером с бензиновую канистру. Она ими заставила всю кладовую и могла даже со сна виртуозно прочитать лекцию о безвредной химии. И вырывала у него из рук тряпку с содой, когда он хотел помыть шампуры после шашлыков.
Лада изменилась. Он в такую не влюблялся. Она стала искусственной. С нарощенными ногтями, напоминающими пилки, татуажем на бровях и запахом тяжелее самого тяжелого металла осмия с атомическим номером 76. И больше не бегала на рынок за обувью, а предпочитала только Helen Marlen. И не ходила по дому в пижаме полвоскресенья…
А когда-то ему нравилась Ладина пижама… Они ее купили на Троещинском рынке за большие деньги. И Лада первое время в ней не спала, а просто колесила по их первой съемной квартире на ул. Ушакова. В коридоре стояла газовая плита, и она жарила ему блинный торт из кабачков. Пропитывала его чесноком и майонезом. А посуду мыла в ванной, потому что кухня была забита хозяйским хламом и закрыта на ключ. После этой улицы Киев напрочь заканчивался…
И Димка разрешил себе первый раз прийти ночью…
Говорил, что спустило колесо на магистрали… и запаски не было… И увидел Ладины заплаканные глаза… В них было отчаянье… И вопрос: «Ведь ничего не было? Ведь точно-точно ничего не было?» И такая за ними пустота. Словно глаза вытекли, оставив две холодные ямы…
– Дим, я тебе звонила…
А когда-то он ей говорил:
– Лад, ты такая маленькая, что я тебя положу на ладошку и буду носить за пазухой… Чтобы тебе было тепло… И чтобы ты никогда не потерялась…
А теперь ему вдруг стало все равно, что она давно уже потерялась… И что ей очень холодно. И что выпала из-за его широкой пазухи. И больно ударилась об асфальт… И счесаны локти… Или это он потерялся… Или они вместе все потеряли…
– У меня села батарея.
Она сидела в коридоре перед входной дверью. Скрутившись в углу. Он ее достал из этого угла. У нее были ледяные ноги… и она потом еще долго лечила цистит…Димка ничего такого не собирался. Не было у него в планах с Никой спать. Или было? Они сидели в машине под ее подъездом. Слушали радио. У Димки всегда играла одна и та же волна «Ретро FM».
В окнах мигал свет: красный и оранжевый. Пока не закончился. Как заканчивается картошка к весне. Пока не осталось ни одного светящегося отверстия. И тогда Лебедев понял, что уже очень поздно и он слишком засиделся. Хотел посмотреть на часы, но они шли в обратную строну. Он стал прощаться, а Ника погладила его пах. Через тонкую шерсть брюк.
– Ника, не нужно, тебе пора домой.
– Дим, пожалуйста, я хочу узнать, какой ты здесь. Я только поглажу. Через одежду…
Он не успел опомниться, как она достала его плоть и сжимала маленькой рукой с алыми ногтями. А потом наклонилась и погрузила в рот головку. И стала так двигать языком, что у него из глаз посыпались искры. Лебедев застонал и понял, что не справится. Не остановит ее сексуальный порыв. И они занялись сексом прямо в машине…
А ведь Ника долго ждала, что будет интимное свидание в дорогой гостинице. Она даже высмотрела очень уютную, почти домашнюю – «Седьмое небо» называется. И уже представляла, как они закажут двухместный люкс, в котором песочного цвета спальня и стены темно-желтые, похожие на цвет груши Оливье де Серр. Ника даже вертела перед его носом буклетом, но он ничего не замечал и намек не понял. И тогда она решила, что ждать больше нельзя… Ведь уйдет. Ведь слишком примерный семьянин… И пока не проснулась совесть…
Она сидела сверху, и коленям было больно. Они упирались во что-то твердое. Лебедев не успел опомниться, как Ника разделась совсем. У него перед глазами мелькала ее вздернутая грудь, и он интуитивно ловил ртом ее сосок. И было дико, грешно и от этого очень остро. Ему казалось, что за ними наблюдает женщина, курящая на балконе второго этажа и что такого секса у него никогда не было. Он пытался нащупать рукой презерватив, трогая свой член у основания. И не мог вспомнить, что ищет. Нике было неудобно, но она продолжала стонать. Слишком рано она на него села… Слишком сухая еще была внутри… И к его финалу у нее будут мозоли.
Он пришел домой вором. Прятался в ванной и долго сидел на кухне, не включая свет. Ночь зажгла свечу, чтобы отмолить его грех. Он понимал, что этот грех только начало… И что воска потребуются тонны.
Дома было здорово. Чисто. Стильно. Дорого. Каждая мелочь ему напоминала о дизайнере в пальто с капюшоном, которое было велико размеров на десять. Лебедев варил себе на кухне кофе. Густой, как жижа чернозема. Надеялся отравиться и таким образом сплющить создавшийся треугольник.
– Лебедев, ты же слон. В твоих руках кофейная чашка смотрится, как игла. Тебе нужно кофе пить из пивного бокала, – шутила раньше Лада.
А теперь он пил практически из турки и никому до этого не было дела.
Утром он затирал следы. У него на трусах остались белые Никины пятна… Ему казалось, что он пахнет сексом. И что все понятно, стоит только задержаться на его глазах. Там все записано, русскими буквами.
И он изменил еще раз. Второй раз дался легче… И Ладины глаза уже не беспокоили… И в коридоре она больше не сидела, натягивая на колени шелковый халат. Просто стала совсем чужой. И перестала практически с ним разговаривать. Стала равнодушной и холодной. Она встречала его в коридоре, смотрела сквозь него на противоположную стену и шла дальше в своем домашнем платье цвета маренго. Он всегда шутил, что она в нем напоминает моряков времен первой мировой войны. А теперь так шутить перестал.Снег сыпался с веток, как пух с тополей. Не запланировано обслюнявила город оттепель. Моросил дождь. Деревья стояли под заборами, мокрые и несчастные. Они были похожи на кур, которых выпустили на огород, а потом о них забыли. На некоторых яблонях еще с осени висели красные безвкусные плоды. Они за зиму переболели и ангиной, и ОРЗ, и дважды гриппом.
И теперь висели с прочным иммунитетом. Вороны спали в снегу. Просыпаясь, громко лаяли. Земля с клумбы перекочевала на асфальт, придавая ему неряшливый вид.
Сырость застукала Ладу на окраине города. У нее было плохое настроение из-за сорвавшегося контракта, и она ходила между одинаковыми домами, не имея представления, где оставила машину. И вдруг за стеклом дешевого кафе на четыре столика она увидела Димку. Его невозможно было не заметить. Он возвышался над кукольным столом и оттягивал от горла теплый свитер из верблюжьей шерсти. Она его сегодня силой заставила надеть.
– Лад, ну не нравится он мне. Колючий, зараза.
– А что ты хотел? Самая лучшая шерсть. Помнишь, как нам рассказывали, что стригут только нерабочих верблюдов и то раз в пять лет. Зато он легкий из-за большого количества воздушных камер в каждом волоске. И снимает нервное напряжение… Видишь, какой ты нервный.
Димка дальше не слушал. Он поддевал футболку с длинными рукавами.
Рядом с ним сидела молоденькая девочка и заглядывала ему в рот. А он что-то увлеченно рассказывал. Точно такой же когда-то была она. Юной, бедно одетой, в зеленом самосвязанном свитерке из акрила. И брошь у нее была похожая – серебряная стрекоза. И Лада с горечью подчеркнула, что миллион лет его так не слушала. Да что тут говорить! Она вообще его уже не слушала. Да и что нового он может сказать? Все сказано за 20 лет. И давно они не сидели в маленьком кафе, в котором ужасный кофе и жирные плюшки со сгущенкой «Ириска» внутри. И давно просто так не говорили. Не о работе и встречах, а о себе…Она стояла под мокрым небом и думала. Наверняка, здесь чай только пару дней как подают в чашках, а не в бумажных стаканчиках. И выпечка у них грубовата, и медовик с толстыми коржами наверняка с прокисшим кремом. И однозначно, звучит какая-то попса из приемника. Что-то на манер «Русского радио».
А она привыкла к дикому джазу и блюзу.
И ей стало страшно. Он пил кофе с другой. А она считала его своей собственностью. Как машину, квартиру, дорогой кухонный комбайн на мраморной столешнице. А ведь она когда-то готовила ему обманные беляши. Она даже помнила рецепт, настолько часто их жарила. На одном и том же масле. Нужно было мелко нарезать луковицу, смешать ее со стаканом кислого молока, добавить соль, сахар, раскрошить бульонный кубик и всыпать муку. Димка тогда с жадностью ел и нахваливал:
– Лад, не ври. Здесь однозначно есть мясо. Я же чувствую…
И ему нравилось печенье на рассоле из домашних помидор. И медовые пряники без меда… На основе сладкого чая и варенья. И она ему нравилась… Когда– то… Давно…Дома пахло ужином. Лада жарила отбивные.
– Лад, ты чего? Ты же говорила, что жареное мясо завоняет всю квартиру. Что разогретое подсолнечное масло впитается в дерево и в обои.
Димка с ярким румянцем после улицы стоял на пороге кухни и стирал сообщения в мобильном.
– Картошку жарить или варить?
Он молчал и глупо улыбался в экран.
– Дим, картошку жарить или варить?
– Мне все равно. Я уже поужинал, – и вышел из кухни.
Лада выключила газ под полусырыми отбивными, включила вытяжку и открыла окно. Там стояло заболевшее дерево. Абрикос с омертвевшей веткой. Как человек с усыхающей рукой. Когда-то плоды росли ей прямо в форточку. И они ели их прямо из квартиры. А потом незаметно живой древесный сок перестал течь в кончики. И ветка болталась как рваная тряпка. Когда налетал ветер – она царапалась в стекло.
– Дим, спили ветку. Я спать не могу. Словно кто– то пробирается в окна.
Димка, обещал, кивал: «Хорошо-хорошо». Все собирался то весной, то осенью, то пила на даче. А потом Ладу она перестала беспокоить. Потому что она перестала спать…А дальше была борьба. С самим собой. Оказалось – с собой бороться очень трудно. Ему до крика хотелось с Никой поговорить, но он не знал, что из этого получится. Его манила и одновременно пугала такая связь. Он поминутно заглядывал в телефон. Он и сам не знал, чего хочет. Лада наблюдала за его метаниями и задавала вопросы.
– Дим, тебе должны позвонить?
– Да, партнеры.
– В 11 вечера?
– Что?…
– Ты знаешь, к нам месяц назад пришла женщина. Маленького роста, полная, с низко посаженной попой. И все переживала из-за своего пальто. Когда я ей стала отказывать, она повторяла: «Вот только заработаю – новое куплю. Устройте меня к одинокому мужчине». Я поддалась какому-то невиданному порыву и пожалела ее. А через неделю пришел заказ: требовалась сиделка-компаньонка подполковнику в отставке. И я направила ее. Через месяц она пришла показать торт, который испекла ему к 23 февраля. Весь черный от шоколада с вульгарными калиновыми цифрами. А еще через две недели они поженились. Представляешь?
Лада сидела под лампой. Ей было интересно говорить о своем. Когда прохаживался кот, поднимая пышный, чесанный домработницей хвост, – по ее лицу ползали тени. И они ее не украшали. Она прятала ноги под попу и накручивала на палец локон. Она всегда так делала, когда была увлечена.
– А?…
И тут Лада поняла, что Димка ничего не услышал. Он, пряча телефон под стол, писал смс. Спешащими, непопадающими пальцами.
И стало страшно. Кот сидел перед дверью и мяукал, словно увидел привидение. До нее стало доходить, что ничего нет вечного. Особенно в любви.Он бродил совсем потерянный, а она пыталась выяснять отношения. И заблуждалась, что их нужно не выяснять, нудно разбираясь, кто прав, а кто виноват, а просто исправлять. Так же долго, как и рушить. Лечить. Мазать рану йодом, бинтовать бинтом. Выхаживать.
А она выводила его на разговоры. И когда он заходил домой весь враздрае – Лада встречала его на пороге со словами:
– Нам нужно серьезно поговорить.
Она говорила из грудного центра. В ее голосе прыгал и отскакивал бисер.
В эту минуту он хотел провалиться. И никаких разговоров не вести: ни серьезных, ни несерьезных. А она ему кричала:
– Димка, ты как дохлый лев. Ты меня слышишь? Ответь хоть что-то.
А он не хотел подкидывать дровишки в топку выяснения отношений. От так и говорил. Отмалчивался. Уходил в другую комнату. Чтобы продолжать молчать.
– Лебедев, с тобой и поссориться невозможно.
А он считал, что выяснением отношений можно только их окончательно испортить.
И Лада стала сходить с ума… Во время секса пыталась делать какие-то упражнения. Постоянно задерживала дыхание и втягивала анус. Сбивала с толку его и себя. И секс окончательно расстроился.
А когда все перепробовала: лунные планы на желтой бумаге, нацарапанные ручкой с драконьей кровью, любовные коллажи и медитацию, написала письмо Богу. И отправила по адресу: «God. Jerusalem. Israel». Она очень надеялась, что почтальон вложит письмо в одну из трещин между камнями храмовой стены. Оно там погреется, а потом похоронится на Масленичной горе. И дойдет до адресата. Жаль только, что не было марки с кошерным клеем.
Со временем стали происходить события, от которых он становился сам не свой. Курил на балконе и так сильно сжимал перила, что еще чуть-чуть и белые косточки прорвут кожу и вылезут наружу. Вылезут его проксимальные фаланги. Он тянул в себя дым, и глаза становились узкими, словно у верблюда, который не хотел смотреть на Хамсин. Он набрасывал куртку и вылетал за дверь.
– Ты куда?
– Лад, мне очень нужно. Я скоро.
Лебедев повел ее в караоке-бар «Джельсомино», в котором сам еще никогда не был. Он боялся называть эту встречу свиданием и маскировал другими словами. Просто вышел развеяться. Лада у мамы, ведь ничего плохого он не делает. И разве они встречаются? Просто пару раз споет в караоке. Выходной как-никак. И машину он не брал.
Ника пришла свежая, взволнованная. Очень красивая. Одета по-клубному в облегающие джинсы и футболку со спущенным одним рукавом. Из него выглядывали зеленая шлейка и загорелое плечо. Плечо пахло чем-то густым и хриплым, похожим на «Franck Olivier».
В клубе было холодно и накурено. Три стола были полностью заняты одними девушками. У каждой на лбу была печать одиночества. Хотя губы сидели на лице полностью растянутыми.
У них был заранее забронирован столик. На нем предусмотрительно лежала пухлая тетрадка с перечнем песен на любой вкус. В этот раз даже можно было выбрать тональность. То есть подогнать песню под свой вокал. В салфетнице – карточки для поющих. В них отмечались имена и композиции.
Диджей с узким лицом, словно он долго проходил в дверную щель, выглядывал из-за сваленной в кучу аппаратуры, как из норы. Его острый подбородок постоянно вздирался вверх. Вся его поза говорила о статусном превосходстве. Суетились официанты, разнося напитки, наполовину состоящие из смятых зеленых листьев. Сверху была мутная белесая вода. Словно долго собирали жидкий воздух над асфальтом в жаркий день, а потом вливали его в стаканы.
Лебедев пил виски, позвякивая крупным льдом. От него запотевали стекла, пальцы и стол. А еще Никины пальцы, ведь она прижималась к Лебедеву изо всех сил.
Сперва они слушали вяло, почти не комментируя. Потом с эмоцией. Дальше кивали и подпевали. Потом стали перекрикивать поющих. Ушло напряжение из спин и стали более развязными ноги. Говорить не было возможности. Каждое слово приходилось вкрикивать друг другу в уши и потом закрывать заслонкой. Чтобы звук оттуда не выпал. Никины стройные ноги удлинились. Джинсы оказались настолько низкими, что он увидел полоску кружевных трусиков. Таких же зеленых, как шлейка на плече.
Виски уже давно кружилось по венам вместо положенной плазмы. У него стал плавиться мозг, как сало на раскаленной сковородке. Пока не превратился в коричневую жидкость. Кто-то пел Лепса. Так похоже, что он пригласил ее танцевать. Кажется, это была «Рюмка водки на столе». И в эту минуту он пропал. Ее округлый теплый животик под облегающей тканью, пусть и не очень мягкой, накрыл его член как подушкой. И она стала его перекатывать с места на место. Ласкать. Будоражить… Димка никогда еще не целовался под сопровождение стольких задымленных глаз. Медленно, не теряя маслянистость зрачков, он входил в ее рот языком. Пробовал ее мятный коктейль. Ласкал ее влажные губы, думая уже о губах других.
Он продолжал вливать в себя виски в темном диванном углу, уже не слыша пение. Физически танец закончился, но продолжался внутри. Его рука уже давно лежала у нее под попкой, щупая сквозь джинсу все самые чувствительные места. Ему показалось, что ткань давно промокла, и стало горячо и так накаленным страстью пальцам.
Лада стерлась. Стала бледной и бесконтурной. С ней такое сделать было невозможно. Во-первых, она не пошла бы в клуб. А во-вторых, сказала, что все будет дома и у тебя не вымыты руки. Притом как следует. А если бы он предложил ей это сделать в туалете – никогда бы не простила подобную пошлость.
Ника уже давно опутала его свои телом. Ее рука нащупала под столом пах, потом определила головку… И у Лебедева мозг белым и желтым телом вылез наружу. Он был похож на кишки. Ненужные и непривлекательные. Он их смахнул в мусорную корзину.
И они поехали к Нике, у которой разъехались на выходные подружки. В лифте она на него запрыгнула и зафиксировала спину ногами. Он еле успел выпростать рубашку перед тем, как раздвинулись по сторонам двери.
Дома они продолжали пить. Сливовое вино из турецких стаканов. У Ники оказалась бутылка дешевой белой сливы «NAOMI». Он пил и скользил языком по сливовой косточке, с которой вместе настаивалась слива умэ. И смотрел на бутылку, повторяющую женские изгибы. Он уже давно стоял голый. В комнате был потушен свет.
– Ника, разденься.
Нике еще хотелось игры.
– Раздень меня.
Лебедев держался за спинку стула, двигая зрачками сантиметры ковра. Потом взялся за полоски обоев на стене.
– Ника, разденься, – повторил он.
И она поняла, что без вариантов. Сняла футболку через голову вместе с лифчиком. Под грудью было натертое место не вовремя вылезшей спицей. Оказалось, оно ей мешало целый вечер. Джинсы с трусиками отлетели за диван. Лебедев уложил свою спину в диванные подушки и потянул Нику на себя. Она села на колени лицом к лицу. Его оголенная плоть стояла между ними.
– Потрогай себя. Я хочу на это смотреть. Я готов на это смотреть всю ночь.
Ника дала ему облизать свои пальцы и положила их на сосок. Лебедев завис на ее ногтях в форме прямоугольника. Она перекатывала их между пальцами, натирала, а он кайфовал от того, что становится явью его самая любимая фантазия. Когда женщина ласкает себя и кончает от этого.
Сколько раз, доведя Ладу до бесконтрольного состояния, просил: «Ладка, потрогай себя. Пожалуйста». Она мгновенно трезвела, словно постояла под ледяным водопадом на Голанских высотах и приходила в себя. И ничего не трогала.
А тут Ника стала спускаться к своему лобку и раздвинула ноги пошире. Чтобы он ничего не пропустил. Ее пальцы стали надавливать на клитор, который и так уже вылез из капюшона. У Лебедева сердце в последний раз качнулось и разорвалось. Она уже была возбуждена до предела. Смотрела ему прямо в глаза, подтверждая: «Смотри. Смотри, как мне хорошо. Я это делаю для тебя». И ждала его разрешения… и он, не в силах на это больше смотреть, прошептал:
– Да, Ника, давай.
Ее движения стали более агрессивными. Она перестала дышать и тут же кончила. Лебедев впервые видел женский оргазм, созданный собственными руками. Собственной нежностью к своему телу. Без лишнего стеснения. И он забыл обо всем на свете. Об осторожности и контроле. И вошел в ее затухающие спазмы. В ее пульсирующее влагалище. И заговорил. О том, какая она внутри, какой формы. Он описывал все ее складочки и то, как приятно упираться в какую-то особую шероховатость у свода. И что она выточена под него… И Ника кончила еще раз. Теперь уже от низа его голоса……На часах было четыре утра. На небе промелькнула серая полоска. Словно полоска Асфальтового моря, если наблюдать со стороны Иерусалима. В эту ночь менялись эпохи.
Читало утреннюю молитву солнце, омывая сперва руки, потом ноги, потом лицо и снова руки по мусульманскому обычаю. Поливая себя из кувшина с двумя ручками, чтобы не оскверниться. В одном месте было плохо заклеено окно и из него завывало. Получалась монотонная, неотрепетированная песня.
Слышались шаги соседа выше. Он работал водителем метро и как раз надевал свою синюю старомодную форму с плохо подогнанными брюками. Его тапки с присохшими задниками шлепали за ногой. Залаяла собака. Видимо, от дурного сна. Ее голос был закрыт как минимум тремя этажами. Повертел головой фонарь, словно пытался вытрясти из ушей попавшую дождевую воду. А потом привычно заснул.
Лебедев спал тревожно. Отмечал каждый прокатившийся по улице звук. Затирал контуры Ладиного лица. Он не мог дотянуться, чтобы укрыть свою левую ногу. На нем спала Ника и из ее приоткрытого рта скапывала слюна ему на грудь. Лужица быстро остывала и вязла. Одеяло перепуталось и лежало на них поперек.
Он впервые ночевал вне дома. Не считая командировок. И с другой женщиной. Не считая новоселья, когда у них остались ночевать все гости. Ему тогда сопела в бок Ладина тетя.
Алоэ, разросшийся из простого глиняного горшка, упирался в потолок. От него падала на пол тень, смахивающая на монаха францисканского ордена. Он был в темно-коричневой шерстяной рясе, подпоясанной веревкой, к которой привязаны четки. В круглом клобуке и сандалиях. Он говорил ему о бедности и аскетизме. И когда Димка не сразу его узнал, тихо шепнул:
– Я босоногий. А еще нас называют серыми братьями, или кордельерами.
А дальше вдруг возникла Иудейская пустыня, прижатая плотным синим небом. В ней медленно, словно сведенная на нет, уходила зелень с травы. Уходила, чтобы начать связь камня с песком. Глубокую и вечную… и он опять провалился в сон.
Сон был странным и зловещим. Он оказался в доме своей бабушки, которая несколько лет как померла. Она стояла перед ним на кухне и чистила лук прямо на пол. Он посмотрел, что на полу не только луковая шелуха, но и картофельные очистки, капустные листы с запахом гнили. Бабушка стояла вся в черном, только платок был беленьким.
– Бабушка. Почему ты на пол? Вот же ведро.
– Да полное оно.
Димка оглянулся и увидел, что ведро под мойкой действительно с верхом.
– Давай я вынесу. Что ж ты так в грязи будешь жить.
– А это не моя грязь, Димочка. Не моя…
И он проснулся. Уже в другой жизни. Если бы он знал, что этой ночью перейдет границу своей судьбы, он бы никогда не ложился спать. Он бы всю ночь провел стоя, чтобы не пропустить это невидимое приближение к рубежам. Он бы караулил, патрулировал, стерег. Он бы ходил взад и вперед по комнате, считал бы окна на массиве, умножал их на два, а потом возводил в куб. Он бы выучил наизусть номера в своем мобильном телефоне и в старом справочнике, угол которого выглядывал из-за кресла. Он бы шел пешком домой, буксуя пьяными ногами в снегу. Чувствуя, как набирается мерзкая, давно не стиранная вода в ботинки. Он бы не допустил попадания в маятник.
Но он проспал. И маятник, раскачиваясь в другую сторону, сшиб его с ног.
Лебедев знал о пространстве вариантов. Знал, что из его уютного коридора с мягким зеленым светом и гобеленовыми обоями можно в любой момент открыть множество дверей и перейти в другой коридор. Но ему никогда не хотелось этого делать. Слишком мягким был ковер и удобными спортивные туфли. А в новом обувь будет другая. И не факт, что такая же подходящая. И что не станут протираться носки на чуть шероховатой пятке. И что будет таким же высоким потолок, и не будет счесываться плешь. Лебедев никогда не хотел менять судьбу.
А потом утратил контроль. Бдительность. Судьба квакнула, согнулась до упора и сломалась. На надрыве были видны куски арматуры, рыхлого бетона и алюминиевых спиц. Лебедев повертел их в руках и не понимал, что дальше. Он разрушил что-то святое и чувствовал себя омерзительно.Утро было еще нетрезвым. Под батареей валялась бутылка из-под вина. На подоконнике стоял бумажный стакан. В нем лежали катушки выгоревших ниток. Лебедев хотел поскорее испариться, но было как-то неудобно. Он пытался соблюдать приличия. Как же он устал от всех этих бесконечных церемоний…
Ника, с несмытым вчерашним макияжем, приготовила ему растворимый кофе и несвежий бутерброд. Хлеб был на грани плесени. И закурила в форточку… Оказывается, он привык, что Лада колдует с молочком и тоником. И что к завтраку у нее разглаженная кожа, как прохладным утюгом. Хотя нет, она разглаживала кожу петрушковым льдом.
Чашка была плохо отмыта. Вверху был въевшийся чайный ободок. И сахар комками. Видно, частенько его оттуда доставали мокрой ложкой. Неужели ему, равнодушному к порядку, это все-таки важно? Он смахнул эту мысль как муху.
– А когда ты еще приедешь?
– Ник, не знаю.
Лебедев с силой заталкивал в себя колбасу. Ему казалось, что он есть бумагу.
– Но ты же ее разлюбил, правда? Ведь у вас уже все закончилось?…
Димка не знал, что ответить. Не Нике. Себе. Ему показалось, что он по незнанию забрел в лабиринт. С хитро продуманным выходом. И что ему сидеть в нем до скончания века. И он вспомнил фотовыставку Елены Визерской, по прозвищу Kassandra. На одной из работ была женщина, запутавшаяся в плющевом лабиринте своей жизни, с кожаным саквояжем.
– Я тебе позвоню.
– Ник, не звони мне на мобильный.
– А куда, на домашний? В ее голосе зазвучал сарказм. – Можешь дать телефон своей старой жены.
Ему стало обидно за Ладу. Ведь она совсем не старая. Ника подошла к переполненному мусорному ведру и затолкала бычок. Оттуда ужасно пахло. На ее ногах были заношенные тапочки, уже не поддающиеся реставрации.
– Пить так хочется.
Она положила в чашку пару ложек варенья, долила воды из-под крана и залпом стала пить. А когда допила – у нее стал красным язык.
Вдруг открылась входная дверь и вошли подружки. Они были недовольны, так как ночевали, где придется. С презрением посмотрели на Димку, и тот стал собираться… И впервые стало неприятно надевать несвежие носки и вчерашнюю рубашку. Он чувствовал себя таким грязным, как тот бычок в ведре. В желудке неприятно разлагался бутерброд. Он с тоской вспомнил домработницу и ее английский завтрак: овсянка, яйцо, кофе. Неужели это все он тоже любит?Лада вернулась домой внепланово. У нее поднялась температура, и она забоялась заразить стареньких родителей.
– Дим, я дома.
Внутри было тихо. Только темнота теплым клетчатым пледом лежала на диване и на полу. Она зажгла свет, и в прихожей стояли Димкины зимние ботинки.
– Дим, спишь, что ли?
Она прошлась по комнатам, держась за голову. В виски постоянно стучала какая-то дикая птица. У шкафа была приоткрыта дверца, и она увидела, что он в нем что-то искал и смял выглаженные рубашки. Лада села и набрала номер. Телефон был отключен…В ту ночь у всех были замыленные глаза. Замыленные глаза были у окон, которые еще не успели сменить на стеклопакеты, и в щелях старых рам завелись жучки. Замыленные глаза были у пупырчатого асфальта, в который частенько попадались тонкие женские шпильки. Замыленные глаза были у дождя, что ожил под утро. Он шел как через марлю. Был мелким и ледяным. Как нитки из пуза шелкопряда. Уличный фонарь его подсвечивал зеленым. И ночью шел зеленый весенний дождь.
Его горошины сыпались на подоконник, оставляя круглый конденсат. Выступали капли на карнизе и потом неслись вниз по плотной портьерной ткани, словно в доме протекала крыша. Разбивались о журнальный столик в углу. Ночная влага просачивалась сквозь жалюзи и неплотно прикрытую балконную дверь. У Лады влажнели волосы и липли к шее и лбу. Был влажным воздух в сухой прогретой комнате. И стал влажным шелковый халат, два часа как проглаженный.
Лада увидела утро собственными глазами. Оно прятало взгляд и смотрело в пол. Либо чиркало быстрыми метательными движениями по сторонам. Она выучила часы наизусть. Она глазами двигала стрелки, уже понимая, что не сможет с этим жить. С этой приболевшей ночью, потраченной на тревожное ожидание. Она исполосовала циферблат и поцарапала стекло. Эта ночь всегда будет стоять между ними черным кляксовым пятном. И не поможет хлорка, отбеливатель «Vanish» или супер средство от «Amway».
В двери повернулся ключ. С опаской и страхом. На той стороне было понятно, что в доме кто-то есть.
– Привет.
Лебедев стоял в темном коридоре, и его тень была ужасающей. Лада смотрела на него как на убийцу. У нее были обсыпаны все губы. От высокой температуры. И намертво заложенный нос.
– Где ты был?
Лебедев переминался с ноги на ногу. Рассматривал свои смятые брюки в паху. Он не знал, что ответить, и не мог придумать ничего подходящего. Выдерживал паузу. Его мозг парализовала паника.
– Нет. Ничего не говори. Все что ты скажешь – будет ложью.
А про себя добавила: одной сплошной длинной ложью. Как продолжительная пулеметная очередь, которая с каждым выстрелом продолжает убивать убитого.
Лебедев смотрел на коврик. А когда поднял тяжелые от содеянного глаза – оказалось, что он тоже мертв. Он только что выстрелил себе в ногу из своего же собственного револьвера.Март имел человеческое лицо. Бледное и болезненное. Он уже долго страдал расстройством желудка. У него были постоянно рвотные позывы и нездоровая желтизна на щеках. Лада ничего за ним не видела. Март проник и в их квартиру, и она за ним не могла разглядеть Димку. И себя.
Март сидел на стульях, купленных в мебельном бутике, разлеживался на диванах с жаккардовой обивкой, высоко задрав ноги, заползал в холодильник за голубым сыром с плесенью, хотя ему такую еду было есть нельзя. Стоял под душем, намыливая на голове шапку из пены ее дорогого французского шампуня «Le Petit Marseillais». Что означало белая глина и жасмин. И оставлял следы зубной пасты на умывальнике.
Лада не двигалась с места. Она сидела как приклеенная в кресле, смотрела в окно, даже не пытаясь встать. Все равно не видно, куда идти.
И Димка вторую ночь не приходил ночевать. А когда все-таки она попыталась подняться – поняла, что ее кто-то расчленил. Одна нога валялась возле сундука с неудачно вывернутой ступней, вторая – была прислонена к унитазу. Ее фаланги были сложены в умывальнике, и она с ужасом подумала, что они бы пригодились женщинам из африканского племени Мурси для создания ожерелья. В нос отчетливо ударил запах человеческого жира, которым они его натирали. И статуэтка с уродливо вытянутой нижней губой и вставленной в нее глиняной тарелкой стала беспокоить.
…Вечером с синюшной бледностью стоял Димка с билетами. На них было написано Ben Gurion International Airport. Он просил дать ему еще один шанс… Этот шанс они не использовали……Наступил май и пирамидками цвели розовые каштаны. Сыпались волосатые сережки с орехов. Жара уверенно стояла на своем. Словно и не предполагалось душного городского лета. Тополиный пух образовывал войлочную шубу и перегревал машины. Заползал во все приоткрытые щели.
В Ладином доме долгое время боль жила свободно и не сковывалась ничем. Ходила в супермаркет за йогуртом со злаками и носила над головой зонт фирмы «Doppler». Пока Лада не поняла, что боль вредит ее беременности. И тогда она села перед зеркалом, чтобы видеть ее в лицо и договориться. Та как раз лениво полуразвалилась в ее глазах, свесив ноги.
– У меня будет малыш. Я хочу, чтобы до и после рождения у него был теплый и уютный дом. Я не хочу, чтобы у него мерзли ножки, потому что ты включила кондиционер и выставила свои любимые 18 градусов. Я не хочу, чтобы он слушал музыку, воспроизведенную на одной струне. Я не прошу уйти насовсем. Ты можешь возвращаться, когда тебе вздумается. Только пожалуйста, всегда стучи в дверь, чтобы я успела ребенка перенести в безопасное место.
Боль слушала с выражением смертельной скуки. Подперев голову кулаком. Вытянув из ее души неухоженные плохо пахнущие ноги. В трещины пяток намертво вросла грязь.
– Можно мне на него посмотреть?
– Только тихо.
Боль подошла и развернула к свету живот. В нем мирно спал человек.
– Я уйду. Но не потому, что ты меня об это просишь. Я уйду, потому что у тебя внутри девочка. У нее уже немного сгибается позвоночник и принимает форму язык. И она еще успеет нахлебаться от меня. Пусть пока наберется сил. Окрепнет, чтобы иметь положенный ресурс.
Лада прижала руки к своему зеленому сердцу и взмолилась:
– Не трогай ее. Поглоти целиком меня.
Боль впервые усомнилась в ее здравом рассудке.
– Ты не сможешь отобрать у нее ни кусок радости, ни щепотку боли. У нее будет жизнь такая же, как и у любой другой женщины. Полная счастья и кошмаров.
Боль встала с пола. На коленях остались вмятины от хлебных крошек.
– В доме лучше приберись.
И проползла в щель под плинтусом.
С тех пор она громко стучала, когда хотела войти. Гундосила:
– Уже все? Можно? Мне там дует от входной двери.
Лада наспех пеленала дочку и выносила на балкон. Боль с разгону запрыгивала в душу, словно сдавала норматив по прыжкам в длину, и удобно устраивалась. И если туда стучались проблески надежды – она их выталкивала крепкими спортивными ногами.
А когда ребенок начинал скулить – возвращала в свою утробу, чтобы покормить из себя. Она вспомнила Ремарка и его проститутку Розу, по прозвищу Железная кобыла. Она тоже, когда приходил клиент, выносила дочку в чулан.
– Когда ты к ней впервые придешь?
– В момент ее рождения.
– Надолго?
– Я останусь с ней навсегда. Просто сперва буду пылью. Со временем затвердею в камень…
Ночи еще были холодными. Эйлат уже изнывал от жары, в которой помещалось 46 градусов. Лунный календарь заходил в свою новую фазу……Лиза развивалась как по учебнику. У нее уже появились ногти, и весила она ровно 50 грамм. Вместо пальцев еще сохранялись рыбьи плавники, соединенные кожаными перепонками. Зато уже сформировались яичники. И она гордилась, что имеет то же, что и мама. Хотя доктора утверждали, что на таком раннем сроке еще невозможно определить пол ребенка. Но она точно знала, что она девочка.
– Мам, у меня большая голова. Она в половину меня.
Лада тут же открыла книгу «Мать и дитя».
– Ничего. Так и должно быть. Все правильно.
Лиза похлопала ручкой по своей амниотической жидкости, которой от силы было три столовых ложки. Потом прищурилась и глотнула совсем чуть-чуть. Чтобы заработали почки.
– Я знаю, что правильно. Только хочется побыстрее стать такой красивой, как ты…
И каждый вечер они говорили о папе. И вместе отматывали время. Как пленку в кассете простым карандашом. Вдвоем. Маленькая и большая женщины. Давно живущая и еще не рожденная. Имеющая борозды извилин и мозг, напоминающий гладкий бразильский орех. Вспоминали. Анализировали. Искали причину, объяснение, почему так случилось. Ведь когда найдешь объяснение – можно исправить исправимое. А то, что нельзя исправить, – постараться себе простить. И Лада долго себя прощала. И это оказалось сложным и очень трудоемким.
Она прощала себя за несдержанность, бестактность и равнодушие. За момент, когда у Димки попал в аварию грузовик, перевозивший оборудование, и все разбилось о плоский асфальт – она его не поддержала как следует. Убежала на встречу с какой-то стервозной заказчицей, у которой домработница не пользовалась дезодорантом и завоняла всю квартиру. За то, что давно не готовила ему завтраки, как он любил, и смеялась над его «дикими» вкусами. И диктовала, что носить и чем душиться. И стала властной. И сама обустраивала квартиру, не вникая в его присутствие.
За свое мужское поведение. За многие решения. Она прощала себя за холодность в постели и за свои поджатые губы, когда он долго не мог кончить. Она прощала его за малодушие и ранимость. За то, что не смог стукнуть по столу. За то, что робко просил:Мне с тобою —
такой уверенной —
трудно
очень.
Хоть нарочно,
хоть на мгновенье —
я прошу,
робея, —
помоги мне
в себя поверить,
стань
слабее.
Она прощала его искушение, прощала девушку, которая сразу хотела красиво жить. Пусть даже ценой других. Она прощала часовщика Джованни Донди за то, что изобрел циферблат и тем самым обуздал время. Прощала исследовательскую «Bell Laboratories» за предложение создать мобильный телефон в далеком сорок седьмом. И теперь нет возможности спрятаться в тени. И теперь лезут отовсюду эти прелюбодейские SMS-ки.
Прощала суданские законы смертной казни за измену. Даже путем забивания камнями. Прощала весь мир за ложь и за правду. Небо – за свет и тьму. Море – за штиль и за шторм. Воздух – за свежесть и духоту. Ветер – за малодушие и за ураганы. Жизнь – за любовь и за нелюбовь.
Прощала себя за грешные мысли и за то, что той другой желает беды. Прощала себя за страхи перед старостью и одиночеством. Прощала весну за несдержанность и эротические фантазии. Прощала свое тело за бесконечное желание и за то, что стала сама себя удовлетворять. Прощала Димку за не подаренные этим летом маки, за каждый не сваренный утром кофе. За некупленный живой хлеб без дрожжей на натуральной ржаной закваске и за брошенные ботинки на пороге. Прощала свои бестактные сны, в которых они еще были вместе и очень счастливы. Прощала каждый вечер, в котором нет с ним диалога и нет вопроса: «Ты идешь спать?»