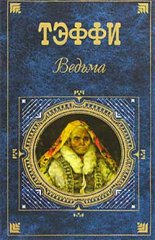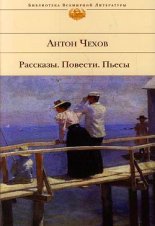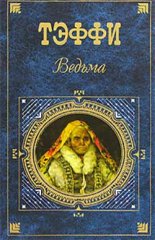Хамсин Говоруха Ирина

– Когда у тебя начнется жизнь после жизни – ты меня поймешь.
Лиза смотрела сквозь розовую кожу на мир и уже отличала красный цвет. И ей очень мешало учащенное Ладино сердце. Когда она волновалась – оно стучало в ухо, как поезд-товарняк. А еще свистели легкие и урчало в кишечнике.
– А я и сейчас тебя понимаю.
– Ты не можешь еще меня понять. Ты маленькая.
Лизе стало жалко маму, которая так мало смыслила в жизни. Ее мозг уже был размером с фасолину. И она ответила с присущей взрослым усталостью.
– Я еще ничего не растеряла. Я еще помню, как выглядела пустыня Негев 4000 лет назад. Я застала жизнь в Махтеш Рамон, и он тогда не считался самым большим кратером. Он был полон сил и энергии. А ты его уже увидела только как точку, с помощью которой можно заглянуть в глубь Земли. Я понимаю все существующие языки, ведь дети сразу понимают язык, на котором к нему обращаются, и с точность до грамма воспроизведу рецепт кошерного хлеба.
Лада потерла виски и задумалась.
– Значит, ты умнее меня?
– Да. Покуда не выйду в мир. Потом все забуду, вернее Бог все сотрет, и станешь умнее ты…
– Тогда расскажи о зыбучих песках.
– От них могут гибнуть города и целые корабли. Прочитай о Порт-Ройале на Ямайке.
Лада включила компьютер и села читать Википедию.– Он большой?
– Да.
– Как диван?
– Больше.
– Как шкаф?
Лада подошла к шкафу и посмотрела вверх. Прикинула, куда попадают ее глаза. Тянется ли нитка на шее. Интуитивно поднималась на носочки.
– Точно, как шкаф.
Лиза обожала говорить о папе. Она интересовалась его вкусами и привычками. Они пересмотрели все любимые Димкины фильмы «Перл Харбор», «Гладиатор» и «Ночной дозор». Съели не один килограмм суши. Научились на большой скорости вписываться в поворот. Вместе готовили рулеты с маком и так же вместе их поедали, запивая молоком. Они стали лучшими подругами. Они были единственными подругами.
– Я уже толстая как слон, – жаловалась Лада, пытаясь боком втиснуться в зеркало. Малышка обижалась за слона и рассказывала, что у нее уже тоже появились жировые отложения. Вернее – адипозная ткань. И Лада смотреться в зеркало перестала.
Они вместе делали бусы из макарон и амулеты на шею. Покупали кошачий глаз и малахитовые браслеты. Лада в своем же агентстве прошла курсы по методикам раннего развития, освоив лепку из «Муле-патат» и Вальдорфскую эвритмию. Она уже знала все о чтении на карточках Домана.
– Мам, может, отложим уроки на потом. Лет так после трех.
Лада отвечала словами Масару Ибука, что после трех уже поздно.
Лиза вздыхала в своем клубочке и соглашалась на прослушивание детского альбома Чайковского.
– Только не «Похороны куклы».
– А что тогда?
– Ну, хотя бы «Шарманщик поет». И купи мне тот шарфик из индийского шелка.
– Но ты же его сможешь надеть только лет через пятнадцать!
– Зато сейчас поносишь ты.
Таким образом, благодаря хитрости нерожденной дочки, в Ладином гардеробе появилось множество гламурных, временами даже нелепых вещей. Они были смешными, несерьезными, чудными… Выбранными по вкусу ребенка. Появились футболки с котячьими мордами и свисающими ушами, платья с таким изобилием цветов, словно ткались на лугу, мокасины и леггинсы. А все остальное: красное платье от Victoria Zats, сарафан от Enna Levoni и пальто-кимоно от Дома Моды IVANOVA было забраковано и оставлено взаперти. Это были непрактичные вещи для игры с песком и для пальчикового рисования. Она теперь не засиживалась в агентстве, а шла смотреть на оттепель и на то, как дети катаются с горки, протирая нитки штанишек. Жарила дома жирные блины и ела их, густо смазывая икрой. Пила ягодные и кефирные смузи. Рисовала мелками и густой, как сметана, гуашью.
По всей квартире были разбросаны детские вещи, журналы о первом прикорме и соске. Домработница впервые видела столько радости в таком чопорном доме. Жизнь, надумавшая остановиться, потопталась на месте, посучила мелко ногами и снова пошла. Истинно женской дорогой. И она вспомнила лососей. Рыб, которые из реки Адамс мигрируют в Тихий океан еще несмышлеными мальками. Там живут три года, ждут своей половой зрелости и потом по памяти, не пользуясь навигатором, возвращаются обратно в родную реку. Доплывают не все. Из пятнадцати миллионов только два – притом против течения.
Во время миграции не едят, рассчитывая только на свою скопленную энергию. Молятся, чтобы их не тронули медведи гризли и рыбаки. Плывут за 4000 километров, чтобы оставить там свое потомство. В месте, откуда родом сами. На одном чувстве обоняния находят устье родной реки, чтобы родить и умереть.
Самка роет ямку. Самец ее охраняет. Она откладывает икринки розового цвета. Много. До трех с половиной тысяч. Самец оплодотворяет. А потом засыпают яму гравием и песком, пряча от хищников. Через несколько дней пара из красной превращается в мелово-серую. Из их тел выбирается наружу жизнь.
Так произошло и с ней. В момент, когда пришло время воспроизвести себе подобного – она вернулась туда, откуда начинала. В себя настоящую. В свою душу. И шла долго. И видимо против течения… И экономила силы для дальнейшей жизни. Она не могла себе позволить умереть.…Утро обпилось тумана. До отрыжки. Вокруг губ были плотные белые следы. Туман стоял везде. В ведрах из-под цемента, в волосах, давно уложенных в прическу, в чашках из-под киселя. Кисель был из пакета, невымытый с вечера, и в синтезе с туманом это выглядело слишком неопрятно.
Ника ходила по неубранной квартире. Лебедев уже давно уехал на работу. Он ходил сам не свой, и она чувствовала, что он не с ней. И у него поменялся рингтон. Он закачал в телефон «Зачем ты ушла от меня»…
– Димка, детский сад. Что ты слушаешь? Тебе не стыдно? Взрослый мужик…
Он смотрел и не понимал, о чем речь.
Он стал роботом. Ему когда-то казалось, что с Ладой он не живет. А так – прозябает. Сейчас он опомнился и понял, насколько родной была его тогдашняя жизнь. Он себя чувствовал претом. Персонажем восточной религии, постоянно испытывающий голод и жажду. И никто не мог утолить потребности, кроме Лады.
Он не мог самостоятельно дышать, точно так же, как его ребенок не мог дышать без его жены. Хотя воздушные пузырьки в легких были уже полностью сформированы, но еще не работали, так как оставались заполненными жидкостью. Не хватало только сурфактанта, который со временем окружит пузырьки, уменьшив их поверхностное натяжение.
Ника знала, что он ходит к бывшей в ее отсутствие. Трогает руками их прошлое, а потом, как дешевый клептоман, складывает его в карман. И, не вытряхнув за порогом, заносит в их дом. Она старалась к его карманам не прикасаться. Не вытряхивать их даже перед стиркой. Наоборот, выбирала в машинке самый высокий режим, чтобы воспоминания прокипятились и наконец-то умерли.
Она портила, растягивала ему вещи, но карманы даже после стирки в таком режиме оставались раздутыми. Из них иногда торчали кончики Ладиных шалей, открытые духи Givenchy «Ангел и Демон» или просто их песня, которую они посвятили в свою любовь. Из карманов лился «Nesquik» с молоком, который бывшая пила во время месячных и утверждала, что он разводит в разные стороны ее спазмы. Иногда – обреченный шепот на балконе, когда она от него пряталась и плакала, что до сих пор нет детей.
Однажды нижняя нитка кармана не выдержала такой тяжести. И оттуда выпало все: ее отполированный волос модным утюжком, чулок, который он снимал с ее ноги впопыхах, трогательные мысли, когда она не думала о работе.
Ника закатывала скандалы. Не помогало. Кричала, поднимаясь выше и переходя на визг. Играла в молчанку. Звонила подругам. Напивалась до полной отключки. Не ночевала дома. Не убиралась. Лебедеву было все равно. Он больше не мог видеть эту женщину, а та, которую хотел, его видеть не могла.
Его тело жило здесь – в модной квартире, с окнами на Оболонскую набережную. Здесь он ходил в туалет, стирал свои носки в умывальнике, собирался с мыслями перед кофе-машиной, понимая, что не готов варить кофе ни для кого другого, кроме как для Лады. Он специально для нее придумал секрет и не собирался его раскрывать чужой женщине. Он постоянно не находил свои галстуки, носовые платки и щетку для замши. В этом доме ни для чего не было постоянного места.
Здесь он складывал в себя еду, распихивая ее внутри как по полкам, шнуровал ботинки и укрывался с головой одеялом, когда на Нику никаких сил не было смотреть. Его душа была с Ладой. И он мысленно, каждое утро проживал ее подъем…
Вот нежно затренькал будильник. Она потянулась, как кошка. Он всегда в такой момент целовал ее плечи и пел песню:Утро неслышно ступает по крышам,
В доме своем безмятежная спишь ты,
Снам улыбаясь в рассветном блаженстве,
Самая лучшая в мире из женщин.
У них было две ванные, но Лебедеву нравилось бриться в ее. Где пахнет чем-то невесомым женственным. Где все уставлено кремами с Мертвого моря, в которых иловые сульфидные грязи наполнены йодом, бромом и гормоноподобным веществом. Где в гулливерском коньячном бокале – разноцветная галька и гигантские раковины на полу. Где все так гламурно, что он старался лишний раз не дышать, чтобы от его мощного выдоха не упал крем под глаза, над которым Лада так трясется. Или не посыпались блестки, которые она бережет на Новый год. Она часто забегала и возмущалась:
– Дим, опять ты здесь. Выйди, мне нужно в туалет.
Лебедев с зубной щеткой во рту перемещался на кухню и дочищал зубы в мойку. Только чтобы быть поближе к ней.
Здесь пахло Ладой сонной, когда она, открывая кран, рассматривала себя в зеркале и говорила:
– Дим, у меня опять мешки под глазами.
– Лад, но ты же вчера три раза пила чай, чтобы не ужинать.
– Ну я же не могла есть после шести?
– А до этого ты когда ела?
На этом разговор заканчивался, потому что действительно она ела только за завтраком.
Лебедев стал привидением и шел за ней на кухню и смотрел, как она жарит блинчики. И каким желтым получается тесто. И как она трет на терке зеленое яблоко, режет курагу, и получаются ее самые вкусные фруктовые оладьи.
– Хочешь?
Он отрицательно вертел головой.
– Привидения не едят.
Он смотрел и любовался ее посудой. Лада всегда была помешана на красивом фарфоре, и он отмечал, что не ленится правильно сервировать стол даже для самой себя. Белые тарелки с чуть увядшими тюльпанами. На которых буквально секунду назад лепестки отошли от бутона. И стали напоминать женские губы. А потом плачет с вилкой в руке. Он замечал, что она немного поправилась. И что ей это было очень к лицу. А потом присмотрелся внимательнее и увидел ее круглый живот. И заметил, как толкается там ручка и как она ее поглаживает. Словно пытается взять в свою. Как она комментирует каждое свое действие, чтобы малыш понимал, что происходит извне.
– Смотри, это апельсин. Он весит 400 грамм. А еще его называют китайское яблоко. Это не самостоятельный плод. А гибрид мандарина и помело. Растет на берегах Средиземного моря.
Димка засмеялся, потому что Лада, рассказывая, подсматривала в листок. У нее всегда была не очень хорошая память, а в связи с беременностью испарилась напрочь.
– И ты представляешь, в Аргентине есть даже специальный самолет для транспортировки. Он так и называется – «Торговец апельсинами». А еще болеющие шизофренией не слышат его вкусного запаха. Им от этого плода пахнет пиццей. Доченька, давай понюхаем и убедимся, что с нами все в порядке. Правда, изысканно пахнет? Хотя ты еще не понимаешь, как это должно быть.
Лиза перестала икать от неожиданного вопроса и привычно вздохнула.
– Я знаю, как пахнет апельсин, и с легкостью могу отличить его по запаху от китайского кумквата и японского кинкана.
Но решила промолчать.
– Хочешь, мы приготовим апельсиновый соус или сварим варенье? Как раз уже поспела смородина… Варенье – это такой сладкий десерт. Когда я была маленькой, моя бабушка варила самое вкусное варенье в мире. Она закрывала его в банки и носила в сетке в кладовую. И ничего не было вкуснее, чем молоко с вареньем на белом хлебе. Его приносил дедушка из магазина в коричневой дерматиновой сумке. В нее помещалось ровно шесть хлебных кирпичиков.
Димка слушал, как они общаются, и у него болел позвоночник. Словно каждая позвоночная кость была маленьким сердцем. Ему хотелось расправиться, стать видимым и рассказать о своей бабушке тоже, и о ее кизиловом варенье. Но он мог только сидеть в темном углу и наблюдать. И принимать, как должное, свое раздвоение личности.
Димка подсматривал, как растет ребенок, наедая себе розовые пятки и щеки. Как хорошеет Лада и не узнает свою грудь, раздеваясь перед зеркалом.
– Ну ты посмотри, она увеличилась в два раза.
Грудь была полной и очень соблазнительной. Димке очень хотелось ее потрогать и понюхать ореол, пахнущий молоком. Покатать между пальцами ее тяжелые соски, ее магнетические бока и быстро устающие ноги.
Он заметил, как она одним махом спрятала все высокие каблуки и платформы и выставила в прихожей балетки. Как она изменилась, словно в нее влили покой. И концентрированную нежность. Лили дозировано, но все равно это перекатилось через край так, что она покоем умылась, и кожа стала звенящей.
Однажды он ее засек за едой. И впервые увидел, как она с аппетитом ест, подкладывая новые куски из сковородки. Как сперва делит порцию на две части, а потом съедает обе. А потом идет на кухню и ест, сидя на корточках, прямо из холодильника. Ей так кажется, что совсем незаметно количество съеденного. Она хорошо прибавляла в весе и не расстроилась, когда перестала помещаться в свой размер. Ее тошнило, мутило, прыгало настроение. У нее болели зубы, и она хныкала у стоматолога. Ей казалось, что ребенок медленно дышит, и она звонила своему гинекологу в пять утра. Когда на ее лицо напали пигментные пятна – она тревожилась у косметолога, не заразно ли это. И не перейдет ли на личико ребенка. А у нее же девочка. Она вела себя, как самая тревожная будущая мама. Она вела себя, как любая будущая мама.– Мамуль, пойдем посмотрим на красивое.
– На женщин?
– Да, на женщин…
И они пошли в галерею Brucie Collections смотреть фотоработы Визерской.
– Расскажи.
Лада рассматривала невероятные фотоманипуляции и пересказывала как могла.
– Женщины-медузы, у которых от ушей отходят щупальца. Женщина в синем панбархате, прилегшая на только почищенный апельсин. Женщина в белом платье с кровоточащей клубникой. Женщина, спящая в кожаном кресле, среди кишащего акульими плавниками океана.
– А это кто?
– Женщина-улитка, выползающая из своего дома.
– Зачем?
– Вот именно, что незачем.
Дальше была женщина, сидящая на помидорной ветке. На самом краю еще была и «Кровавая Мэри» в фужере-треугольнике. Женщина, которая ест подтаявшее мороженое со спины, одной ногой пребывая в молочной луже. Ежевичная женщина… Они ее так назвали. Хотя она просто вывешивала стирку, и ее простыни полностью просвечивались, как рентгеном. А крупные ягоды ежевики валялись в траве. В коктейльном платье, рукав которого выливался синей водой. Мальчишки, сидящие на шоколадных печеньях и с разгону плюхающиеся в молоко.
– Постой здесь.
– А?
– Я рассмотрю эту работу.
…Там была женщина, бредущая подмороженным лесом и тянущая за нитку ободок луны. Сухая трава, обезвреженная жизнью, торчала в разные стороны. Ночной иней еще очень даже ничего, держался молодцом. И Солнце, как комок бесконечного света, уже доходило до середины неба.
– Что с ней?
– Ничего. Просто выходит из ночи.
– Куда?
– В новый день…
– В новый день, – повторила про себя Лиза…
– Он всегда наступает, независимо от того, насколько неизмеримо темной была ночь…Лебедев скулил себе в кулак, что не может находиться рядом. Что не может ходить за руку со своим нерожденным ребенком так, как это делает она. И считывать картины по-другому. С присущей только ему мужской логикой.
Не может рассказать о своем детстве и объяснить человеческим языком, как получается снег. Он слышал, что объясняет Лада из учебника, и в итоге они обе ничего не поняли.
Он расстраивался, что не может показать восток и прикинуть, сколько звезд в Млечном пути. Рассказать, как растет хлеб и с какой скоростью летит самолет. Он знал ответы на все детские вопросы. Он знал всю жизнь в формулах, теоремах и уравнениях. Он только не мог понять, где он неверно решил. Какой корень изъял неправильно? И почему поспешил написать ответ в тетрадь, не сверив с правильным в конце учебника. Где он дал осечку? Ведь всегда все сходилось.
А теперь неверный ответ так кардинально отобразился на его жизни. Почему он не перепроверил, решая задачу несколькими способами?
Он открывал телефон, находил ее имя и просто на него смотрел. Там было всего четыре буквы: жена. И он начинал понимать, что это самое главное слово в его жизни. Самое теплое и надежное. Что, оказывается, в нем код счастья.Возле магазина «Naf-Naf», что на площади Льва Толстого, ходили по-летнему одетые люди. В моде были все оттенки фиолетового. От баклажана с сиренью до лаванды и лилового. То там, то здесь выныривали характерные рукава и кеды. Августовское солнце дуло на перекрестке ягодный коктейль. Лениво двигалась реклама со стороны проезжающего автобуса. Было воскресенье, и по земле топал замедленный уикенд.
Лада очень любила обувь. Этим летом у нее так отекали ноги, что она покупала уже третью пару босоножек на самой плоской подошве. В магазине она вдруг услышала запах врага. Как африканка, живущая в дикой природе, уловила запах человека, прошедшего по тропе несколько часов назад.
А потом возникла Димкина спина наискосок. Он стоял возле яркой девушки, которая примеряла модные босоножки с вогнутым каблуком. На них было слишком много декора. Рядом валялась пара с широкой лентой, которая завязывается вокруг лодыжки, как пуанты. Видимо, это предложение Лебедева было отвергнуто, как слишком скромное.
Ника посмотрела на нее свысока глазами, полными счастья. Лада ей стойко ответила. Глазами, полными чуда. С перепуганного Димки сошло лицо, и Лада поспешила на улицу, прикрывая двумя руками свою дочку.
Она шла и искала глазами церковь. Хотела помолиться, но только чтобы обязательно были витражи. Чтобы читать «Богородице Дево, радуйся» на каждое светящееся стеклышко. Покуда хватит сил и стекол. И ничего не просить. Только покоя. И смотреть в лицо женщине, которая семь раз теряла сознание, пока умирал ее сын. И знать, что она ее понимает, как никто другой. И не плакать. Разве чтобы только умыться и чтобы немного натекло в грудь и стало щекотно. Главное, чтобы слезы не достали живота.
Она нашла такую. Маленькую, как часовенка. Потому что шла сердцем. Опустилась на колени и стояла до тех пор, пока колени не стали жить своей, абсолютно отдельной жизнью.
Пахло ладаном, вчерашней службой и миром. Она слышала, как дышала икона святого Николая. И чьи-то руки гладили ее по спине, и она не открывала глаз, чтобы не знать, кому они принадлежат.
Внутри толкнулся ребенок, и наступило такое облегчение. В ней жила чистая душа. Самая родная.
– Мам, у меня уже сильные руки.
– Да ты что?
– Я уже могу крепко схватить пуповину.
– Я чувствую.
– А еще я много пью. И тебе пора попить.
Лада встала с колен и поискала глазами воду. На табурете, застеленной газетой, стояло ведро и алюминиевая кружка. Вода была колодезной, и она выпила залпом одну, потом другую.
И ей стало жалко Димку. У него были неприкаянные, практически мертвые глаза. Он загнал себя в угол, почему-то в форме круга. И ходил по нему, как волк, сошедший с ума.
Он несколько раз ей звонил, но разговор не клеился. Он распадался на куски, как мелко порезанный салат. И невозможно было его выстроить.
Ему было стыдно смотреть ей в глаза, и он старался не смотреть на монитор телефона. Его слова шли по телефонным проводам вместе с кровью. Он давал ей свою кровь, чтобы было легче носить ребенка.
– Как ты?
– Дим, что тебе нужно?
Ее ответ его хлестанул, и она отчетливо увидела, как дернулась в сторону голова.
– Я просто хотел узнать, как ты? Может, чего-то нужно?
– Чего-то не нужно. Вообще ничего не нужно. Хотя нет. Кое-что у тебя попрошу. Не звони мне больше никогда.
Лада почувствовала, что вошла в опасную зону – зону неконтролируемой истерики, и поспешила отключить телефон.Разговоры не получались. Слишком много стояло обид. Они подпирали все ее стены, толпились в коридоре и выходили к завтраку в мятых пижамных штанах, которым не мешало бы устроить замачивание. Они болтали без умолку, неаккуратно ели орехи. Она им постоянно прикрикивала: «Молчать!».
Обиды обрастали лишним весом и размножались. Валялись в обуви на ее кровати, и ей было тесно спать. Они хорошо одевались, отдавая предпочтение вельветовым пиджакам с кожаными вставками на локтях. Обиды были дерзкими, наглыми и с плохими манерами. Она спотыкалась об их костлявые ноги и страдала, когда они громко смотрели футбол. Они пили пиво, сорили фисташками и дышали перегаром. А когда они пригвоздили к постели, навязывая депрессию, – она решила продолжить от них избавляться. И возобновила прощение себя… Долгое, упорное, утомительное…
…А когда уставала либо заходила в тупик – прощала мир. Землю – за располневшую талию. Дождь – за то, что ни разу не дошел к пустыни Атакама в Перу и за то, что заливает гору Вай Але Але на Гавайях. Молнию – за то, что нагревает воздух до тридцати тысяч градусов. Планету – за то, что когда-то была фиолетовой. Мертвое море, падающее с каждым годом все ниже и ниже. Единственное, она не знала, как простить своего Лебедева.
Только приближалась вплотную к его измене – терзалась от замкнутого вопроса:
– Как он мог?
Изнутри тут же появлялся звонкий ответ:
– А как ты могла?
Она еще не до конца понимала, о чем речь…А потом он зверски устал. Наверное, не рассчитал ресурсы. И захотелось чистую постель, тарелку супа и вечер, в котором ничего не происходит. Он даже соскучился за домработницей, которая иногда позволяла себе сделать ему замечание.
– Лебедев, ты превратился в зануду. Ворчишь, как старый дед. Чем тебе мешают мои подруги? Что мы делаем плохого? У нас же девичник.
Лебедев стоял посреди разгромленной квартиры и смотрел на пьяную Нику. От нее пахло брожением спиртного и сигарет. Ее тушь растеклась на пол-лица и норовила стечь в уголки губ. А он хотел есть. На чистой кухне. Из чистой посуды. Человеческую еду.
– Ника, мы живем как свиньи. Ты целыми днями сидишь дома. Что, так трудно убраться?
Ника провела по нему мутным взглядом, пытаясь найти точку опоры и не найдя таковой, громко икнула.
– Я тебе в домработницы не нанималась. И потом, ты меня в упор не видишь.
– Так ты напилась, чтобы я тебя увидел?
– А?
Лебедев зашел в ванную вымыть руки. Ободок унитаза был весь в крови. В стоке кучковались ее волосы. И он болезненно захотел домой. К своей чопорной, как он считал, Ладе. Но дома его не ждали. Он еще больше нагадил в своем доме, чем Ника в этой съемной квартире. Он в него наплевал…
У Ники началась пьяная истерика. Она кричала и била посуду. Пыталась доказать ему, как он не прав. Лебедев, не дослушав, молча вышел на улицу.
Лето почти закончилось и пахло сентябрьским коктейлем. Он вспомнил Ладины стихи, которые она писала студенткой, и горько улыбнулся:В сентябрьский коктейль положи ложку меда,
На дно стакана – чуть-чуть винограда.
Ягодам винным будет свобода.
Много пространства ягодам надо.
А главное – терпкость печальной рябины,
Которая со снегом уйдет в забытье.
Поставим высокий стакан у осины.
Сентябрьский коктейль, золотое питье…
Он тогда их критиковал и находил массу стилистических ошибок. Он даже не подозревал, что знает его наизусть. А сейчас вспомнил и утвердился в мысли, что это самые талантливые стихи на свете.
Он вдруг прозрел. Прозрел так же неожиданно, как и ослеп. Все у них с Никой не так. И в доме нет души. Нет воспоминаний. Нет планов ближе, чем на завтра. И любовью они занимаются как-то по-животному. И Ника часто в этот момент пьяна. Шепчет ему непристойности, дешевые пошлости, подслушанные в порнофильмах. И от этого у него портится эрекция. И в голове стала назойливо биться мысль: «Тагарат» – закон чистоты.
Он сел в машину и включил зажигание. Запел Вакарчук свой новый хит «Стреляй». У Лебедева заболело расстрелянное сердце.Лада с полным передником слив стояла в огороде. Она их ела, обтирая об себя и присматривалась к крыжовнику. Не затерялись ли еще хоть пару ягод.
– Ладушка, не ищи. Ты все съела в прошлый раз.
Лада в старых распарованных носках, непонятных галошах и в растянутом трикотажном сарафане, который мама хранила еще с выпускного класса, продолжала теребить кусты.
– Оделась бы поприличнее. Ходишь как пугало огородное.
– Да? А мне прикольно.
– Ты очень изменилась в последнее время. Раньше ты себе такого не позволяла.
Лада сытыми глазами посмотрела на маму и переспросила.
– Чего не позволяла?
– Посмотри на часы. Видишь, уже начало восьмого. А ты еще даже не расчесывалась.
Лада потрогала резинку на волосах, которую она отрезала от старых колгот.
– Действительно, не чесалась и что тут такого? Я же дома.
– Хватит есть. У ребенка может быть аллергия.
– Мам, ничего у нее не будет. Я спрашивала. Она просит еще одну сливу. Можно? И потом у нее уже хорошо развиты вкусовые сосочки. И сейчас ей сливы нравятся больше, чем тыква.
Мама махнула рукой и вдруг поменялась в лице.
– Доченька, мне Дима звонил.
– А он всем звонит. Тебе, отцу, нашим соседям. Ему теперь только и осталось, что всем названивать и жаловаться на свою судьбу. Только он одного не учел, что судьбу выстроил сам.
Они уже сидели в саду и раскачивались на полосатой качели. Рядом росло молодило и клубился клевер. У мамы были разного цвета глаза: правый – синий, а левый – зеленый. И даже когда она смотрела серьезно – все равно казалось, что она шутит.
– Зря ты так. Ну ошибся, с кем не бывает.
У Лады поднялось давление, и она смяла последнюю сливу в кулаке.
– Мам, он мне изменил. Понимаешь? ИЗ-МЕ-НИЛ! Он спал с другой! Не ночевал дома! А ты говоришь: с кем не бывает.
Мама посмотрела вдаль огорода на сено, сложенное у кукурузы. Пахло спелым красным перцем, щавелем и переросшим укропом, который она держала на маринад. Она долго собиралась с мыслями, а потом решила, что ей пора все знать. Ведь сама без пару месяцев мама.
– Когда ты была маленькой, от силы год, я тоже пережила измену.
У Лады упали руки вниз, и она запачкала ноги желтой сливовой мякотью. Колени тут же слиплись и заныл живот.
– На мне было все: огород, хозяйство, готовка, уборка. Стирала я руками, мела веником.
Ты все время болела. И у меня не оставалось никаких сил на отца. Он приходил из колхоза, ел холодный ужин, если такой наблюдался, ходил по неделе в одной рубашке. Был заброшенный и потерянный. А у меня не хватало ни мудрости, ни энергии его приласкать.
И появилась Люба, одинокая бухгалтерша. Помнишь, живет на Загадке? Она гордилась, что никогда не потеет и что у нее не растут волосы под мышками. Она делала себе химию, высветляла волосы перекисью и вязала платья крючком из дешевого ириса в дырки. И ходила в нем практически без подъюбника. У нее всегда были напомаженные губы и пальто с огромными подплечниками. Ее еще называли генеральшей из-за этого пальто. Жила она всегда одна. Сама ставила забор и стояла с тяпкой в огурцах. И вот однажды она появилась на пороге нашего дома. Вся такая нарядная, в юбке-плиссе. И сказала:
– Я люблю вашего мужа. А он любит меня. Отпустите его по-хорошему. Все равно у вас ничего не получается.
Я не сразу нашлась с ответом, только переспросила:
– Что не получается?
Люба высоко задрала голову и вынесла вердикт.
– Жить по-людски.
Она ушла, громко хлопнув калиткой, а я осталась посреди неубранного дома. Сперва все шаталось так, что я думала – турбулентность. А потом набила себя по щекам, чтобы не реветь. Била и кричала:
– Не смей плакать, дура! Сама виновата! Поздно выть…
И решила, что не отдам твоего отца. Зубами вцеплюсь, но не отдам. Умылась. Вытерла избитые щеки и оглянулась по сторонам. И увидела себя в грязном халате. Вспомнила, что зубы чистила дня два назад. У меня были страшные ногти и давно не выщипанные брови.
И первое, что сделала, – вынесла тебя в сад, а сама нагрела воды и стала мыться прямо в саду. Ты сидела под грушей, смотрела на прыгающих в траве жуков, а потом первый раз встала и ко мне пришла. Ты начала ходить, когда мне нужна была помощь. И мы мылись вдвоем. Я даже не сняла с тебя ползуны.
И мне казалось, что ты все понимаешь, потому что в один день перестала болеть. Может, потому что купание у нас было необычное: среди густой травы, мальв и в ароматах фруктового сада. В меня как кто– то влил силы. Может, земля, может, цветочная пыльца, а может – сам Бог.
В тот вечер у нас впервые был вкусный ужин, а на мне чистое платье. И спала я тогда с твоим отцом впервые за год. А раньше все отказывала. Боялась новой беременности. И я его отвоевала. Навсегда. Мы с папой никогда об этом не говорили. Хотя он все знает. Потому что прощения часто просит. Я его спрашиваю: «Глупый, за что?» А он прячет глаза и говорит под нос: «Жизнь была длинной. Есть за что».
И я не секунды не жалею, что поступила именно так…
– Мам, но я не обременена детьми и огородами.
Мама нежно постучала Ладе по голове.
– Значит, у тебя случилось что-то другое. В чем-то ты его обделила. Недодала. Ущемила. Ты же не глупая. Подумай хорошенечко.
– Где у нас перетертая малина? Сделаю себе морс.
– Ты же знаешь, в погребе.
Лада спустилась в холодный погреб, взяла с полки малиновую банку и расплакалась.
Внутри заволновался ребенок.
– Мам, у меня еще нет слез. Они появятся только в полтора месяца, когда откроется слезно-носовой канал… Я не могу тебя поддержать.
– Тебе и не нужно плакать. Для этого у тебя есть я.
А потом, когда слезы перестали быть горячими, Лада нашла отца. Он стоял в саду в одних трусах и вертел перед глазами соты. Вокруг него кружились нарядные пчелиные домики и пахло будущим медом.
– Пап, – прошептала Лада. – Я так тебя люблю.
Он ее аккуратно обнял, стараясь не прижиматься к животу.
– И я тебя, дочка. А знаешь, за что? За то, что ты очень умная. Но не сильная. Ум и сила – это разные вещи.