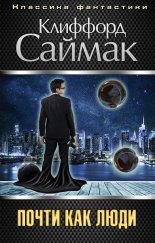Наши за границей. Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно Лейкин Николай
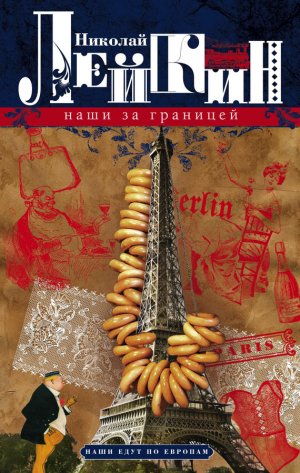
– Нет, голубчик, я прежде в уборную… Мне поправиться надо. Ведь сколько времени мы, не выходя из вагона, сидели, а в здешних вагонах, ты сам знаешь, уборных нет, – отвечала жена. – Без уборной мне и еда не в еду.
– Какая тут поправка, коли надо торопиться пить и есть скорей. Ведь только двенадцать минут поезд стоит. Да и черт их знает, какие такие у них немецкие минуты! Может быть, ихние минуты наполовину меньше наших. Идем скорее.
– Нет, не могу, не могу. Уверяю тебя, что не могу… Да и тебя попрошу проводить меня до уборной и подождать у дверей, а то мы растеряться можем.
– Эх, бабье племя! – крякнул Николай Иванович и отправился вместе с женой отыскивать женскую уборную.
Уборная была найдена. Жена быстро скрылась в ней. Муж остался дожидаться у дверей. Прошло минут пять. Жена показывается в дверях. Ее держит за пальто какая-то женщина в белом чепце и что-то бормочет по-немецки.
– Николай Иваныч, дай, бога ради, сколько-нибудь немецких денег или рассчитайся за меня! – кричит жена. – Здесь, оказывается, даром нельзя… Здесь за деньги. Даю ей русский двугривенный, не берет.
– В уборную на станции да за деньги!.. Ну народ, ну немецкие порядки! – восклицает Николай Иванович, однако сует немке денег и говорит: – Скорей, Глаша, скорей, а то и поесть не успеем.
Они бегут, натыкаются на носильщиков. Вот и буфет. Расставлены столы. На столах в тарелках суп. «Табльдот по три марки с персоны», – читает Глафира Семеновна немецкую надпись над столом.
– Полный обед есть здесь за три марки. Занимай скорей места, – говорит она мужу.
Тот быстро отодвигает стулья от стола и хочет сесть, но лакей отстраняет его от стола и что-то бормочет по-немецки. Николай Иванович выпучивает на него глаза.
– Ви? Вас? Мы есть хотим… Эссен… митаг эссен, – говорит Глафира Семеновна.
Лакей упоминает слово «телеграмма». Подходят двое мужчин, говорят лакею свою фамилию и занимают места за столом, на которые рассчитывал Николай Иванович.
– Что ж это такое! – негодует Николай Иванович. – Ждали, ждали еды, приехали на станцию – и есть не дают, не позволяют садиться! Одним можно за стол садиться, а другим нельзя! Я такие же деньги за проезд плачу!
Лакей опять возражает ему, упоминая про телеграмму. За столом, наконец, находится какой-то русский. Видя, что двое его соотечественников не могут понять, что от них требуют, он старается разъяснить им.
– Здесь табльдот по заказу… Нужно было обед заранее телеграммой заказать, – говорит он. – Вы изволили прислать сюда телеграмму с дороги?
– Как телеграмму? Обед-то по телеграмме? Ну, порядки! Глаша! Слышишь? – обращается Николай Иванович к жене. – Очень вам благодарен, что объяснили, – говорит он русскому. – Но мы есть и пить хотим. Неужели же здесь без телеграммы ничего ни съесть, ни выпить нельзя?
– Вы по карте можете заказать. По карте что угодно…
– Эй! Прислуживающий! Человек! Эссен! Что-нибудь эссен скорей и бир тринкен! – вопит Николай Иванович. – Цвай порции.
Появляется лакей, ведет его и супругу к другому столу, отодвигает для них стулья и подает карту.
– Где тут карту рассматривать, братец ты мой! Давай две котлеты или два бифштекса.
– Zwei Koteletten? О, ja… – отвечает лакей и бежит за требуемым, но в это время входит железнодорожный сторож и произносит что-то по-немецки, упоминая Берлин.
Пассажиры вскакивают из-за стола и принимаются рассчитываться.
– Что же это такое? Господи! Неужто же поезд отправляется? Ведь эдак не пивши, не евши уезжать надо. Берлин? – спрашивает он сторожа.
– Берлин, – отвечает тот.
– Глаша! Бежим! А то опоздаем!
Муж и жена вскакивают из-за стола. Появляется лакей с двумя котлетами.
– Некогда, некогда! – кричит ему Николай Иванович. – Давай скорей эти две котлеты. Мы с собою возьмем… Клади в носовой платок… Вот так… Глаша! Тащи со стола хлеба… В вагоне поедим. Человек! Менш! Получай… Вот две полтины… Мало? Вот еще третья. Глаша! Скорей, а то опоздаем. Ну, порядки!..
Муж и жена бегут из буфета.
– Николай Иваныч! Николай Иваныч! У меня юбка сваливается! – говорит на бегу жена.
– Не до юбок тут, матушка. Беги!
Они выбежали из буфета, бросились к поезду и вскочили в вагон.
Где наши подушки?
– Глаша! Где же наши подушки, где же наши саквояжи? – воскликнул Николай Иванович, очутившись вместе с женой в вагоне.
– Боже мой, украли!.. Неужто украли? – всплеснула руками Глафира Семеновна. – Или украли, или мы не в тот вагон сели. Так и есть, не в тот вагон. Тот вагон был с серой, а этот с какой-то рыжей обивкой. Выходи скорей, выскакивай!
Николай Иванович бросился к запертым снаружи дверям купе, быстро отворил окно и закричал:
– Эй, хер, хер… хер кондуктор… Отворите… Мы не в тот вагон попали!
Но поезд уже тронулся и быстро ускорял свой ход. На крик никто не обратил внимания.
– Что же это такое? Как нам быть без подушек и без саквояжей! В саквояже у меня булки, сыр и икра. Ни прилечь, ни поужинать будет нечем. Ведь этих двух котлет, что мы со станции захватили, для нас мало. Да и какие это котлеты!.. Это даже и не котлеты… Они до того малы, что их две на ладонь уложишь, – вопияла Глафира Семеновна.
– Не кричи, не кричи… На следующей станции пересядем в свой вагон, – уговаривал ее Николай Иванович. – Отыщем и пересядем.
– Как тут пересесть! Как тут вагон отыскивать, ежели поезд больше двух минут на станции не стоит! Только выскочишь, а поезд уж и опять в путь… К тому же теперь вечер, а не день. Где тут отыскивать?
Какой-то немец в войлочной шапке, сидевший с ними в купе, видя их беспокойство, спросил их что-то по-немецки, но они не поняли и только вытаращили глаза. Немец повторил вопрос и прибавил слово «Гамбург».
– Постой… Мы даже, кажется, не в тот поезд сели. Немец что-то про Гамбург толкует, – испуганно проговорила Глафира Семеновна, обращаясь к мужу.
– Да что ты… Вот уха-то! Спроси же его, куда мы едем. Ведь можешь же ты хоть про это-то спросить?! Ведь ты все-таки чему же нибудь училась в пансионе.
Испуг придал Глафире Семеновне энергии. Она подумала, сложила кой-как в уме немецкую фразу и задала вопрос немцу:
– Ин Берлин вир варен? Берлин этот вагон?
– Nein, Madame, wir fahren nach Hamburg.
– Как нах Гамбург? А Берлин?
Немец отрицательно покачал головой и опять что-то пробормотал по-немецки.
– Да, конечно же не в том поезде едем, – чуть не сквозь слезы сказала Глафира Семеновна.
Николай Иванович досадливо почесал затылок.
– Ну, переплет! Беда без языка!.. – вырвалось у него.
– В Гамбург, в Гамбург едем… в Гамбург, – твердила Глафира Семеновна.
– Да спроси ты у немца-то поосновательнее. Может быть, поезд-то гамбургский, а Берлин по дорге будет.
– Как я спрошу, ежели я не умею! Спрашивай сам.
– Чему же ты училась в пансионе?
– А ты чему учился у своих немцев колонистов и чухонцев?
– Я учился в лавке, продавая парусину, железо и веревки. За меня в пансион разным мадамам деньги не платили. Я счет по-немецки знаю, хмельные слова знаю.
– Ты хмельные, а я комнатные. Про поезда нас ничего не учили.
Супруги уже начали ссориться, размахивая руками, но наконец Николай Иванович плюнул, оттолкнул от себя жену, подсел к немцу и показал ему свои проездные билеты. Немец посмотрел их и опять отрицательно покачал головой:
– Nein. Das ist nicht was. Die Fuhrkarten sind nach Berlin, aber wir fahren nach Hamburg.
– Да Берлин-то будет по дороге или нет? Вот что я вас спрашиваю! – раздраженно крикнул Николай Иванович. – Ну, может быть, так, что сначала Берлин, а нахер Гамбург или сначала Гамбург, а нахер Берлин. Них ферштейн?
– О, ja… ich verstehe… Berlin ist dort und Hamburg ist dort. Von Dirschau sind zwei Zweigen.
Немец показал жестами в две противоположные стороны.
– Здравствуйте! Даже не в ту сторону и едем-то, – отскочил от немца Николай Иванович, поняв, что по дороге не будет Берлина, и набросился на жену: – А все ты со своей уборной. Все это через тебя мы перепутались… «Мне нужно поправиться! Мне нужно поправиться!» Вот и поправилась. В Гамбург вместо Берлина едем. На кой шут, спрашивается, нам этот Гамбург, ежели мы через Берлин в Париж едем? Немец показывает, что Берлин-то вон там, а нас эво куда относит.
– Не могу же я не сходить в дамскую уборную, ежели я шесть-семь часов, не выходя из вагона, сидела, – оправдывалась жена.
– А не можешь, так не езди за границу. Немки же могут. Отчего же они могут? Или у них натура другая?
– Конечно же, должно быть, другая. Они к здешним порядкам привычны, а я непривычна.
– И ты за границу выехала, так должна привыкать. А то, извольте видеть, надо в буфет есть идти, а она: «Я в дамскую уборную». Через тебя и еду прозевали. Нешто может быть человек сыт, съевши вот по эдакой котлетке, ежели он с утра не ел! Ведь, может быть, до самого Гамбурга другого куска в горло не попадет, кроме этой котлетины. А где этот самый Гамбург? Черт его знает, где он! Может быть, на краю света.
Глафира Семеновна сидела, держа в руке котлеты, завернутые в носовой платок, и плакала.
– Зачем же нам в Гамбург-то ехать? Мы выйдем вон из вагона на первой же станции, – говорила она.
– А черт их знает, будет ли еще по дороге станция-то, да и выпустят ли нас из этого вагона. Видишь, какие у них везде дурацкие порядки. Может быть, из вагона-то вплоть до Гамбурга и не выпустят. А заплати деньги сполна, да и поезжай.
– Попросимся, чтобы выпустили. Скажем, что по ошибке не в тот поезд попали.
– Попросимся, скажем… А кто будет говорить, ежели по-немецки ты ни аза в глаза, а я еще меньше? Да и кого тут попросить, ежели и кондукторов-то не видать? У нас по железным дорогам кондукторы по вагонам шляются, чуть не через каждые десять минут билеты у тебя смотрят, машинками прорезают, будят тебя, ежели ты спишь, чуть не за ноги тебя со скамейки стаскивают то за тем, то за другим, а здесь более получаса в какой-то Гамбург едем, и ни одна кондукторская бестия не показывается! В Гамбург! На какой пес, спрашивается, нам этот Гамбург, – горячился Николай Иванович, но, увидав уже рыдающую жену, понизил голос и прибавил: – Не реви… Утри глаза платком и сиди без слез.
– Как же я могу утереться платком, ежели у меня в носовом платке котлеты! Ведь весь платок у меня в подливке. Сам же ты в Кенигсберге на станции в мой носовой платок котлеты с двух тарелок вывалил, – отвечала жена.
– Вынь из саквояжа чистый платок. Нехорошо в слезах. Вон немец смотрит.
– Да ведь саквояжи в том поезде остались.
– Тьфу!.. И то… Совсем спутался. Вот наказание-то! Ну, возьми мой платок и вытрись моим платком.
– Лучше же я кончиком от своего платка… Кончик не замаран.
Глафира Семеновна поднесла платок с котлетами к глазам и кончиком его кое-как вытерла слезы. Николай Иванович увидал котлеты и сказал:
– Давай же съедим по котлетке-то… Есть смерть как хочется…
– Съедим, – прошептала Глафира Семеновна, раскрывая платок. – Вот тут и пюре есть… Только хлеба нет. Хлеба забыла взять.
Супруги принялись есть котлеты. Вошел кондуктор визировать билеты, увидал у супругов не те билеты, заговорил что-то по-немецки и, наконец, возвыся голос, раскричался.
– Weg, weg! Sie mssen bald umsteigen und die Strafe zahlen! – кричал он.
– Про штраф говорит. Штраф возьмут, – пробормотал Николай Иванович жене и, обратясь к кондуктору, спросил: – Да геен-то все-таки можно? Из вагона-то можно геен?.. Выпустят нас на станции?
– Как ман на станции вег геен? – поправила мужа жена.
– О, ja… ja… Bald wird die Station und Sie, mssen dort.
– Что он говорит? – интересовался Николай Иванович.
– Говорит, что сейчас будет станция и нас высадят.
– Ну, слава тебе господи!
Поезд уменьшал ход и, наконец, остановился. Супруги не вышли, а выскочили из вагона, словно из тюрьмы. Кондуктор сдал их начальнику станции, свистнул, вскочил на подножку вагона, и поезд опять помчался.
Комнатные слова
Николай Иванович и Глафира Семеновна стояли перед начальником станции, совали ему свои билеты и ждали над собой суда.
– Вот, хер начальник станции, ехали мы в Берлин, а попали черт знает куда, – говорил Николай Иванович, стараясь быть как можно учтивее, и даже приподнял шляпу.
Начальник станции, длинный и тощий, как хлыст, немец в красной фуражке и с сигарой в зубах, сделал ему в ответ на поклон под козырек и, не выпуская из зубов сигары, глубокомысленно стал рассматривать сунутую ему книжку билетов прямого сообщения до Парижа.
– Бите, загензи, вас махен? Вас махен? – спрашивала, в свою очередь, Глафира Семеновна.
– Ага! Заговорила по-немецки! Заставила нужда калачи есть! – воскликнул Николай Иванович, с каким-то злорадством подмигивая жене.
– Заговорила потому, что обыкновенные комнатные слова потребовались. Комнатные слова я отлично знаю.
«Вас махен? Вас махен?» – повторяла она перед начальником станции.
Тот понял вопрос, важно поднял голову и заговорил по-немецки. Говорил он с толком, с расстановкой, наставительно, часто упоминал Кенигсберг, Берлин, Диршау, слово Schnellzug и сопровождал все это пояснительными жестами. Глафира Семеновна, морщась от табачного дыма, который он пускал ей прямо в лицо, внимательно слушала, стараясь не проронить ни слова.
– Поняла? – спросил Николай Иванович жену.
– Да, конечно же поняла. Слова самые обыкновенные. Штраф, купить билеты и ехать обратно в этот проклятый Кенигсберг.
– А когда, когда поезд-то в Кенигсберг пойдет? Спроси его по-немецки. Ведь можешь.
– Ви филь ур поезд ин Кенигсберг?
– Nach zwei Stunden, Madame.
– Что он говорит?
– Не понимаю. Ви филь ур? Ур, ур? – твердила она и показывала на часы.
– Um zehn Uhr, nach zwei Stunden.
Начальник станции вынул свои карманные часы и показал на цифру «десять».
– Через два часа можно ехать? Отлично. Бери, мусью, штраф и отпусти скорей душу на покаяние! – воскликнул радостно Николай Иванович, опустил руку в карман, вытащил оттуда несколько золотых и серебряных монет и протянул их на ладони начальнику станции. – Бери, бери… Отбирай сам, сколько следует, и давай нам билеты до Кенигсберга. Сколько немецких полтин надо – столько и бери.
– Немензи, немензи штраф унд фюр билет, фюр цвай билет, – подтвердила жена. – Вир висен нихт ваш гольд. Немензи…
Начальник станции осклабил свое серьезное лицо в улыбку и, отсчитав себе несколько марок, прибавил:
– Hier ist Wartezimmer mit Speisesaal, wo Sie knnen essen und trinken…
– Тринкен? – еще радостнее воскликнул Николай Иванович и схватил начальника станции под руку. – Мосье! Пойдем вместе тринкен. Бир тринкен, шнапс тринкен. Коммензи тринкен… Бир тринкен… Хоть вы и немец, а все-таки выпьем вместе. С радости выпьем. Давно я тринкен дожидаюсь. Пйдем, пойдем. Нечего упираться-то… Коммензи, – тащил он его в буфет.
Через пять минут начальник станции и супруги сидели за столом в буфете.
– Шнапс! Бир… Живо! – командовал Николай Иванович кельнеру.
– Бифштекс! Котлету! – приказывала Глафира Семеновна. – Тэ… кафе… бутерброды… Да побольше бутербродов. Филь бутербродов…
Стол установился яствами и питиями. Появился кюммель, появилось пиво, появились бутерброды с сыром и ветчиной, кофе со сливками. Начальник станции сидел, как аршин проглотивши, не изменяя серьезного выражения лица, и, выпив кюммелю, потягивал из кружки пиво.
– Водка-то у вас, хер, очень сладкая – кюммель, – говорил Николай Иванович, чокаясь с начальником станции своей кружкой. – Ведь такой водки рюмку выпьешь, да и претить она начнет. Неужто у вас здесь, в Неметчине, нет простой русской водки? Руссиш водка? Нейн? Нейн? Руссиш водка?
Немец пробормотал что-то по-немецки и опять прихлебнул из кружки.
– Черт его знает, что он такое говорит! Глаша, ты поняла?
– Ни капельки. Это какие-то необыкновенные слова. Таким нас не учили.
– Ну, наплевать! Будем пить и говорить, не понимая друг друга. Все-таки компания, все-таки живой человек, с которым можно чокнуться! Пей, господин немец. Что ты над кружкой-то сидишь! Пей… Тринкензи… Мы еще выпьем. Пей, пей…
Немец залпом докончил кружку.
– Анкор! Человек! Анкор… Менш… Еще цвай бир!.. – кричал Николай Иванович.
Появились новые кружки. Николай Иванович выпил залпом.
Немец улыбнулся и выпил тоже залпом.
– Люблю, люблю за это! – воскликнул Николай Иванович и полез обнимать немца. – Еще бир тринкен. Цвай бир тринкен.
Немец не возражал, пожал руку Николая Ивановича и предложил ему сигару из своего портсигара. Николай Иванович взял и сказал, что потом выкурит, а прежде «эссен и тринкен», и действительно напустился на еду. Немец смотрел на него и что-то с важностью говорил, говорил долго.
– Постой, я его спрошу, как нам с нашими подушками и саквояжами быть, что в поезде уехали. Ведь не пропадать же им, – сказала Глафира Семеновна.
– А можешь?
– Да вот попробую. Слова-то тут немудреные.
– Поднатужься, Глаша, поднатужься…
– Загензи бите, во ист наш саквояж и подушки? Мы саквояж и подушки ферлорен. То есть не ферлорен, нихт ферлорен, а наш багаж, наш саквояж в поезде остался… Багаж в цуг остался, – обратилась она к немцу. – Нихт ферштеен?
И дивное дело – немец понял.
– О, ja, ich verstehe, Madam. Вы говорите про багаж, который поехал из Кенигсберга в Берлин? Багаж ваш вы получите в Берлине, – заговорил он по-немецки. – Нужно только телеграфировать. Nein, nein, das wird nicht verloren werden.
Поняла немца и Глафира Семеновна, услыхав слова wird nicht verloren werden, telegrafiren.
– Багаж наш не пропадет, ежели мы будем телеграфировать, – сказала она мужу. – Нам в Берлине его выдадут.
– Так пусть он телеграфирует, а мы с ним за это бутылку мадеры выпьем… Хер… Телеграфирензи… Бите, телеграфирензи. Вот гольд и телеграфирензи, а я скажу «данке», и мы будем тринкен, мадера тринкен.
– О ja, – проговорил немец, взял деньги и, поднявшись с места, пошел на телеграф.
Через пять минут он вернулся и принес квитанцию.
– Hier jetzt seien Sie nicht bange, – сказал он и потрепал Николая Ивановича по плечу.
– Вот за это данке так данке! Человек! Менш! Эйне фляше мадера! – крикнул тот и, обратясь к немцу, спросил: – Тринкен мадера?
– О ja, Kellner, bringen Sie…
– Кельнер! Кельнер! А я и забыл, как по-немецки при служивающий-то называется. Кельнер! Мадера!
Появилась мадера и была выпита. Лица у начальника станции и у Николая Ивановича раскраснелись. Оба были уже на втором взводе, оба говорили: один – по-немецки, другой – по-русски, и оба не понимали друг друга.
Перед прибытием поезда, отправляющегося в Кенигсберг, они вышли на платформу и дружественно похлопывали друг друга по плечу. Николай Иванович лез обниматься и целоваться, но начальник станции пятился. Когда поезд подъехал к платформе, начальник станции распрощался с Николаем Ивановичем и на этот раз поцеловался с ним, посадил его в вагон и крикнул:
– Glckliche Reise!
Поезд помчался.
Обед по телеграмме
Поезд мчался к Кенигсбергу, куда начальник станции неизвестно для чего отправил обратно супругов, так как и на той станции, где они пили с ним пиво и мадеру, можно бы было дожидаться прямого берлинского поезда, который не миновал бы станции. Очевидно, тут было какое-то недоразумение, и начальник станции и супруги не поняли друг друга. Да и на станции-то не следовало им слезать с того поезда, в который они сели по ошибке, а следовало только пересесть из гамбургского вагона в берлинский и выйти гораздо дальше на станции у разветвления дороги, но супруги были, выражаясь словами Николая Ивановича, без языка, сами никого не понимали, и их никто не понимал, отчего все это и случилось.
Николай Иванович сидел с женой в купе и твердил:
– Кенигсберг, Кенигсберг… Наделал он нам переполоху! В гроб лягу, а не забуду этого города, чтоб ему ни дна ни покрышки! И наверное, жидовский город.
– Почему ты так думаешь? – спросила жена.
– Да вот, собственно, из-за «берга». Все жиды – «берги»: Розенберги, Тугенберги, Ейзенберги, Таненберги. Удивительно, что я прежде про этот заграничный город ничего не слыхал. Новый какой, что ли?
– Нет, мы про него в пансионе даже в географии учили.
– Отчего же ты мне про него раньше ничего не сказала? Я бы и остерегся.
– Да что же я тебе скажу?
– А вот то, что в нем обычай, что по телеграфу обед заказывать надо. Наверное, уж про это-то в географии сказано… Иначе на что же тогда география? Ведь географию-то для путешествия учат.
– Ничего в нашей географии ни про обед, ни про телеграммы сказано не было. Я очень чудесно помню.
Николай Иванович скорчил гримасу и проворчал:
– Хорош, значит, пансион был! Из немецкого языка только комнатным словам обучали, а из географии ничего про обеды не учили. Самого-то главного и не учили.
– Да чего ты ворчишь-то! Ведь уж напился и наелся с немцем на станции.
– Конечно же привел Бог пожевать и легкую муху с немцем урезать, но все-таки… А хороший этот начальник станции, Глаша, попался… Ведь вот и немец, а какой хороший человек! Все-таки посидели, поговорили по душе, выпили, – благодушно бормотал Николай Иванович, наконец умолк и начал засыпать. Мадера дала себя знать.
– Коля! Ты не спи! – толкнула его жена. – А то ведь эдак немудрено и проспать этот проклятый Кенигсберг. Тут как только крикнут, что Кенигсберг, – сейчас и выскакивать из вагона надо, а то живо куда-нибудь дальше провезут.
– Да я не сплю, не сплю. А только разик носом клюнул. Намадерился малость, вот и дремлется.
– Кенигсберг! – крикнул наконец кондуктор, заглянув в купе, и отобрал билеты до Кенигсберга.
Через минуту поезд остановился. Опять освещенный вокзал, опять столовая со снующими от стола к столу кельнерами, разносящими кружки пива.
Первым делом пришлось справляться, когда идет поезд в Берлин. Для верности супруги обращались к каждому железнодорожному сторожу, к каждому кельнеру, показывали свои билеты и спрашивали:
– Берлин? Ви филь ур? Берлин?
Оказалось, что поезд в Берлин пойдет через два часа. Все говорили в один голос. Несловоохотливым или спешащим куда-нибудь Николай Иванович совал в руку по «гривеннику», как он выражался, то есть по десяти пфеннигов, – и уста их отверзались. Некоторые, однако, не советовали ехать этим поездом, так как этот поезд идет не прямо в Берлин и придется пересаживаться, и указывали на следующий поезд, который пойдет через пять часов, но супруги, разумеется, ничего этого не поняли.
– Das ist Bummelzug und bis Berlin mssen Sie zwei Mal umsteigen, – твердил Николаю Ивановичу какой-то железнодорожный сторож, получивший на кружку пива. – Bummelzug. Haben Sie verstanden?
– Данке, данке… Цвай ур ждать? Ну, подождем цвай ур. Это наплевать. Тем временем пивца можно выпить. – И от полноты чувств Николай Иванович потря сторожа за руку. – Как я, Глаша, по-немецки-то говорить научился! – отнесся он к жене. – Ну, теперь можно и пивка выпить. Надеюсь, что уж хоть пиво-то можно без телеграммы пить. Пиво не еда.
Супруги уселись к столу.
– Кельнер! Цвай бир! – крикнул Николай Иванович. Подали пиво. – Без телеграммы, – крикнул он жене. – Попробовать разве и по бутерброду съесть. Может быть, тоже без телеграммы.
– Да по телеграмме только обеды табльдот, а что по карте, то без телеграммы, – отвечала жена. – Ведь русский-то, прошлый раз сидевший за столом, явственно тебе объяснил.
– Ну?! В таком разе я закажу себе селянку на сковородке. Есть смерть как хочется. Как по-немецки селянка на сковородке?
– Да почем же я-то знаю!
– Постой, я сам спрошу. Кельнер! Хабензи селянка на сковородке! – обратился Николай Иванович к кельнеру.
Тот выпучил на него глаза.
– Селянка, – повторил Николай Иванович. – Сборная селянка… Капуста, ветчина, почки, дичина там всякая. Нихт ферштейн? Ничего не понимает. Глаша! Ну, как отварной поросенок под хреном? Спроси хотя поросенка.
Жена задумалась.
– Неужто и этого не знаешь?
– Постой… Знаю… Свинья – швайн. А вот поросенок-то…
– Ребеночка от швайн хабензи? – спрашивал Николай Иванович кельнера.
– Швайнбратен? О! Я… – отвечал кельнер.
– Да не брата нам надо, а дитю от швайн.
– Дитя по-немецки – кинд, – вмешалась жена. – Постой, я спрошу. Швайнкинд хабензи? – задала она вопрос кельнеру.
– Постой, постой… Только швайнкинд отварной, холодный…
– Кальт, – прибавила жена.
– Да, со сметаной и с хреном. Хабензи?
– Nein, mein Herr, – отвечал кельнер, еле удерживая смех.
– Ну, вот видишь, стало быть, и по карте ничего нельзя потребовать без телеграммы, говорят: «Найн», – подмигнул жене Николай Иванович. – Ну, порядки!
– А как же мы котлеты-то давеча, когда были здесь в первый раз, в платок с тарелки свалили?
– Ну, уж это как-нибудь впопыхах, и кельнер не расчухал, в чем дело, а может быть, думал, что и была от нас телеграмма. Да просто мы тогда нахрапом взяли котлеты. Котлеты взяли, деньги на стол бросили и убежали. А теперь, очевидно, нельзя. Нельзя, кельнер?
– Видишь, говорит, что нельзя.
– Nein, mein Herr.
– А ты дай ему на чай, так, может быть, будет и можно, – советовала жена. – Сунь ему в руку. За двугривенный все сделает.
– А в самом деле – попробовать?! Кельнер, немензи вот на тэ и брингензи швайнкинд. Бери, бери… Чего ты? Никто не увидит. Будто по телеграмме, – совал Николай Иванович кельнеру две десятипфенниговые монеты.
Кельнер не взял.
– Nein, mein Herr. Ich habe schon gesagt, dass wir haben nicht.