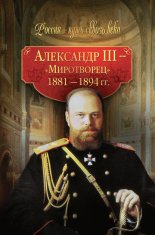В поисках жанра Аксенов Василий

Завихренья зелени, завихренья сирени, огненная лиса, несущаяся вдоль полотна от Переделкина к Мичуринцу. Там я бродил в поисках рифмо-отбросов, пока не выписал себе через Литфонд ежедневный обед. Тогда стал получать горяченькое эссе от борща через кашу к кофе-гляссе. Бывало там и салями, если его не съедали сами. Я брал кусочек салями и относил вам, Суламифь. Я видел локон, чуял ток и целовал вас в локоток.
Фокус разваливался. Пузыри лопались, размокшие фейерверки шипели. Внезапно погас свет, что помогло Дурову избежать объяснений со зрителями.
Услуга за услугу
Что такое автомобиль? — задал себе вопрос Павел Дуров. Вот именно, частный легковой автомобиль. Сатирическая дерзость «не роскошь, а средство передвижения», появившись в двадцатые годы, в том же десятилетии и утонула. В недалекие еще пятидесятые автомобиль все еще был не «средством передвижения», но символом особого могущества, несомненной роскошью и даже отчасти неким вместилищем греха. Только вот сейчас, уже в середине семидесятых, мы можем без боязни сфальшивить задать самому себе простецкий вопрос: что такое автомобиль?
Итак, конечно же средство передвижения. Автомобиль — это мягкое кресло, на котором ты с большой скоростью передвигаешься в пространстве. Кроме того, ты можешь перевозить в автомобиле свои личные вещи, и необязательно в чемоданах, ты можешь просто набросать их в багажник и салон как попало. Следовательно, автомобиль — это передвигающийся чемодан. Далее, если ты ездишь все время в автомобиле, тебе необязательно зимой тяжелую шубу носить, потому что внутри у тебя есть надежная печка. Следовательно, автомобиль — это еще и шуба, не так ли? Ну что еще? Ну конечно же автомобиль — это твой дом, маленький домик на колесах, часть твоей личной защитной сферы, постель, зонтик, галоши… Ну что еще? Итак, автомобиль — это твое кресло, чемодан, шуба, койка, домик, зонтик, галоши и конечно же зеркальце для бритья. Да, конечно, автомобиль — это отличное зеркальце для бритья, думал Павел Дуров, сидя рядом со своим автомобилем и намыливая щеки перед бортовым зеркальцем заднего вида.
Великолепное место избрал Павел Аполлинарьевич для утреннего блаженства. Высота была метров триста над уровнем моря, а море сияло перед его взором, лежа на собственном уровне, но вполнеба. Здесь извилистая асфальтовая дорога, ограниченная с одной стороны обрывом к морю, а с другой — отвесными скалами, позволила себе роскошь — карман в скалах, приют усталого путника, родник, блаженство, непрерывающаяся хрустальная струя меж замшелых зеленоватых каменьев и никаких ограничительных знаков.
Дуров наслаждался тишиной, одиночеством, пеньем птиц в весенних кустах, бульканьем ручья, солнцем, которое вслед за ходом бритвы гладило его щеки, морем, сверкавшим вполнеба… Наслаждаясь, однако, он, как и подобает современному человеку, иной раз думал с легкой тревогой: «Что же это я — один такой умный?»
И в самом деле — ни одной машины не прошло мимо Дурова, пока он брился. И ночь он спал в этом асфальтовом кармане в полной тишине, если, конечно, не считать криков орлов и сов, доносившихся сверху. Так и было: Дуров был один «такой умный». Он еще не знал, что ночью сбился с главной дороги, проехал под кирпич и сейчас блаженствовал в запретной для автотранспорта заповедной зоне. Смешная, согласитесь, картина: блаженствует человек и не подозревает, что над ним навис штраф в солидную сумму, а может быть, и отнятие водительских прав.
Как раз километрах в восьми-десяти отсюда ехал по дороге на мотоцикле егерь заповедника. Уж он-то наверняка бы дуровскую машину или сам задержал, или позвонил на близкий пост ГАИ. Однако встречи Дурова с егерем не произошло, потому что прежде на шоссе появились тетки.
Две тетки с сумками вылезли к роднику, прямо откуда-то снизу, из густого кустарника, которым зарос крутой, местами просто обрывистый склон. Они вылезли и изумленно охнули, когда увидели прямо перед собой спокойный частный автомобильчик и обнаженного по пояс ничего себе паренька (Дуров издали производил именно такое впечатление), который мирно брился, заглядывая в этот автомобильчик. Это была редкая удача для теток, и они заверещали от удовольствия. Дуров же не знал, что это и для него редкая удача, и потому не заверещал.
— А ты бы нас, парень, не подбросил к Феодосии? — спросили тетки.
Они были красные, распаренные, одна вроде даже багровая, после подъема. Странно было видеть среди молодой нежнейшей листвы на фоне сверкающего моря этих двух бесформенных теток, одетых еще по-зимнему, перепоясанных шалями, в тяжелых резиновых сапогах и с сумками. У Дурова чуть-чуть испортилось настроение. Присутствие двух больших теток на заднем сиденье ему не улыбалось. Он привык в этот час ехать один, с удовольствием курить и слушать радио, брекфест-шоу с музыкой и разными интервью.
— Вот сейчас добреюсь, потом умоюсь, потом позавтракаю, а потом уже поеду, — сказал он теткам без особого привета.
— Ну вот и отлично, мы с тобой поедем.
Тетки приблизились и свалили свои сумки возле переднего правого колеса.
— Охохонюшки-хохо, — сказала одна из теток.
Что означало в данном случае это емкое слово, Дуров не понял.
Вторая тетка вздохнула более осмысленно. Она развязала свою шаль и сбросила ее с плеч. Краем глаза Дуров заметил густые и, пожалуй, даже красивые светло-каштановые волосы. Тетка подняла лицо к солнцу и вздохнула, и этот вздох ее легко читался. Боже мой, вот и опять весна! Боже! Боже! — так можно было прочесть теткин вздох.
Присутствие этих теток смазало дуровский утренний кайф, и вскоре они поехали. Между прочим, за три минуты до того, как выехал из-за поворота егерь заповедника. Три минуты отделяли нашего странника от серьезных неприятностей.
— А ты сам-то куда, парень, едешь? — спросили тетки с заднего сиденья.
— В Керчь, — ответил Дуров.
Он все-таки включил свой брекфест-шоу и слушал сейчас сводку новостей. Все было как обычно, кто-то что-то отверг, кто-то отклонил, кто-то опроверг…
— Ох, машинка-то у тебя хороша, — сказали тетки. — Папина?
— Почему папина? — удивился Дуров. — Моя.
— Где ж ты на машину-то заработал?
До Дурова наконец дошел смысл вопроса. Возраст. Молод, дескать, еще для собственной машины. Тетки не заметили его морщин, а возраст, видимо, прикинули по внешним очертаниям. С ним уже не раз случалось такое, особенно после недельки, проведенной на пляже, — какое-то недоразумение с возрастом, казавшееся ему почему-то слегка оскорбительным.
— Заработал, — буркнул он и неожиданно для себя соврал: — Черная Африка.
— Ага, понятно, в Африке заработал. — Тетки были удовлетворены.
«Удачное вранье, — подумал Дуров. — Запомним на будущее». Черная Африка — и все понятно, вопросов нет. Снимаются всякие там разговоры о возрасте и особенно о профессии. Дуров не любил говорить о своей профессии со случайными людьми. Нет, он не стыдился ее, но она была довольно редкой, можно сказать, исключительной, и упоминание о ней неизбежно вызывало вопрос за вопросом и странное покачивание головой, и наконец, когда он заговаривал о своем жанре, следовало «а зачем?», и тогда уже Дуров в ярости проглатывал язык, потому что не знал зачем.
— А вы, значит, обе в Феодосию? — спросил он, чтобы что-нибудь спросить.
— В Феодосию, в Феодосию, — сказали тетки.
— Я мужика своего ищу, — сказали тетки, вернее, одна из них, конечно, одна из них, должно быть, та, с пышной гривой.
— Что? — изумился Дуров.
— Мужик от меня сбежал. Тебе интересно? — весело и быстро проговорила она. — Слушай, парень, давай-ка я к тебе вперед сяду.
Дорога пошла вниз. Открылись больше ярко-серые скалы. Между скалами над морем плавали орлы. Дуров был в замешательстве. Одна из теток перелезала через спинку переднего кресла и вскоре водрузилась рядом, разбросав по коленям полы своего синтетического пальто, шаль, сумку, а волосы раскидав по плечам. Сильно запахло крепкими сладкими отечественными духами. Что-то странное произошло с этой теткой, какая-то метаморфоза.
— Давай знакомиться. Меня Аллой зовут.
— Павел Дуров.
Был крутой вираж впереди, и потому он только мельком глянул на тетку. Успел заметить довольно привлекательные груди, обтянутые тонкой кофточкой. Тетка вылезала из своих одежек, обнаруживая внутри, за всеми этими капустными листьями, за шалью, за синтетическим, подбитым поролоном пальто, за двумя крупновязаными кофтами, себя самою, то есть вовсе и не тетку, а скорее девку.
— Ты, может, моряк? Дай сигарет!
Просьба, последовавшая сразу за вопросом, избавила Дурова от необходимости врать. Он протянул сигареты, потом показал на зажигалку. (Автомобиль — это еще и зажигалка для сигарет!) Она умело закурила и затянулась, явно предвкушая длительную и обстоятельную беседу.
— Есть у меня моряк, Славик. Высокий, красивый, в загранку ходит, исключительный парень.
На подъеме Дуров покосился внимательнее. Она курила с удовольствием. Выпуклые светлые глаза, попавшие под солнце, казались стеклянными, но на щеке трогательно и живо подрагивал каштановый завиток.
— Так это Славик сбежал от… тебя?
Дуров нелегко переходил с людьми на «ты», тем более не любил случайных с-понтом-свойских отношений, но сейчас почувствовал, что «вы» обидело бы попутчицу.
Может быть, и Алла почувствовала, как он преодолел какой-то серьезный для себя барьер, потому что обрадовалась его вопросу и затараторила:
— Ну что ты, Паша! Славик за мной, как пудель, на край света пойдет, только свистну! Что, не веришь? Думаешь, я всегда такая теха? Знаешь, подмажусь, причесочку заделаю, брючный костюм, платформы — кадр в порядке! Я пивом на автостанции торгую. В кавалерах недостатка не испытываю. Это от меня не Славик, а Николай, пьянь паршивая, смотался! Смотался — и с концами, ну что ты скажешь, Паша, а?
Дуров заметил уже, что случайные попутчики, попадая в автомобиль, вдруг ни с того ни с сего начинают выкладывать подробности своей жизни, подчас весьма интимные. Ему это было не очень-то по душе. Ему казалось, что в ответ на свои откровения попутчики ждут и от него чего-то в этом роде. Неискушенная душа, Павел Дуров не сразу понял, что людям его тайны совершенно не нужны. Случайный попутчик в автомобиле торопится выложить свои беды, а порой и грехи свои, имея в виду, что скорость современных автомобилей и разветвленность автотрасс обеспечат тайну исповеди. Да, по сути дела, это были как бы исповеди в темноте, но он не сразу разобрался в этом явлении. Во всяком случае, он этого не любил.
— А что… прическа? Ты, наверное, Алла, вверх все начесываешь, да? Такой как бы башней? — спросил он.
Ну что это за вздор? Что это он о прическе заговорил с незнакомой бабой? Ах да, для того чтобы она о своем Николае ничего ему не выкладывала. Славик какой-то да еще Николай — к чему Дурову эти люди?
— Точно, Паша! — Она засмеялась. — Так получается очень эффектно!
— Знаешь, я бы тебе посоветовал не начесывать, а вот просто так, гладко, знаешь ли… ну, просто вниз… вот в принципе как сейчас…
— Ты так считаешь?! — Она была поражена. Повернулась к нему на сиденье, но не смотрела, а вся как бы ушла в себя, потрясенная этим косноязычным советом. — Значит, просто вниз, вот так, да? — Толстые ее пальцы с облупленным маникюром трогали волосы. — Значит, ты считаешь, мне так личит, а? Много более женственно, ага? Ты серьезно, Паша?
Дорога все больше уходила вниз и в сторону от моря. Наконец до Дурова дошло, почему такое безлюдное, тихое шоссе. Заповедник! Он заторопился, стал поджимать на газок и на поворотах прижиматься к внутренней дуге, короче говоря, поехал «активно». Вскоре они проскочили щиты с заповедями заповедника, запрещающие знаки, поднятый шлагбаум. Дуров передохнул — пронесло!
Немедленно после шлагбаума началась реальная дорога. С какой-то стройки на шоссе в тучах пыли выезжала колонна самосвалов. Они не желали считаться с правилами преимущественного проезда и выезжали один за другим, обдавая затормозивший «Фиат» пылью, оглушая грохотом, в общем, шуровали по принципу «у кого железа больше, тот и прав».
Дуров начал уже злиться, но потом, когда все самосвалы выехали на шоссе, он разогнался и стал их щелкать одного за другим, пошел вдоль всего ряда, быстро обогнал колонну, что называется, сделал их, и оттого настроение у него подскочило на несколько градусов, хотя, конечно, повод для радости был глупейший.
Справа проплыл, как всегда, миражный силуэт Генуэзской крепости. За башнями еще сверкали куски моря. Заправляться не нужно? Нет, лучше проскочить эту бензоколонку, здесь уже собралась компания — за час не расхлебаешь. Навстречу прощелкивали все чаще и чаще разноцветные «Жигули». Все больше и больше автобусов и грузовиков. Как же ты, черт, выходишь на обгон? Ты что, меня не видишь? Просигналить ему фарами. То-то, спрятался.
Выше, выше, вот перевал, и снова вниз.
Боже, какая чудесная земля! Холмистая золотая долина лежала внизу, а справа, там, где только что были море и крепость, стояли зубчатые скалы. Он с удовольствием спускался, как бы внедрялся в нежную золотистую долину, хотя и понимал, что с каждой сотней метров теряет перспективу.
— …а это уже потом Ашотик мне бацнул что видел Кольку в обсерватории я сразу тогда сумки-то собрала и ходу сюда в заповедник потому что Паша-дорогой больше всего боюсь как бы этот дурак опять за руль не сел в прошлый-то раз тоже так началось за руль дескать сяду у меня мол первый класс а как банку возьмет так он и гонщик мастер спорта чемпион Европы так он тогда и поездил в Джанкое может неделю или меньше а потом от милиции драпал а я уж его в Кременчуге подобрала практически без штанов так кой-чего на жопе висело а еще опять же гордость показывал и демонстрировал свое превосходство ты говорит Алка захлебнешься в своем пиве а стихов Есенина не знаешь и душу русского человека вы южные бабы не поймете ты понял Паша как будто мы не русские по крайней мере какая же это говорю Николай польза человечеству от твоего первого класса и твоей души ты посмотри какие русские люди повсюду творят чудеса как помогаем разным многочисленным народам а ты практически в стороне от всего вытягиваешь последние капельки из бутылки роняешь мужское достоинство и вот теперь Ашот Заказанян он газовые баллоны возит сообщил мне местонахождение ну думаю конец обсерватория-то там внизу у самого моря а дороги крутые узкие все думаю пришел моему мастеру спорта финал собралась сюда с сумками а здесь его и след простыл и ребята из гаража всю ночь приставали с дурацкими предложениями а утром завгар сказал что на третий же день он и попер Николая из своего астрономического хозяйства а сейчас единственная возможность что может быть он в Феодосии сшивается у своего кореша по авиации Степки Никоненко если оба не загазовали а как загазуют так черт знает где могут оказаться хоть на Сахалине…
Дуров понял, что она всю эту драматическую историю начала еще в заповеднике и продолжала все время, пока они проезжали через город, мимо крепости и бензоколонки, а он ничего не слышал и вот только здесь уже, в золотой долине, подключился, но, кажется, вовремя. Во всяком случае, в расстановке сил на арене личной жизни Аллы Филипук, продавца палатки «Пиво — воды», он, кажется, начинает разбираться. Он засмеялся.
— Напрасно смеешься. Дело не смешное, — быстро и сердито произнесла Алла, но потом, вспомнив, видимо, что Паша ей чужой человек, тоже облегченно засмеялась. — Значит, такое выносится предложение — женственный стиль волос? Все, схвачено, Пашок! Теперь их трогать не буду, отпущу пониже да почаще мыть-мыть, у меня тут, видишь, волна… видишь, Паша? Ой, Паша, да ведь не девочка же, как я буду с длинными-то волосами ходить при моей попе?
— Ничего, ничего, — ободрил ее Дуров. — Не девочка, но и не тетка ведь старая. Пройдешь.
— Ну… а сколько мне годков кинешь? — вдруг решительно, как в воду головой, спросила Алла.
Дуров тогда еще внимательнее посмотрел на свою попутчицу. Она все больше его забавляла — в самом деле любопытная бабешка! Дуров даже поймал себя на том, что слегка отвлекся от своего внутреннего вечного «самососания», от своего испепеляющего эгоизма. Интересен стал даже и дикий ее Николай — чемпион Европы, его слегка заинтересовал и даже стопроцентный Славик. «Она конечно же моложе меня, — подумал он. — Хоть у нее и подбородочек имеется, но подбородочек гладенький, а морщины у глаз крупные — от смеха, от слез, а не от мелких возрастных неприятностей».
— Я, Алла, комплименты делать не умею.
— Нет-нет, ты, Паша, честно говори, как будто врач!
— Тридцать пять, — сказал Дуров, все-таки годика три срезав.
— Ай! — вскрикнула Алла, словно укололась.
Тут вдруг обнаружилась на заднем сиденье вторая тетка, о которой Дуров совсем уже забыл:
— Ты, шофер, трехнулся? Тридцать пять — это мне, бабе никудышной, в среду минуло, а Аллочка наша вполне еще конфетка.
Дуров посмотрел в зеркальце заднего вида на осерчавшее то ли всерьез, то ли в шутку лицо второй пассажирки. Ее-то он полагал вообще пенсионеркой. Невольно, разумеется, вспомнились порхающие в Москве по творческим клубам сорокалетние девочки.
— Ах, неужели, Пашенька, я так уже выгляжу? — с тихим человеческим страданием проговорила Алла. — А ведь мне всего лишь двадцать семь.
Дуров что-то промямлил о своем паршивом зрении, об Аллиных платках, шарфах, кофтах, дескать, они его сбили с толку, и наконец замолчал. Разговор в машине прервался.
Дуров, как ни странно, несколько угрызался, но одновременно и радовался, что с языка не сорвалась «сороковка». Самому ему почему-то всегда казалось, что сорок человеческих лет — это меньше, чем тридцать пять. Как ни странно, ему так казалось еще до того, как пришел личный опыт, но с Аллой этими заумными соображениями он решил не делиться. Скоро уже Феодосия — и гуд бай с концами!
Вдруг он заметил выросший из круглых нежно-зеленых склонов изломанный гребень ярко-серого цвета. Как всегда неожиданно, на горизонте появилась Сюрю-Кая. Сколько уже раз он въезжал в коктебельское графство и с запада, и с востока и всегда готовился увидеть потрясающий силуэт гор, в котором можно разглядеть при желании профили замечательных писателей, и всякий раз Сюрю-Кая поражала неожиданностью. Гора эта — она волновала его.
Они катили через Планерское, когда Алла вдруг закричала:
— Паша, Паша, стой, будь другом! Вон Степка Никоненко идет!
Почему-то Дуров сразу понял, о ком речь. По территории поселка среди множества других граждан шел невысокий человек с богатым выгоревшим чубом, в большом пиджаке, надетом на майку, тяжелом черном пиджаке с наградными планками на левой груди и со значками на правой, в пиджаке, быть может, и не собственном, не личном, и в коротковатых, тоже, возможно, не своих брюках. В руке он нес авоську с бутылкой алжирского вина и двумя коробками стирального порошка. Он двигался с неопределенной улыбочкой на устах и с некоторой независимостью в походке, что, возможно, и выделяло его среди многочисленных граждан. Так или иначе, Дуров подрулил прямо к нему и остановился, и Степан Никоненко остановился, ничуть не испугавшись.
— Эй, Степа, где мой Николай у тебя прохлаждается, живой еще? — на одном дыхании выкрикнула Алла, хотя Никоненко стоял рядом и вроде был не глухой.
— Алка, кидать-меня-за-пазуху! — мило удивился Степан. — Вот ты где, девка, за Колей-гопником своим интересуешься!
Говорил он с сильным южным прононсом, и получалось примерно так: «Вот ты хде деука за Колейхопником…» Оказалось, что с другом Колей они не поладили, почти, можно сказать, полаялись, а может, и стыкнулись малость из-за различия во взглядах на покорение Луны. Коля прибыл из обсерватории с большой астрономической «подхотоукой», но он, Степан Никоненко, тоже не «хала-бала» и требует взаимного уважения, а потому Коля отбыл из Феодосии в Новороссийск, а его, Степу, баба за стиральным порошком в Планерское послала, а он здесь друга встретил, вот пиджачок его, а у вас, товарищ на «Жигулях», личность очень знакомая, вы, может, в Абрау-Дюрсо работали, нет, не работали? А тогда откуда же? Ага, из Москвы, ну, он так и подумал, и не по номеру, а потому, что «ховор какой-то дикий». Ну ладно, друг, не обижайся, паркуйся вот там, за павильоном, и пошли по делу. И девчат с собой возьмем, кидать-меня-за-пазуху!
— Симпатичный какой господин, — сказал Дуров Алле, когда они отъехали от Степана Никоненко на полкилометра.
— Зараза он! Губитель моей жизни! — вдруг горячо и горько воскликнула Алла.
— Что так?
— Они с Николаем когда-то вместе в авиации служили, он и сманил его в наши края. Так и свела меня жизнь с негодяем Николаем!
Тогда уж, когда они выехали за пределы блаженного коктебельского графства, Алла, словно отбросив какие-то сомнения, вдруг начала все выкладывать Дурову, всю свою жизнь, всех своих мужчин, разные неудачи и страсти, что терзали ее вот в эту пору, когда ей уже двадцать семь, а глядится она, страшно подумать, на тридцать пять.
Дуров уже не удивлялся самому себе и активно участвовал в разговоре, то есть даже переспрашивал иногда Аллу, уточняя детали. Иной раз он видел в зеркальце заднего обзора лицо второй тетки с открытым ртом и ушками на макушке. Тетка слушала Аллу внимательно. Втроем они доехали почти до Феодосии, до бензоколонки у поворота на Керчь, и здесь тетка с неохотой попрощалась, потому что ей действительно нужно было в Феодосию по серьезному промтоварному делу. Она предлагала Дурову рубль железом и очень настаивала — на пиво, мол, или на табак, — но в конце концов не обиделась, когда при своем рубле и осталась.
— Кто она тебе, Алла? — спросил Дуров.
— А никто. Повариха из обсерватории. Теперь натреплет ребятам про меня, ну и пусть.
— Скажи, Алла, а почему ты мне все это рассказываешь?
Спросив так, Дуров на попутчицу не посмотрел. Он засунул шланг в бак своей машины и показал три пальца — тридцать литров.
— Паша, ты в Керчи спать будешь? — спросила Алла и протянула Дурову из машины отличнейший бутерброд с ветчиной.
Это было очень неожиданно, и кстати, и мило. Чудесный был бутерброд — с сочной ветчиной и мягкая булка с хрустящей корочкой.
— В принципе я там развалины хотел посмотреть, но вообще-то паромом на Кавказ собираюсь, — сказал Дуров.
— Смотри, Паша. Делай как себе удобнее, — тихо сказала она и тоже стала есть.
Когда они отъехали от бензоколонки и встали на Керчь, Дуров опять повернулся к Алле:
— Так почему же все-таки, Алла, ты рассказываешь мне всю свою жизнь?
— А я всегда такая дура, — сказала она с досадой и отвернулась.
Пустая степь, унылые холмы лежали теперь по обе стороны шоссе.
— Потому рассказываю, что хочу тебе вопрос задать, — вдруг проговорила она с силой.
После этого возникла некоторая пауза, и Дуров попытался суммировать для себя поток информации, имея в виду предстоящий еще «вопрос».
В общем, Алла начала свою жизнь очень правильно и самостоятельно, и замуж вышла за хорошего человека, и работала в торговле, и заочно училась в техникуме. Хороший человек дал ей двух детей, двухкомнатную отличную квартиру со всеми удобствами, ковер, пылесос, стиралку, холодильник, телевизор, машина уже была на носу и отличные вообще перспективы, а потом его Алла взяла и турнула. А почему, сама не знаю — просто надоел. Значит, Николай уже появился? Нет, до Николая еще далеко. Тогда вот она начала пивом торговать, в связи с чем появились мужские знакомства. Нет, ты не подумай, что по рукам пошла. Всяких там шакалов Алла отметала автоматически, а знакомства были довольно содержательные, ведь пиво пьют многие, в том числе и интересные люди. В частности, хотя бы Славик. Он очень за ней страдал и сейчас еще страдает, готов немедленно оформить отношения. Он, Славик, моложе Аллы на два года, красивый штурман, мореходку окончил, по-английски спикает, у девочек ноги трясутся, когда он по улице идет, джинсы, очки фирменные, усики, но он предпочитает только Аллу с ее двумя детьми и шлет ей радиограммы со всех морей, а однажды прилетел из Владивостока на два дня. На два дня из Владивостока повидаться — ведь это же настоящая романтика! Столько денег за две ночи, да и то не очень-то удачные — так уж оказалось, — это можно оценить, правда? Она дала ему тогда полное согласие и стала ждать с рейса, а он тем временем из Владивостока пошел на юг и огибал Азию, приближаясь к заветной цели. Да что там говорить, это была настоящая романтика, любая дура бы оценила, но второй такой идиотки, как Алла, видно, еще не родилось, потому что как раз в этот отрезок времени и появился на автостанции проклятый Николай. Чем же он взял? Красивый, что ли? Как ты говоришь, Паша? Стихийная, говоришь, анархическая натура? Никакой у него вообще нет натуры, один перегар. Обезьяна старая, а не мужчина! Вот и ответь мне, пожалуйста, Паша, почему я всех своих денежных и солидных позабыла, на красавцев не хочу и смотреть, а за этой обезьяной вою от тоски, езжу повсюду, ищу алкаша и жизни себе не представляю без его опухшей будки?
— Это и есть твой вопрос? — спросил Дуров.
— Это и есть.
— Любовь, должно быть. Ты просто-напросто любишь твоего Николая. Так мне кажется.
— Вот это и ответ, — неопределенно покачала она головой. — Любовь, значит, зла, полюбишь и козла?
Она потускнела и стала курить одну сигарету за другой, и беседа пошла сбивчивая и на какие-то все неважные боковые темы: а что, мол, у вас в Москве, можно ли, к примеру, купить в столице элегантную вещь, ну, скажем, красивый парик? — и так далее. Дурову показалось, что он своим ответом как-то подорвал у Аллы доверие к себе. Это его развеселило. Он зло улыбался и думал, какие, оказывается, страсти-мордасти бушуют в пивных ларьках, и это, безусловно, говорит о возросших запросах, о том, что принцессы торговой сети уже перешагнули ступень первичного насыщения. В этом уже есть нечто дворянское, думал он. Это что-то вроде фигурного катания, так он думал. Порядком уже надоела эта чушь, зло улыбался он, не сознаваясь самому себе, что злится из-за того, что контакт между ним и попутчицей вдруг прервался.
Начались уже пыльные невразумительные окраины Керчи, и Дуров все крутил и крутил по ним на стрелку указателя «к парому», опять же не сознаваясь самому себе, что только из-за Аллы он и собирается прямо сейчас переплыть Керченский пролив, потому что ей нужно в Новороссийск, и уверяя себя, что он вовсе и не собирался сегодня шляться по развалинам и что ему самому как раз необходимо поскорее оказаться на кавказской земле. Так он и въехал в очередь машин, ожидавших парома из Тамани.
Алла попросила у него пару двушек для телефона и вышла из машины. Он почему-то подумал, что она впервые за все их путешествие вышла из машины и теперь он сможет рассмотреть повнимательнее ее фигуру. Однако он не стал смотреть ей вслед, потому что его посетило вдруг нечто совсем уж неожиданное — сильное желание. Это совсем разозлило его. «Да ты посмотри, посмотри на коровищу, — говорил он себе, — мигом излечишься». Однако он не смотрел, потому что знал — какая бы там ни была у нее «попа», он все равно будет ее желать, и все больше и больше. Что за вздор! Какая бессмыслица! Из свободного одинокого путника, который так блаженно сегодня брился в заповеднике, он стал сначала исповедником, а потом и просто шофером дикой бабы, а теперь, возжелав ее, он уже и совсем закабаляется. Мысль о неожиданной кабале просто взбесила Дурова. «Возьму сейчас развернусь и слиняю! А шмотки ее куда же? Все эти платки, шали, пальто, сумки, сапоги резиновые? Да что за дикость — просто хомут на себя надел!» Дуров, между прочим, всегда злился, когда жизнь предлагала ему повороты, не предугаданные искусством, абсурдные, дурацкие, будто бы отвергающие всю его артистическую природу, смысл его работы, весь его «жанр».
Алла Филипук вышла из-за угла и теперь приближалась. Походочка! Он отвернулся, развалился на сиденье, закрыл глаза. Открылась дверца, машина качнулась, уселась красавица.
— Нет, Паша, это не любовь, — торжественно заговорила она. — Любовь — это когда чувствуешь к человеку уважение, гордишься его успехами, живешь с ним одними интересами, общим делом…
— Это где ты прочла? — спросил он, не открывая глаза. — В газете? В «Черноморской здравнице»?
Алла Филипук внимательно посмотрела на незнакомого мужчину, которого несколько часов называла Пашей. Что-то новое появилось в его голосе. Глаза закрыты, рот презрительный, а на горле хрящик гуляет вверх-вниз. Вдруг она сильно обиделась на него:
— Напрасно вы так. Я понимаю, что вы имеете… Напрасно вы…
Сзади загудело сразу несколько машин. Погрузка на паром началась.
Моря они во время переезда через Керченский пролив не видели ни клочка: слева вплотную стоял рефрижератор, справа тягач, сзади и спереди автобусы. Чайки, правда, летали над паромом в большом количестве и суматохой своей как бы отражали сверкающее море.
— Ну что, дозвонилась ты кому звонила? — спросил Дуров. — Узнала про Николая?
Он очень боялся, что она поймет его состояние, и потому как-то грубовато форсировал голос и фальшивил.
— Дозвонилась. Узнала. — Алла, в свою очередь, боялась показать, что все прекрасно понимает, старалась отвечать безучастно, а получалось как-то напряженно, вроде бы с вызовом, едва ли не с кокетством. — Видели его в Керчи. Говорят, что какой-то чудак с земснаряда его с собой увез. Они где-то там, уже за Новороссийском, за цемзаводом у берега стоят. Воображаю, какая там собралась гопка!
За проливом снова началась плоская земля и ровная лента шоссе. Дуров старался ехать «активно», все время шел на обгоны: старался скоростью выбить наваждение, и, кажется, немного получалось. Алла же, сообразив, что опасность вроде бы миновала, и, конечно, несколько разочаровавшись, теперь томно раскисла в кресле и снова перешла на свойский тон и задавала Дурову какие-то пустые, мало ее интересующие вопросы:
— А ты, Паша, если не секрет, кто по профессии?
— Я фокусник.
— Да ну тебя! А серьезно?
— Артист.
— Да ну тебя! А точнее?
— Фокусник.
— Да ну тебя!
К Новороссийску они приблизились уже в сумерках, проехали через город, шоссе стало забирать выше, выше, внизу на поверхности бухты там и сям стояли огромные ярко освещенные танкеры, бухта и море были полны движения, блуждающих огней, закат догорал двумя широкими раскаленными шпалами, все настроение вечера было каким-то странно праздничным, будто перед балом.
— Вот здесь, Пашенька, милый, я тебя покину, — вдруг тихо сказала Алла Филипук.
Дуров диковато глянул на нее. Он только что собрался дизельный «МАЗ» обгонять и уже показывал левой мигалкой, но тут затормозил и пошел к обочине, мигая правой. Сзади, конечно, в него чуть не въехала какая-то железка, а в нее следующая и так далее, но, когда он остановился, вся куча железа с диким ревом пронеслась мимо так, что он даже и мата не услышал.
Алла возилась в темноте со своими тряпками, собирала сумки.
— Вот здесь, Пашенька, дорогой, ты наконец от меня избавишься… — приговаривала она.
Он зажег свет в машине и отвернулся, чтобы не видеть ее белой шеи и мягкой складочки под углом челюсти.
— А все-таки я думаю, что помогаю Николаю из-за чувства гуманизма! — вдруг громко и снова почти торжественно заявила она. — Хочу его поднять, протянуть ему руку помощи, чтобы и он стал полноправным членом общества, человеком, короче говоря. Что же ты, Павел, молчишь и отворачиваешься?
— Прости, Алла, но тошно слушать, — сказал Дуров. — Зачем ты мне-то баки забиваешь, случайному попутчику? Может быть, себя саму обмануть хочешь?
Она вдруг то ли всхлипнула, то ли носом шмыгнула, вылезла из машины, но не уходила и дверь не закрывала и вдруг нагнулась и влезла в машину всей своей круглой и сладкой — да, сладкой — физиономией.
— Да что уж там, скажу тебе, Паша. Конечно же ничего я до Кольки проклятого не чувствовала. Хоть и двух деток родила, а мужика не знала. Так лежит на тебе какая-то тяжесть, дышит, цапает… Ничего не чувствовала, глухая была к этому делу. Колька-паразит меня бабой сделал. Вот тебе, Паша, значит, вся и тайна… Вот и все…
Она быстро-быстро обвела глазами лицо Дурова, его плечи, руки… потом всю машину, будто искала что-то или запоминала… «Ну, — сказал себе Дуров, — втащи ее сейчас внутрь, нечего церемониться, ты сгоришь, если ее не втащишь, и до Сухуми не доедешь».
— До свидания, Паша, — сказала она. — Спасибо тебе. Заезжай пиво пить, ты знаешь где.
— До свидания, Алла. Обязательно заеду.
Он думал, глядя на нее: «Ну вот, эй ты, Дуров. Попробуй применить свой шарлатанский жанр, попробуй найти гармонии — эй, ты боишься? — попробуй вообразить, что будет дальше». Он резко взял с места.
…Она еще постояла у обочины в кустах, глядя, как быстро взлетают в темноту красные фонари машины. Потом они исчезли, значит, пошли вниз, к виражу. Исчезли из виду совсем.
Тогда она стала спускаться к морю. Верно, неверно ли шла — она не знала. Огромная зеленая глубина ждала ее внизу. Сквозь путаницу кустарника светилась глубь, глубизна, бездонная зелень. Голый высокий платан стоял на краю обрыва словно чья-то душа. Гравий осыпался под ногами.
Очень точно она вышла к сонному заливчику, в котором темными тушами покачивается плавотряд. Самая пребольшая штука с контурами непонятных механизмов — земснаряд. Рядом, как щучка, незагруженная шаланда «Баллада». С другого бока приткнулся хмурый боровок — портовый буксир «Алмаз». С буксира на землечерпалку, с нее на шаланду, а оттуда на берег перекинуты трапики.
Наверху рычало шоссе, а здесь была тишина. Слышно, как трапики скрипят под ногами. Темно на кораблях. Есть тут кто-нибудь живой? И вахтенных не видать. Все, конечно, косые, в койках, прохлаждаются.
Прямо на трапике Аллу осенила идея — переобуться. «Сапоги резиновые в сумку суну, а на ноги чешские платформы. Конечно, к Николаю хоть в лаптях, хоть в золотых туфельках — он все равно не заметит». Это она только для себя лично, для женского достоинства, лично для себя. От ее манипуляций трапик расшатался, и сапоги бухнули в воду. Один сразу ко дну пошел, а второй еще долго торжественно сопротивлялся. Она уже была на палубе земснаряда, а сапог еще торчал из воды, как труба броненосца. Эй, живые тут есть? Никто не откликался.
В глубинах земснаряда кое-где горело электричество, а откуда-то, прямо как из преисподней, доносились глухие голоса. Между тем Николай Соловейкин, худой как волк, совсем неподалеку, в ржавой подсобке, точил зубило. Точил ни Богу, ни народу не нужное зубило лишь только для того, чтобы выявить у себя сильные стороны натуры.
Алла Филипук заглянула в иллюминатор:
— Здравствуй, Соловейкин!
— Здравствуйте, Аллочка!
Она смотрела на ужасное лицо. Такое лицо, конечно, разрушает целиком всю личность человека.
— А я тебе, Соловейкин, бритву привезла!
— А на хрена мне, Алла, твоя бритва с переменным током?
— Это механическая бритва «Спутник». Заведешь, как будильник, и бреешься.
Он фуганул тогда зубило на железный пол, ящички какие-то шмальные начал шмонать, вроде что-то искал, а сам только нервы успокаивал. Нервы сразу, гады, взбесились, как появилась в иллюминаторе сладкая Алкина внешность. Сладкая тяга прошла по пояснице.
— Заходите, мадам, сюда-сюда… приют убого чухонца…
В подсобке заполыхало взволнованное женское тело.
— Вот, Коля, смотри, какая бритвочка аккуратненькая! Заводишь ее, как будильник…
— Ну, поставь его на полшестого…
— Да это ж, Коля, не будильник же… бритвочка…
— Поставь этот будильник на полшестого, говорю! Чтоб не проспать — мне к министру с докладом!
— Да Коля же! Да хоть окошко-то закрой! Свет-то, свет-то выруби, сумасшедший…
В конце недельных Коли Соловейкина приключений, после бесконечных восторгов, отлетов, улетов, мужских прений с рыготиной, махаловок, побегаловок, всякого разнообразия напитков, в конце всей этой свободы руки и ноги у него очень слабели, голова весьма слабела также, но в крестце появлялась исключительная тяга, совершенно удивительная бесконечная тяга. Выдающийся генератор. Даже так случалось иногда, что измученное тобой существо засыпает, а ты все еще в активе, хотя у головы твоей имеется тенденция взлететь к потолку, как дурацкий первомайский шарик. «Хочешь еще чего-нибудь? Может, еще чего-нибудь хочешь?» Какого большого достатка эта горячая, медленно остывающая гражданка. Уже два года Николай Соловейкин убегает от этой гражданки и все не перестает удивляться ее достатку. Большого достатка и тепла эта Алла Филипук, передовая женщина своего времени. Когда сидишь в ее раю, тебе свобода не мила, когда сидишь в ее раю, в достатке, южного тепла. Вот эта тяга у меня пошла от авиации, от привычки к реактивным двигателям, а не от другого. Вибрация тому виной, вибрация горячего металла. Есть одна у летчика мечта — высота….
Николай Соловейкин освободил спящую Аллу, встал и погрозил ей пальцем. Услуга за услугу — усекла, Алка? Одной рукой он взял механическую бритву, а другой потянул «молнию» на Алкиной сумке — быть может, среди всеобщего блаженства найдется и для него капля?
Одной рукой он брил себе правую щеку, другой пил горячительный напиток. Ситуация была клевая — обе руки при деле. Бездушный механизм освежал правую щеку сидящего на полу живого человека. Горячительный напиток охлаждал догоравшие внутренности. Рядом в волшебном достатке спала Филипук Алла Константиновна, будто герцогиня в пуховой спальне.
Соловейкин встал и перешагнул порог. Железная дверь осталась за его спиной качаться и отражать луну. Луна повсюду отражалась: и в тусклом крашеном железе, и в стеклах, и в море, и даже в голом нищенском животе пролетария Николая Соловейкина. Он прошел на корму, если можно так назвать хвостовую часть землеройного плавающего агрегата, и сел там, свесив ноги к скользкой поверхности воды. Экая вода, экое море, Понт, кидать-меня-за-пазуху, Евксинский. Это просто искусственный лед спортивного дворца. Господь Бог предоставил мыслящему человечеству свой спортивный дворец. На одну ночь. Потанцуй на нем свой стремительный танец и получишь шестерку и очко. Большая перед нами дорога, куда уплывали наши деды. Враки, что они никуда не уплывали, а только щи хреновые хлебали! Враки! Враки! Еще как они уплывали!
Метров через сто он оглянулся. Силуэт земснаряда на лунной воде показался ему настолько бессмысленным, что его чуть не стошнило.
Алла Филипук очнулась, обнаружив себя в одиночестве. Качалась, поскрипывая, тяжеленная дверь. Луна смотрела в подсобку на Аллины ноги. Не одеваясь, как была, Алла подошла к дверям и села на порожек, на так называемый камингз. Луна теперь смотрела на все ее тело, а тело ее, счастливое тело, смотрело на весь подлунный мир. Неправда, думала она, что существуют лишь плотские неприличные отношения. Есть еще в жизни высокие чувства, какая-то боль за человека и желание его согреть. Конечно, правы те товарищи, которые говорят, что в любви необходимо глубокое уважение. Вот так обстоит дело, если ты меня слышишь, далекий друг.
Николай Соловейкин плыл в весенней холодной воде все дальше и дальше, прямо в море. Холодна водичка, думал он, но привыкнуть можно. Холодна свободная стихия, но привыкнуть решительно можно. Можно привыкнуть. Вполне. Хорошего мало, но привыкнуть можно. В самом деле, привыкнуть можно. Можно все-таки привыкнуть, можно, можно, можно все-таки привыкнуть, привыкнуть можно, можно, можно, вполне можно привыкнуть, привыкнуть можно, можно вполне, конечно же, можно привыкнуть, можно привыкнуть, можно, можно привыкнуть, можно, можно привыкнуть, можно, можно, можно привыкнуть, можно, можно привыкнуть, можно привыкнуть, можно, можно привыкнуть, можно, можно привыкнуть, можно, можно привыкнуть, можно…
Сцена. Номер второй: «Савасана. Поза абсолютного покоя»
Павел Дуров импровизирует с путевкой общества «Знание» в кармане.
Начнем, как в классике, с маленькой драмы. Действующие лица Артист и Йог.
Артист. Превратиться в облако, в бессмысленный пар?
Йог. Очень рекомендую.
Артист. Но что же тогда с кипением, с творческим мускусным началом, с рычанием, с этими абордажами, с тяжелыми сундуками ретроспектив — растворится все, что ли?
Йог. Вот именно.
Артист. Нет, не отдам Прометеева огня, вечного источника любви, компрессии, вдохновения! Лучше пристрелю искусителя! (Стреляет.)
Йог. Ваши пули у меня под лопаткой.
Пауза.
Прозаик — завистливое животное. Даже в концентрационной системе драмы мнится ему недоступная его жанру красота, он завидует скобкам, и в глупой ремарке («стреляет») воображается ему вольная проза, что, постукивая по льду, идет, как взбунтовавшийся кавалерийский полк, размахивая значками и шапками, в ритме медленного буги. От ремарки же «пауза» просто холодеет пузо.
Артист плыл, раскинув руки, над малыми странами Европы. Гляньте, что за облако, шептались в Монте-Карло, форма, цвет и качество, будто кант из марли. Нежен лик безбрачия, вот учитесь, воры, умилялась публика чопорной Андорры. Он этому не внимал. Волны праны протекали через него. Он уже не ощущал себя облаком, поскольку не ощущает же себя облако.
Между тем внизу малые страны Европы разбросаны были, как цыганские сласти на драной скатерти континента: МонтеКарло, Сан-Марино, Лихтенштейн, Тьмутаракань, Шпицберген… Геноссе публикум, покупай, не клянчь! Одна страна, как бубликум, другая, как кала(н)ч!
Струя отдаленной иронии, именуемая еще праной, покачивала то, что прежде было Артистом. Так продолжалось бы вечно, увы… все эти лоскутные монархи, карликовые княжества, и опереточные республики выделяли застойную мольбу, переспелые надежды, и весь этот пар охлаждался на крылышках облаковидного Артиста и превращал его в тучу, которая в конце концов пролилась в Европу. Всей-то радости всего-то было — зрелище мокрой зеленой земли, минутное превращение геополитики в простой ландшафт, но все-таки…
Йог. Вставайте. Теперь вы уже не облако.
Артист. Кто же? Если не облако, то кто же я?
Йог молчит.
Аплодисменты. Наконец-то! Аплодисменты? Свист. Крик: «Сапожники!» Выходит, пленка порвалась? Выходит, «кина не будет»?
Путевка не подписана.
Вне сезона
— Ну, скажи, а как ты половинные триоли играешь?
— Как? Вот так… та-да-да-ди-ди… Понял?
— А на три четверти?
— Та-да-да-ди-ди-да-да… Понял?
Такого рода разговоры вот уже полчаса досаждали нам, хотя и не видно было, что за музыканты беседуют. Мы сидели в так называемой климатической кабинке на пляже в Сочи. Был конец февраля. Солнце гуляло веселое, море, как говорится, смеялось, и в климатической кабинке, которая закрывала нас от ветра с трех сторон, казалось, что вокруг июль. Холщовые стенки, однако, нисколько не предохраняли от звуков, и поэтому нам уже полчаса досаждали лабухи. Они подошли откуда-то сзади и расположились вплотную к нашей кабинке, чуть на голову нам не сели. В том, что это именно лабухи, трудно было усомниться. Они громко, на весь пляж, разговаривали о своих триолях и половинных нотах, о каких-то росконцертовских интригах, и в эти основные их темы иной раз сквознячками залетали обрывистые фразы о девчонках, о фирменных вещичках, о каком-то Адике, который все никак не может со своим арбузом расстаться, не двигается, лежа кайф ловит, жрет мучное, арбуз отрастил пуда на два, так что даже перкаши трясти ему трудно…
Когда-то, лет пятнадцать назад, я водил дружбу с этим народом и по молодости лет восхищался их сленгом и манерой жить. Конечно, и музыкой их я восхищался, можно сказать, просто жил в музыке тех лет, но времена джазового штурма прошли, исчез из жизни герой моей молодости, я потерял своих музыкантов и вот теперь удивлялся живучести того давнего сленга. Оказывается, они до сих пор говорят «чувак», «лабать», «кочумай» и так далее. Голоса были громкие, уверенные, очень московские. Без сомнения, московская шайка расположилась рядом с нами.
Между тем мне совсем ни к черту не нужны были ни сами эти шумные соседи, ни наблюдение над ними, ни воспоминания об их предтечах. Со мной рядом в климатической кабинке загорала милая женщина Екатерина, и мне больше всего хотелось быть с ней наедине и продолжать тихую юмористическую беседу, легкий такой разговор, вроде бы ни к чему не обязывающий, но на самом деле похожий на ненавязчивую взаимную рекогносцировку, выяснение интересов, вкусов, симпатий.
Мы познакомились вчера в подогреваемом бассейне, случайно, слово за слово зацепились, и вдруг выяснилось, что даже знаем немного друг друга, что где-то в Москве «пересекались». Екатерина была здесь одна, жила в санатории и лечила на Мацесте какую-то свою «старинную болячку», как она выразилась.
— Вот ведь черти какие! Слышите, Екатерина?
Рядом галька гремела, пересыпалась под ногами лабухов. Они там развозились, взялись вроде с понтом играть в футбол, дразнить Адика с его арбузом. Адик этот, оказалось, присутствует. Кто-то из них не удержал равновесия, схватился за нашу климатическую кабинку, и она покачнулась.
— Что за публика бесцеремонная! — возмутился я. — Ох и типы!