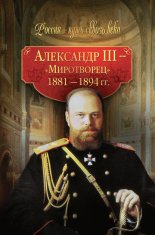В поисках жанра Аксенов Василий

Что-то должно присутствовать в этом ликовании паршивое. Для устойчивости полная радость должна быть все-таки неполной, должна хоть с краешку замутняться хоть крошечной дрянью. Он стал искать свое дрянцо и конечно же быстро нашел.
Во-первых, несколько жестких волос за воротником оставило все-таки это мимолетное подозрение, дурацкий словесный портрет с бакенбардами, предъявление документов, полусмешная, но все-таки настоящая идентификация личности. Пусть ерундовая, но все-таки паршивинка, и она все-таки утяжеляет, а значит, и укрепляет чудеснейшую радугу, волшебно зовущую в свои ворота сорокалетнего человека.
Во-вторых… что-то тут есть и во-вторых… да, конечно же, вот свернулась трубочкой на мокром из-под милиционера сиденье паршивенькая эта почетная грамота, удостоверение халтурщика. Да-да, эта штучка отличным кажется противовесом для послегрозового ликования, и ликование еще подержится в пространстве, не соскользнет прежде времени в мутную маету.
Так он решил и вроде бы успокоился, но чем дальше ехал, тем чаще смотрел на паршивенькую трубочку и убедился наконец, что произошло незапланированное: трубочка перетянула. Ликование и моцартовские скрипки отправились в космические высоты, а сам он опустился в бухгалтерию стадиона, где получал пять колов за постановку спортивного праздника «День, звени!». Пять колов, или полкосой, то есть пять сотен дубов, короче говоря, пятьсот рублей.
Эту синекуру схлопотал ему старый приятель Т., один из тех пятнадцати, которых Дуров «считал», не выделяя и самого себя из этого количества. Вдруг при случайной встрече, когда Дуров стал жаловаться на безденежье, оказалось, что есть возможность поохотиться, что старый кореш, блистательный Т., давно уже не чурается охоты на синих курочек по зеленым вольерам стадионов. «Три дня поорешь в матюкалку, раскидаешь гимнастов налево, акробаток направо и получаешь пять колов. Только, пожалуйста, выключайся, Пашуля. Только жанра не трогай».
Блистательный Т. был жанристом экстра-класса и в те времена, когда публика нуждалась в колдовстве, и в те времена, когда зарастали народные тропы. Он сам себя уверял и Дурову сказал, что стадионные упражнения нисколько не влияют на его потенцию. Напротив, говорил он, постоянный и вполне основательный доход освобождает меня. Конечно, времени для размышлений меньше, но если уж мысли приходят, то не замутняются такой чепухой, как долги, концы с концами, паутина в холодильнике. Никому своего метода жить не навязываю, но рекомендую попробовать.
Дуров попробовал, и действительно все получилось непринужденно, необременительно и даже непротивно. Пятьсот рублей оказались у него в кармане, да и праздник, между прочим, удался, все были довольны: и публика, и спортсмены, и начальство, да и Дурову самому это понравилось, хотя он и сказал себе на прощанье с праздником: первый и последний раз.
Отчего же последний раз? Ведь вроде все прошло совсем безболезненно, и не потрачено было ни грамма священного титана, никаких вообще «расщепляющихся» материалов. И все-таки первый и последний — так без всякого надрыва, с улыбкой подумал Дуров и забыл про «День, звени!», но вот сейчас паршивенькая трубочка почетной грамоты, которую и сунули-то ему без всякой торжественности, второпях в той же бухгалтерии, вдруг стала перевешивать все огромное окружающее ликование. Она лежала на мокром сиденье уже основательно помятая, с загнутыми краешками, что-то вроде… ну, конечно же, не напоминание о грехе, это будет слишком уж сильно, но и не индульгенция, что очевидно. Короче говоря, Дуров ехал теперь под сверкающими промытыми небесами в прочном и надежном плохом настроении.
На границе республики он подъехал к автозаправочной станции. Здесь было две колонки бензина АИ-93. У одной заправлялась черная «Волга», к другой подрулил Дуров. Вслед за ним на станцию въехала суматошная бабенка на сиреневых «Жигулях» и сама в сиреневом мини.
— Мужчина, вы мне очередь не уступите? Так спешу!
Дуров посмотрел на нее. Здоровенная, на голове начесана башня из обесцвеченных волос. Стало быть, южнорусский этикет в виде обращения «мужчина» уже проникает и в здешние срединные края, и, значит, он вправе назвать ее женщиной.
— Женщина, мне быстрее будет заправиться, чем вам место уступить.
Дуров налил себе уже бензину, как говорится, под завязочку, когда водительница вновь обратилась к нему:
— Молодой человек, не поможете? Пробка не отворачивается.
Теперь в связи с тугой пробкой он был повышен в чине, из «мужчины» превратился в «молодого человека». Нужно ответить взаимностью.
— Все в порядке, девушка. Пожалуйста! — сказал он, отвинтив пробку.
Оценила! Аппетитно хихикнув, помахивая сумочкой, направилась к операторше платить за бензин, но обернулась пару раз — дескать, не будет ли вопросов?
Вопросов не было. Дуров стал отъезжать от колонки и тут заметил, что обе дамы на него смотрят — и операторша, и сиреневая жигулистка. Операторша высунулась из своего окошечка, смотрела пристально и хмуро, заглядывала себе в ладошку и снова смотрела на Дурова, как бы сличала. Она что-то тихо и быстро говорила своей сиреневой клиентке, и у той стремительно менялось выражение лица — от безмятежности к панике.
Что это с бабами происходит? Женщины все чаще ведут себя странно. Даже самые заурядные тетки иной раз позволяют себе странные выходки. Последнее, что Дуров успел заметить, — телефонную трубку в руке операторши.
Он выехал на шоссе и через десять минут оказался в другой республике. Поездки по малым странам и республикам всегда его восхищали. Проскочить за сутки несколько стран — это ли не соблазн? Затемно выехать, скажем, из Бухареста, весь день покачиваться на холмах Трансильвании, к вечеру миновать венгерскую границу, стремительно под молодой луной пересечь плоскость Северо-Восточной Венгрии, проскочить Мишкольц, въехать в спящую Чехословакию и по брюшку этой продолговатой страны пробраться к ее хребту, к Высоким Татрам, чтобы оттуда в присутствии все той же молодой луны скатиться в Польшу… Каков соблазн — за сутки пересечь четыре древних европейских истории! Быть может, у жителя малой страны так же силен соблазн внедрения в бесконечность России, Бразилии или Канады и возможность сутки за сутками мотать на спидометр их непомерные пространства.
Однако какого черта эта операторша так на меня смотрела?
После крутого подъема взору открылась обширная влажная чисто-зеленая восточноевропейская местность с двумя-тремя городками в долине, с развалинами замка на низком холме, с двуглавым костелом на горизонте.
Дурова вдруг осенило: она сличала меня со словесным портретом!
Закрытый поворот и спуск. Тормозить двигателем! Слева под каштановым шатром старое католическое кладбище с полуразвалившимися ангелами скорби, спереди тихая темная река с остатками висячего моста. Поток встречных, ревущих на подъеме дизелей, увы, разрушает и романтику распада.
Да она же заподозрила во мне фальшивомонетчика!
Правая нога Дурова непроизвольно поджала педаль акселератора, как будто ему нужно убегать от подозрений. Скорость увеличилась почти до сотни, потом еще выше. Несколько мужиков, бредущих по обочине с лопатами и пневмомолотками на плечах, проводили стремительно несущийся «Фиат» удивленными взглядами. Должно быть, здесь так быстро не ездят. Я не заметил в панике ограничительного знака. В какой там еще панике? Отчего мне паниковать? Что я — действительно фальшивомонетчик, что ли? Совсем я не паниковал, а просто не заметил ограничительного знака. Не заметил и увеличил скорость. Вот мужики дорожные и посмотрели поэтому с удивлением. Конечно, подозрение значительно увеличилось вместе со скоростью. Операторша телефонила, должно быть, предупреждала вперед по линии о подозрительном автомобиле. Теперь, если кто-нибудь спросит этих работяг, они сразу же припомнят — точно, подрывал тут один подозрительный на синеньком фургоне. Номер, конечно, кто-нибудь заметил — или операторша сама, или эти дорожники…
Дуров принужденно рассмеялся. Вздор какой-то! Я, кажется, начинаю и впрямь чувствовать себя в роли фальшивомонетчика. В самом деле — что за вздор? Ведь никогда в жизни я не изготовлял и не сбывал ненастоящих денег. Я абсолютно чист, и документы у меня в полном порядке. У меня никогда не было даже похожих идей. Даже в мальчишеские годы, когда черт знает что фантазируешь, я не помышлял себя фальшивомонетчиком. Да и вообще — вот удивительное открытие — я никогда не преступал закона! Какое приятное, в самом деле, открытие в условиях всесоюзного розыска! Конечно, и у того, кого ищут, у этого дурацкого фальшивомонетчика, должно быть, документы в порядке, но у него нет такого внутреннего спокойствия, как у меня. Он прохвост, а я честный человек. Я чист перед законом, я обыкновенный законопослушный человек, хотя и профессия у меня странноватая. Профессия, однако, вполне допустимая в рамках современной цивилизации и даже понятная любому человеку, если хорошенько объяснить. Во всяком случае, моя профессия совсем не повод для тревоги в зоне розысков преступника.
Так Дуров думал, успокаиваясь и слегка посмеиваясь над собой, и ехал уже спокойно, держась правил, фиксируя все знаки, и только лишь в населенных пунктах да перед постами ГАИ он непроизвольно как-то сжимался, концентрировался, как бы стараясь всеми силами произвести впечатление нефальшивомонетчика.
Видимо, это получалось у него хорошо, и он без всяких помех пересек уголок очередной малой республики и въехал в следующую, огромную. Он приближался к крупному городу и спокойно уже мечтал об обеде, когда вдруг его прожгла отвратительная мысль: пятидесятирублевки! Боже, в кармане у него, в наружном кармане куртки лежало десять новеньких, как будто только вчера отпечатанных полусотенных бумаг! Да, вот именно, пятидесятирублевками заплатили ему в кассе стадиона. Он еще на миг восхитился тогда — какие новенькие и довольно большие бумажки! Восхитился, сунул их в карман и забыл. «Нет, непросто, непросто все это задумано в природе! Новенькие полусотенные в кармане, а вокруг ищут фальшивомонетчика с полусотенными… Не исключен хитроумный заговор природы против меня… Кажется, других-то денег просто никаких у меня нет, кажется, последние мятые рубли и монеты выложил на бензостанции…»
Дуров хотел остановиться, чтобы проверить карманы и все сусеки автомобиля, но тут новый подвох — знак «остановка запрещена», а зона действия три тысячи метров.
Так под этим знаком Дуров и въехал в городскую черту, в сутолоку движения, на незнакомые улицы, где тоже почему-то долго не мог остановиться — то свет вдруг загорался зеленый, то фильтрующая стрелка возникала и сзади начинали гудеть, то вдруг появлялись милиция, ГАИ, дружинники, которые все почему-то смотрели на него.
Так он докатил до самого центра города, до памятника какомуто кавалеристу, который когда-то, в незапамятные времена, этот город прославил. Памятник стоял в середине бульвара, на обоих берегах которого кишела довольно бойкая торговая жизнь. Далее, за бульваром, открывалось большое торжественное пространство площади, а на ней другие памятники, трибуналы и неизбежный для городов такого масштаба «вечный огонь».
Дуров приткнул машину на торговом берегу бульвара и сразу же увидел тетку с пирожками. Расхваливать свой товар ей не приходилось: основательная очередь горожан ожидала блага из небольшого голубого ящика. Даже еще не видя пирожков, Дуров глотнул слюну, почувствовал едва ли не голодную спазму. «Вот все-таки как проголодался, вот ведь все-таки как проголодался, — весело забормотал он себе под нос, вылезая из машины, становясь в очередь, небрежно (совсем без всякой тревоги!) перекладывая из одного кармана в другой пачечку полусотенных, честно заработанных и полученных из государственного источника, и находя вот таким мимоходом в одном из глубоких кулуаров завалященький, свернувшийся, как дождевой червячок, рубль, — вот в самом деле как проголодался!»
Пирожки кончились человек за семь до Дурова. Горожане тут же молча разошлись, а Дуров не нашел ничего лучше, как спросить тетку:
— Где тут у вас можно поесть?
— Вы что?
Тетка считала выручку и на вопрошающего не посмотрела.
— Жрать хочу до смерти, — сказал Дуров.
Она подняла глаза:
— Ты что?
— Я интересуюсь… столовая какая-нибудь… закусочная… кафетерий?
— Да ты в своем уме?
— Не волнуйтесь, пожалуйста, не обижайтесь, любезная пирожница, но если уж у вас не завалялось для меня полдюжины пирожков, то я должен открыть вам свой маленький секрет — я немного не в своем уме, чуть-чуть того, слегка неспокоен от голода. Столовую ищу. Где?
Последнее слово он произнес очень громко и весьма близко к уху реципиента, то есть тетки с пирожками. Он полагал, что сейчас возникнет какой-нибудь скандал, он вызывал на себя этот опасный скандал, чреватый даже возможным разоблачением (разоблачение!), но не было сил терпеть мрачное и грубое величие продавщицы пирожков. Странное дело, годы шли, а Дуров все больше страдал от хамства. Казалось бы, привыкнуть уже вполне можно, но он не привыкал, ущемлялся, бесился.
Скандала, однако, после оглушительного вопроса не последовало. Тетка вдруг улыбнулась:
— А ты, парень, я вижу, и в самом деле кушать хочешь. Может, ты забыл, какой сегодня день недели?
— Да пятница, кажется, — пробормотал Дуров.
— Именно, значит, пятница, — торжественно сказала пирожница. — Кто ж тебя по пятницам в столовую пустит, если не приглашенный?
— Простите, не понял, но рад уже, что вы сменили хмурое и столь неподобающее вашему ремеслу величие на…
Дуров не успел закончить велеречивой фразы, одной из тех, что он обычно пускал в ход для того, чтобы выделиться из тусклой массы тех, «которых много», перед избранницами судьбы — продавщицами, официантками, билетершами. Запели фанфары. Над городом распространились серебряные звуки. В просвете бульвара, в торжественном асфальтовом половодье главной площади появился медлительный клин мотоциклистов в белых шлемах и белых крагах. За ним катил открытый «ЗИС-110» и в нем пучок фанфаристов, поворачивавшихся разом то туда, то сюда и оглашавших городские окрестности звуками радости и скромного величия. Засим покатили «Чайки» и «Волги» с укрепленными на крышах металлическими пересекающимися окружностями. Вся эта процессия огибала систему памятников. У Дурова произошел прилив крови к голове — в последнее время такое с ним случилось перед лицом загадочных, безнадежно непонятных явлений. И не столь поразили его маленькие розовые детские фигурки, привязанные, словно жертвоприношения, к хромированным пастям автомобилей, сколь скрещенные металлические окружности на крышах автомобилей, что просто изумило его. Показалось даже — уж не радары ли, уж не по его ли, дуровскую, душу? И вдруг осенило! Как будто с ближайшего облачка пропели фанфары в самое ухо — обручальные кольца!
Да ведь свадьба же! Все сразу стало ясно, чудесно, немного смешно и мило: конец недели, апофеоз, звенящая серебром ассамблея Дворца бракосочетаний, все городские столовые арендованы под тур свадеб — таковы традиции этого города и, конечно, удивительно, что проезжий фальшивомонетчик этого не знает.
Известно, что голод вдохновляет, и Павел Дуров вдруг почувствовал молодое вдохновение. Он зашагал бодро вслед за свадебными звуками и на углу упруго остановился, подхваченный порывом ветра, с удовольствием ощущая, как полетели у него под ветром волосы. Пирожница удивленно смотрела ему вслед. Она давно уже привыкла не замечать людей, алчущих пирога, то есть большую часть человечества, но вид персоны, охваченной мгновенным вихрем голодного вдохновения, несказанно поразил ее и приковал внимание. «Ишь ты», — так думала она, глядя вслед Дурову.
— Чудесных благ тебе, милейшая пирожница! — донеслось с угла, где стоял малопонятный человек.
Ахнула — догадалась!
Дуров видел, как метнулась тетка к двум парням с красными повязками, как выбросила она обе руки в его направлении.
— …и не по-нашему говорит! — донеслось до Дурова, и он тогда спокойно и легко, пружиня на ветру, начал пересекать бульвар, иногда оглядываясь на дружинников, устремившихся в погоню.
Любопытная получалась картина, странная диспропорция движений. Дуров медленно пересекал бульвар, а дружинники бежали за ним словно спринтеры, но достать не могли. Чудесная, забавная ситуация — ты идешь не торопясь, руки в карманах, а тебя преследуют, несутся, обливаются потом, догнать же не могут. Мило. Эксперимент не из легких, но в то же время ничего чрезвычайного — в жизни так случается.
— Да подожди ты, старик, давай поговорим! — взмолились дружинники. — Хочешь — по-русски, хочешь — по-английски.
— Почему же по-английски? — удивился Дуров.
— Да мы из «Интуриста», умеем по-разному. Дай догнать себя, старичок! Остановись!
Дуров остановился. Дружинники приблизились, но все-таки не смогли его взять. Он стоял, а они бежали рядом, уже задыхаясь и хватаясь за бока, но взять его не могли. Два здоровенных парня в плоских кепках, синих шляпах, резиновых купальных шапочках, один кучерявый, другой с большими залысинами, по виду тяжеловесы дзюдо, но уже потерявшие форму из-за усиленного питания.
— Да что же это такое?! — почти с отчаянием восклицали они. — Почему мы тебя взять не можем?
— Потому что я не фальшивомонетчик, — просто ответил Дуров.
— Уверен?! — крикнули они. — А со словесным портретом совпадаешь!
— Не более, чем вы, — сказал Дуров. — Не более, чем каждый из вас.
— Ладно, парень, иди куда хочешь. Иди-иди! Только не стой на месте, а то люди смотрят и глазам не верят. Двигайтесь, гражданин, не обижайте дружину!
— Я на свадьбу иду, — сказал Дуров. — Очень хочется пообедать.
— Законно, — кивнули дружинники. — Иди в «Лукоморье». Мы там тебя возьмем. Там свадьба сегодня швейного комбината. Там ты пообедаешь, а после потолкуем. Лады?
Дуров кивнул и направился к вечернему кафе «Лукоморье», где уже вовсю, без всяких там увертюр гуляла свадьба швейников. Никто, конечно, не намерен был туда его пускать, но тем не менее он прошел — то ли охрана в дверях уловила знаки двух преследующих его дружинников, то ли вновь подействовало неожиданно слетевшее к нему вдохновение. Так или иначе, но он оказался внутри и даже нашелся для него стул за огромным П-образным столом, нашлись и стул и салфетка, тарелка и рюмка, жидкость ркацители и блюдо отварного языка с хреном.
Он скромно, но напористо ел, и в унисон подключался к тостам, и вместе со всеми присутствующими славил невесту-многостаночницу Лилю, и жениха — слесаря-наладчика Олега, и родителей, и руководство комбината, и товарищей, и шефов — артистов местного театра оперетты, из которых один, а точнее, одна, амплуа Сильвы Вареску, смотрела на него через три секции стола большими романтическими глазами.
Между тем дружинники, два дзюдоиста, которым места почему-то не нашлось, циркулировали от дверей к перекладине стола и тихо предупреждали руководство свадьбы о возможности изъятия опасного незнакомца.
Вскоре вся свадьба была, что называется, в курсе, все теперь смотрели на Дурова, по рукам осторожно гулял «словесный портрет». Последней была просвещена романтическая Сильва. Она ахнула круглым ротиком и тут же подняла подбородок, показывая этим жестом, что если ее поняли, то поняли неверно, что незнакомец отнюдь не «герой ее романа». Тяжело проползло по скатертям старинное суеверие: дурная примета — фальшивомонетчик на свадьбе…
— Да я, друзья мои, вовсе не фальшивомонетчик, — сказал тогда громко Дуров. — Прошу вас, веселитесь спокойно!
Свадьба, иными словами, коллектив человек триста, молча смотрела на него. Дзюдоисты снова подходили. Один из них нес Дурову целиком зажаренного индюка, второй, приближаясь, делал успокаивающие жесты, — дескать, ешь, не волнуйся, насыщайся без всякой паники. Быть может, инстинктивно оба охотника чувствовали, что насытившийся, отяжелевший Дуров станет для них легкой добычей. Смешно. Наивным ребятам было не понять, что Дуров в этот вечер был практически неуязвим. «Должно быть, они еще ни разу не сталкивались с людьми нашего жанра, — печально думал Дуров, глядя, как на глазах у всей почтеннейшей публики жареный индюк начинает прорастать удивительными цветами и превращаться в красивую, но несъедобную клумбу. — Они еще не сталкивались с нами. Они не знают, что если на нас „находит“, то долго не пропадает. Жалко ребят, но им не объяснишь, как тщетны их потуги… Печально другое, — продолжал думать артист старинного жанра, обводя глазами весь зал и напряженные лица людей, которым он испортил свадьбу. — Печально то, что с каждым новым моим трюком, с каждым очередным фонтанчиком жанра эти люди все меньше будут верить мне. Главным чудом было бы убедить их в том, что я честный человек, что я полностью, на все сто процентов не фальшивомонетчик, но до таких чудес я еще не дорос, да, может быть, и никто не дорос из нашего цеха. Дорастем ли когда-нибудь? Быть может, мы шли когда-то по верной тропе, когда лунные цветы „хаси“ дрожали на наших одеждах, но потом потеряли дорогу, рассеялись и пропали во мраке».
— Друзья мои, поверьте… я знаю, как это трудно, но попробуйте поверить, что я не фальшивомонетчик… — заплетающимся языком заговорил Дуров. — Взгляните на словесный портрет… Ведь я похож на него только числом парных и непарных органов… Я знаю, конечно, что бакенбарды не примета, но, поверьте, я никогда не носил таких больших и пушистых…
— При чем здесь бакенбарды? — послышался резкий голос. Он шел из самой сердцевины свадьбы и принадлежал невесте. — Что вы там бормочете, товарищ? Ешьте спокойно, все вам верят. Правильно, Олег?
Говорят, что супруги становятся похожи друг на друга после долгой общей жизни. Два лица в глубине свадьбы были неотличимы уже сейчас — узкие молодые лица с прохладными серыми глазами. Среди сотен лиц, повернутых к Дурову, теперь он видел лишь эти два, особенно сильно освещенных чем-то.
— Порядок, — сказал жених. — Мы верим, что вы не фальшивомонетчик. Добро пожаловать. Здесь все вам верят.
Две одинаковые белозубые улыбки вспыхнули в глубине. Ошеломленный Дуров не нашел ничего лучше, как вынуть из кармана и развернуть веером десять новеньких полусотенных бумаг.
— Внимание! — гулко сказал в микрофон председатель свадьбы.
— Вот единственная веская улика против меня, — сказал Дуров. — Десять новеньких полусотенных банкнотов. У фальшивомонетчика точно такие же, но я прошу вас верить мне, что эти настоящие и получены мной честно.
— Кто же вам не верит? — сказали многостаночница Лиля и слесарь-наладчик Олег. — Все верят.
— Конечно, конечно, — заговорила вокруг Дурова вся свадьба. — Сразу видно, что бумаги настоящие! Настоящие великолепные деньги! И товарищ этот вполне честный, это же видно было сразу, что товарищ, который кушал отварной язык, именно с незапятнанной репутацией.
Дуров покачивался, вытирая рукавом лицо, потрясенный свершившимся чудом. Триста пар глаз смотрели на него, излучая дивный фантастический свет ни на чем не основанного доверия. Дзюдоисты-дружинники издалека приветствовали его руками, сцепленными над головой. Сильва протягивала ему бокал шампанского.
— К вам претензия, товарищ нефальшивомонетчик, — гулко сказал председатель. — По вашей вине свадьба буксует. В принципе еще никто не захмелился.
Чудеснейший смех, восхитительный добрый хохот поразил видавшего виды незадачливого колдуна. Он поднял руку выше и позволил своим честным деньгам утиным клинышком перелететь через зал и лечь на скатерть перед молодоженами.
— Извините, это мой свадебный подарок, — сказал Дуров. — Извините, я глубоко потрясен и должен побыть в одиночестве. Я поздравляю молодых и весь комбинат и удаляюсь в сокровенную тишину нашей земной ночи.
С этими словам он вышел из-за стола, прошел через зал, пожал руки дзюдоистам, толкнул стеклянную дверь «Лукоморья» и исчез.
— Что будете с подарком делать, ребята? — спросил председатель свадьбы.
— Холодильник купим, — тут же сказал Олег. — Финский.
— А может быть, и цветной телевизор, — высказалась Лиля. — Если, конечно, местком немного добавит.
— В чем не сомневаюсь, — сказал председатель в микрофон.
— Между прочим, когда этот товарищ вошел, — задумчиво проговорил мастер цеха раскройных машин Гурьяныч, — как только он вошел, я сразу подумал, что честный человек, не фальшивомонетчик, но потом, к сожалению, подозрения усилились.
— А я вот наоборот, — призналась бухгалтер Сонникова. — Я сразу подумала, что гад, что фальшивые деньги печатает, а вот как Лилечка сказала, так я и раскаялась — хорошего человека не разглядела. Спасибо тебе, Лилечка. Спасибо и вам, Олег.
— Спасибо, спасибо, — доносилось со всех сторон.
— Шампанское в бокалах! — гулко объявил председатель.
Все встали и выпили, и каждому этот бокал показался особенным: теплое переслащенное пойло преподнесло всем присутствующим облачко знобящего и сверхвысокого восторга. Потом свадьба вошла в свою колею и покатилась установленным порядком с тостами, танцами и даже легкими безобразиями, которые, впрочем, легко пресекались представителями народной дружины.
Дуров тем временем на малой скорости пересекал ночную индустриально-аграрную равнину. Три лесные полосы одна гуще другой угадывались в темноте. Они уходили волнами, большими темными накатами к горизонту, желая, видимо, слиться с ним в этой безлунной ночи, но не сливались, ибо за горизонтом присутствовал химический завод, который отчетливо выделял лесные профили своим розоватым с желтизной сиянием. С другой стороны шоссе было темнее, но и там на разных глубинах светились полоски окон модернизированных инкубаторов. В небе под северным ветром летели нервически растрепанные белесые тучки, за ними величаво или, говоря нынешним языком, стабильно стоял небесный свод с его звездной перфорацией, сквозь которую уверенно в различных направлениях пробирались метеоспутники. Благоговейно Дуров внимал всем звукам ночи. Обычную эту нелепую ночь своего века вбирал он сейчас в себя с благоговением. Все стекла в машине были опущены для беспрепятственного проникновения ночи. Дуров старался запомнить, вобрать в себя все блики и запахи ночи — запахи мокрой листвы и полихромдифенилметатоксина, вековечной болотной гнили и мазута. Как неожиданно пришла эта ночь свершившегося чуда! Ни грома, ни молний, ни световых, ни звуковых эффектов не понадобилось. Чего же стоили эти долгие годы работы, те «блистательные достижения», которыми восхищались немногие сохранившиеся знатоки? Чудо массового доверия, раскрытая единая душа трехсотголовой свадьбы… чудо пришло ко мне будто со стороны… и неужели я поймал пропавший жанр?.. поверят ли друзья?.. смогу ли сохранить летучую искру?
Слева недалеко от шоссе открылись обрывы, похожие на белые утесы Дувра, — известковый карьер. Там работала ночная смена, освещенный, будто корабль, огромный экскаватор и несколько сверхмощных «БелАЗов». За карьером сразу подступал к шоссе лес, рассеченный просекой высоковольтной передачи. Конструкции мачт одна за другой уходили в темноту, словно череда триумфальных арок, воздвигнутых для неведомых еще торжеств. У подножия одной из опор трепетал маленький костерок, и рядом угадывалась человеческая фигурка. Дуров понял, что ему нужно туда. Он понял вдруг, что именно для этой встречи сорвался он из блаженного «Лукоморья», со свадьбы швейников, где только что произошло одно из долгожданных чудес жанра.
Он хотел было оставить машину на обочине, но увидел в свете фар вполне подходящий спуск и осторожно стал съезжать в высоковольтную просеку. Человек, сидящий у костра, кажется, заметил огни приближающейся машины, но навстречу не встал. Дуров проехал немного по твердому грунту до кустарника, возле которого обнаружил спящий фургон-«Фиат», почти такой же, как и его собственный, быть может, несколько иной окраски. Он оставил свою машину и дальше пошел пешком.
Человек у костра смотрел на подходящего Дурова, но не прерывал своего дела. Он брился. Медленно длинным тоненьким лезвием старомодной бритвы он не без удовольствия снимал со своего лица пушистые бакенбарды. Костер освещал его лицо и как бы вздувал его. Лица, освещенные снизу красным огнем костра, всегда кажутся вроде бы вздутыми, слегка преувеличенными. Все будто вздуто — щеки, нос, надбровные дуги. Тем не менее Дуров немедленно узнал Сашу, одного из их бродячего цеха.
Когда-то, лет десять, а то и двенадцать назад, они дружили, были почти неразлучны, своего рода тандем, Саша и Паша, Сапаша, как иной раз называли их девушки и приближенные. Так было в зените успеха, когда весь жанр вдруг ожил и древние традиции грубоватого площадного колдовства вдруг поразили мир словно какое-то откровение, будто послание инопланетян. Быть может, и следовало держаться традиций, смирить гордыню, не искать сомнительных секретов, не стремиться улучшить жанр, не рисковать — быть может, не потеряли бы. Они не смирили гордыню и терпели крах за крахом, рассеивались и пропадали в безвестности. Где был ты, Саша, эти десять лет? А где ты, Паша, пропадал эти двенадцать?
Дуров сел к костру и прикурил от уголька.
— Привет, Пашка, — сказал друг.
— Привет, Сашка, — сказал друг.
Рядом с костром, словно третий собеседник, сидел, или лежал, или стоял туго набитый кожаный мешок с веревочными завязками. Дуров потянул веревку и запустил в мешок руку.
— Зачем тебе это надо было, Сашка? — не удержался он от укора. — Боже мой, глупость какая!
Он вытащил из мешка пригоршню пятидесятирублевок и швырнул их в костер. Деньги затрещали, словно оладьи на сковородке, и тут же исчезли.
— Я отчаялся, — ровно, без эмоций сказал Саша.
— Как глупо, Сашка, как обидно… ты помнишь тот карнавал на Ай-Петри, что мы устроили вдвоем?.. И теперь фальшивые деньги… словесный портрет:.. бакенбарды… какая ерунда… — Дуров страдал от горечи, явственной, как изжога.
— А ты разве не отчаялся, Пашка? — с каким-то подобием светского прохладного любопытства осведомился Саша. Он сбрил уже один бакенбард, но второй, пушистый и пронизанный красным светом костра, сидел на его щеке словно шлепок сахарной ваты.
— Представь себе — нет! — запальчиво воскликнул Дуров. — Тысячу раз был близок к отчаянию и тысячу раз выплывал! А сегодня, Сашка, мне показалось, знаешь ли, мне показалось…
И он стал рассказывать старому другу весь этот рассказ сначала.
…Свадьба швейников в кафе «Лукоморье» между тем перевалила свой пик и в дымном грохоте биг-бита покатилась к финалу. В какой-то момент все забыли о молодоженах, и они остались вдвоем. Пальцы их соединились под скатертью, и Лиля прижала свою длинную ногу к ноге Олега.
— Знаешь, Лилька… — слегка задыхаясь, заговорил Олег, — конечно, мы с самого начала у всех на виду… и большое спасибо комбинату за товарищескую заботу… но знаешь, Лилька, я хочу тебе сказать, что с ума по тебе схожу, что мне всякий раз отлепиться от тебя сущая мука…
У Лили сильно кружилась голова.
— А для меня, Олег, ничего уже нет в мире, кроме тебя, кроме всего твоего тела. Ты истинная половина моя, а не так, как говорят…
Недели три уже назад эти молодые люди начали любить друг друга, вступили в полосу чудес, но впервые вот так друг другу высказались.
…Саша начал непринужденно, улыбчиво, в прежней своей легчайшей манере слегка колдовать. Он встал, поднял кожаный мешок и порциями стал вытряхивать в костер фальшивые деньги. Всякий раз костер вспыхивал ярче, и в восходящих токах раскаленного воздуха возникал «словесный портрет с бакенбардами», тот самый, распространенный в зоне розыска, правда, чуть измененный грустноватой улыбкой. Очень быстро все деньги сгорели. Потом Саша поднял руку, и сверху, с ночного неба слетели в костер одна за другой еще десять бумажек.
— Это те, что я сегодня разменял в торговом центре «Приволье», — пояснил он Дурову. — Изымаются из обращения. Настоящие деньги возвращены в кассу. Скажи, достоин я снисхождения?
Сцена. Номер шестой: «Беглец»
Выезжая из автомойки и отряхиваясь, Дуров наталкивается на старых друзей-музыкантов, с которыми вместе когда-то, на заре туманной, глотал шпаги и вынимал из уха голубей. Вот встреча! Что ж, тряхнем стариной? А что ж? Ну вот хотя бы сможешь ли выдуть мыльный пузырь и там, внутри, Дон-Жуана? Почему же не попробовать? Многое зависит от аккомпанемента. Давайте попробуем. Марш в домовую контору! И вот мы в домовой конторе.
…Ненастным, но сухим утром он покинул свою любовь, пока она спала, и вышел на улицы города прямой, с изжеванным лицом под старомодной шляпой, в узком черном пальто, в галошах, с длинным английским зонтом.
Дон-Жуан, убегающий от любви, в наши дни не диво. Уехать куда-нибудь сейчас не проблема. Компьютерная система распределяет билеты. Беглец, словно командированный, словно деловой человек, не вызывая подозрений, проходит анфиладами вокзала. Бегство — древняя страсть. Беглец — человек древности, и потому его озадачивает сочащееся сквозь стены освещение и прокатывающиеся над головой огненные цифры.
Прощальный миг. Сплошная полоса тяжелой зелени. Последнее мгновение. Он позабыл любовь, крапивную рубашку, что жгла его сто лет. Растенья и селенья мелькают за окном. Сто лет с горящей кожей чего-то стоят. До исчезновения любви крапивной он предполагал, что жжет его глагол, страдал с благоговеньем: вот сила, дескать, обжигающая власть глагола, человеческого арта. Совокупленье творческих начал — биомеханика? Он взялся позабыть прикосновенья заливного холста, ожоги, пузыри на коже, сладчайшие сползания с крестца, нежданные поползновенья спасти, прижать к осиротевшей без боли груди хотя бы память, знак, хотя бы дуновенье с тех берегов, где некогда он целовал ее.
Где целовал свою любовь сбежавший Дон-Жуан? На бетонном волноломе, в сельском доме приезжих, в номере люкс на ковре, в каюте парохода, в железнодорожном купе, на песчаном пляже, на гальке, на занозистых досках, на арендованных вонючих пуховиках, в веселых травах, перед экраном телевизора, за экраном телевизора, в подъездах, в палатках, под дождем, на снежном склоне, в очередях, на балконах…
Он стал хватать воздух ртом. Сбились две скорости: экспресс ровно и мощно несся вперед, воспоминания налетали и ураганами, воющими порывами швыряли назад. Могло бы кончиться трагикомично, если бы не внезапная остановка: кто-то повесил авоську с апельсинами на стоп-кран.
Дон-Жуан осторожно глянул в окно и увидел свою любовь за полотном, на лужайке. Она лениво курила, валяясь, нога на ногу, на берегу маленького пруда или, если угодно, большой лужи. Многозначительный ветерок чуть морщил водную поверхность. Над лужайкой летало облако. В нем отражалась лужа. Луженая глотка пела за лесом соло паяца.
Однако я никогда не целовал ее вот так, за полотном, на лужайке, у лужи, и чтобы луженая глотка пела за лесом. Строго покашливая, он стал пробираться к выходу. Бегство обернулось новой встречей. Стотысячное бегство Дон-Жуана.
В целом удалось, сказал начальник ДКЖСК «Розы Гименея». Образ Дон-Жуана, в общем, выдувается. Однако…
Тут прибежали: прорыв горячей воды в шестой секции!
Долина
В последнее время что-то странное происходит с моим внешним видом: иным я кажусь основательно пожилым гражданинчиком, другим — неосновательно молодым, «парнем». И то и другое слегка коробит. Основательная пожиловатость огорчает, неосновательная моложавость кажется постыдной. Вот недавно какие-то сельские девушки обратились ко мне на дороге «вы, дядечка» — фу, какая неприятность! — а спустя некоторое время юнец-хиппи говорил мне «ты, чувак» — тоже что-то паршивое.
О последнем, между прочим, стоит немного рассказать. У нас, конечно, хиппи не так сильно произрастают, как в Америке, но имеются, и даже больше, чем предполагают люди, не путешествующие по автомобильным дорогам, словом, больше, чем хотелось бы.
…Юный Аркадиус кушал из пакета молоко пониженной жирности, когда на шоссе появились синие «Жигули», а за рулем чувак в желтой майке, то есть я. Аркадиус двумя руками сдавил пакет и, пузырясь молоком, выскочил на обочину. Я конечно же (мало было дураку науки) тут же остановился, и хиппи влез ко мне, прыщеватый, сальноволосый, с симпатичной придурковатой улыбочкой, в жилетке из плохо обработанной овчины и с надписью на майке «A human being» («Человеческое существо»).
— Предупреждаю, денег нет, — сказал он мне.
— Бесплатный транспорт, — ответил я.
— Супер! — воскликнул он.
Мы поехали.
— Откуда едешь, чувак?
Вот это меня и покоробило — что за нахальство, право! Я надел на нос дымчатые очки и посмотрел на попутчика.
— Ты знаешь происхождение слова «чувак»?
— Ну! Ты! Мэн! — воскликнул он с удивлением. — Ты, я гляжу, задаешь вопросы!
— «Чувак» то же самое, что и «мэн», а также соответствует надписи на твоей груди, — академическим тоном пояснил я.
— А что означает эта надпись? — Он рот открыл.
— Она означает «чувак», — усмехнулся я. — А происходит это слово от обыкновенного «человек». Когда несколько часов подряд дуешь в трубу или в саксофон, язык во рту распухает и нет сил выговорить обыкновенное «человек», а получается «чэ-э-э-к», «чвээк» и в конце концов «чувак».
— Супер! — с детским восхищением воскликнул он. — Ты где учишься?
Настала моя очередь изумиться:
— Учусь? Да я, дружище, давно уже отучился. Ты, должно быть, заблуждаешься насчет моего возраста.
— А сколько тебе лет?
— Сорок, — сказал я, слегка все-таки слукавив в сторону улучшения, то есть уменьшения горестного числа.
— Супер! — снова вскричал он и вдруг осекся. — Как же это может быть? Отцу моему вон сорок…
— А что из этого следует, сынок? — ласково спросил я.
— Супер… — тихо пробормотал он.
После этого со спокойной уже душой я начал его расспрашивать. Мне приходилось раньше возить хиппи и на родине и за границей, и обычно это был народ молчаливый, отчужденный, малоприятный в общении. Юный Аркадиус оказался иным. Он охотно рассказывал о себе. Школу бросил — надоела. В армию не взяли — плоскостопие. Захиповал, ушел в «коммуну» и там надоело, потому что бездуховный факк и паршивое ширево. Теперь стал автостопщиком, наколесил уже тридцать тысяч километров по Союзу то один, то с братом, то с девочкой какой-нибудь. Сейчас едет в Москву посмотреть на Джоконду. Ее, Мону Лизу — вы, конечно, знаете, чувак? — везут домой, в Париж, из Японии, но по дороге она сделала стоп в нашей капитолии, чтобы, значит, встретиться с Аркадиусом.
До Москвы было не менее двух тысяч километров, и я поинтересовался, есть ли у малыша деньги. Оказалось, есть, целая пятерка! Правда, нужно еще заехать за одной герлой, с ней скучковаться, но у нее, кажется, тоже есть рубля три, так что доберемся. Им много денег не надо. Хлеб они берут бесплатно в столовых. Водители в основном народ добрый, а жлобов за версту видно, к ним не просятся. В случае крайней нужды Аркадиус продает стихи по копейке за строчку. Чьи стихи? Свои собственные. Хотите купить? Вот, пожалуйста:
- Я разобью театрик без рампы и кулис,
- Входите без билетов — приехал к вам артист!
- Расскажет вам историю
- Про шхуну из надежд,
- Которую построили
- Четырнадцать невежд.
- Корабль из речки меленькой
- Отчалил в океан,
- Четырнадцать бездельников
- И капитан Иван…
- На деревенской улице театр без стен и крыш,
- Артист играет весело, а получает шиш.
— Я тебе, Аркадиус, за эти стихи дам десятку.
— Не десятку, а двенадцать надо, — надулся хиппи.
— Двенадцать не дам, а десятку получишь.
— Почему же десять, мэн? Двенадцать строк — двенадцать копеек.
— А я тебе десять рублей даю, понял? Не копеек, а рублей — дошло? Плачу тебе как начинающему поэту по девяносто копеек за строчку и вычитаю восемьдесят копеек, твой первый налог. Получается круглая десяточка. Вот, держи! Стихи-то давай!
Я получил стихи, записанные на разорванной обертке сигарет «Памир». Аркадиус был потрясен хрустящей розовой бумажкой. Он сказал, что таких денег и в руках-то никогда не держал. Потом он что-то забормотал, кажется, прикидывал, не сможет ли теперь, когда судьба так резко повернулась, взять с собой на Джоконду не только Эмку, но еще и другую герлу, Галку, а может, и бразеру позвонить, и тогда?.. Потом глаза его вспыхнули ярко, будто солнце попало в хрусталики, и он надменно протянул мне бумажку обратно, — дескать, унизить его не удастся, а если хочешь помочь, то гони двенадцать копеек, а паршивые колы забирай. Я с трудом убедил его, что никакого унижения нет и что стихи его мне просто-напросто очень нужны.
— Для чего же они вам?
— Для того чтобы где-нибудь в горной деревне разбить театрик без кулис, без стен, без рампы и без крыш, чтобы играть там и вспоминать про четырнадцать бездельников и в конце концов попытаться понять, что из этого получится. Видишь ли, Аркадиус, тебя судьба мне послала с твоим глупым стишком. Как ни странно, ты определил теперь мое направление, и я теперь понял, куда еду.
— Куда же, мэн?
— В горы.
— Да у меня там про горы нет ни слова. Наоборот, море.
— И все-таки я еду в горы!
— Зачем это вам, товарищ? Кто ты вообще такой, между прочим, мэн? — Аркадиус теперь вполне непринужденно перепрыгивал с «ты» на «вы» и обратно.
— Я артист-шарлатан, деревенский клоун.
— Супер! — вскричал он. — Возьмите меня с собой!
— Тебя ждет Мона Лиза, старик. Невежливо обманывать.
Расстались мы дружески. Он бодро закосолапил в развевающихся на ветру широченных джинсах искать свою герлу, пообещав все-таки меня еще где-нибудь встретить хотя бы уж для того, чтобы другую стихозу толкнуть по хорошему тарифу.
Странное дело, я действительно переменил направление и поехал в горную страну. На деревенской улице театр без стен и крыш, без стен и крыш, без стен и крыш… Я повторял придурковатые строчки и видел почему-то горбатую улицу горного села, дикий вздыбленный горизонт, дома с плоскими крышами и нескольких зрителей в косматых шапках, каких, быть может, сейчас уже нигде и не найдешь, таких людей, которые в связи с незнанием языка и высокогорной терпимостью не будут вдаваться в подробности, задавать наводящие вопросы, выяснять первопричины, первоистоки и позволят наконец-то провести задуманный акт до конца и сотворить чудо.
Четырнадцать бездельников и капитан Иван… Какое странное совпадение чисел! Четырнадцать бездельников и капитан Иван — всего, значит, пятнадцать. Как раз столько нас и осталось. Боже! Меня вдруг бросило в жар — да ведь есть же и Иван среди нас! Вернее, был среди нас Иван, неизвестно, существует ли до сей поры. Он когда-то долго блуждал по дальневосточным морям и прикидывался капитаном. Были времена, когда мы еще поддерживали друг с другом связь, когда еще витала над континентами идея собраться всем вместе и попробовать что-то сделать сообща. Иван никогда не был нашим капитаном, он был просто-напросто «капитан» — так мы называли его, посмеиваясь. Среди нас не было капитанов, мы все друг друга считали ровней в те времена, вначале. Как давно мы уже потерялись на земле! Иногда я ловлю себя на том, что мне не особенно и приятно-то вспоминать о товарищах, о товариществе. Иногда, когда судьба вдруг посылает какие-то знаки, я тоскую по ним и мечтаю о встрече, правда весьма отвлеченно. В этом случае, конечно, имя Иван и числа 14 + 1 были знаками судьбы.
Я повернул к югу, проехал сотни две километров по отвратительной разбитой и узкой дороге, выбрался на хорошее столбовое шоссе, протянул по нему еще километров триста, прежде чем приткнуться на ночлег к кемпингу, и, пока тянул, все думал о Долине. Обычно я еду, участвуя во всем, что происходит на дороге, стараясь разглядеть и встречных, и попутных, и пейзаж по обе стороны, сейчас я отсутствовал, потому что думал о Долине. И в кемпинге «Садко» я не прислушивался к звукам за фанерной стенкой, потому что думал о Долине. Так вот все это соединилось, все, о чем я размышлял в последние месяцы, все странные встречи во время моих блужданий, все импульсы и последний в виде стихоплетства прыщавого юнца — все почему-то сплелось для меня в слове «Долина».
Теперь пришло мне время искать Долину, шептал я, и слышалась мне в этом слове неведомая благодать. Я закрывал глаза и видел ее, Долину, будто на экране, будто проекцию отличнейшей цветной пленки. Она медленно проплывала передо мной, горная благоухающая Долина с быстрой речкой внизу, с тихим поселком вдоль реки, с развалинами замка на близкой зеленой горе и с грядой снежных шатров на огромных дальних. Там, в Долине, снизойдет наконец ко мне истинное вдохновение, там я обрету наконец чудо жанра.
Реальная долина, разумеется, оказалась и похожей, и непохожей на эти полудремотные видения. Здесь была речка, но не было развалин замка. Долина оказалась гораздо yже, чем воображаемая, и снег лежал на ее скатах там и сям или пятнами, или длинными языками, или подобием распластанных овечьих шкур, а в двух местах он подходил прямо к жалким строениям поселка огромными, сверкающими на солнце белыми склонами. Это была большая суровая высота, что-то около трех тысяч, может быть, и больше сотни на две. Двигатель несколько раз заглох, пока я крутил по серпантинке бесчисленные повороты: карбюратор хандрил на голодном пайке разреженного воздуха. Почему я полз именно сюда до самого упора, в этот неказистый поселочек, похожий скорее на лагерь в Антарктиде, чем на идиллический альпийский виллаж?
Десяток продолговатых, барачного типа домиков, стоявших в ряд вдоль некоего подобия дороги, встретил меня. Один из домиков был наполовину раздавлен обвалом, камнепадом и забит спекшейся грязью. Рамы с разбитыми стеклами поскрипывали. Ветерок посвистывал в дырах. Раздавленность и заброшенность этого недолговечного строения опечалили сердце. Кажется, и остальные, целые домики поселка были пусты.
С опечаленным сердцем я остановился, затянул ручной тормоз, поставил первую передачу, да еще и подложил каблуки своему фургону под задние колеса, чтобы он, чего доброго, не покатился из горной пустыни вниз, туда, где произвел его на свет человеческий гений. С опечаленным сердцем я двинулся вдоль ряда домов вверх и тут заметил, что печаль моя легка. Да, это была высокая, спокойная, такая молодая и почти забытая печаль. Кажется, я был уже готов ко всему.
Навстречу мне шел «капитан» Иван. Я узнал его сразу, как будто и не прошло много лет, как будто мы все за эти годы и не декорировались всякими там усами и бородами, как будто только вчера пили кофе на втором этаже Общества Деятелей Искусств над улицей Горького.
— Привет, Павел.
— Здравствуй, Иван.
— Благополучно добрался?
— Вполне. Что это за поселок?
— Это, знаешь ли, лагерь ученых, гляциологов, но сейчас он полностью эвакуирован в связи с лавиноопасностью.
— Вот как?
— Да-да, нам повезли. Пойдем! Тебя все ждут.
Между пятым и шестым домиками был спуск к реке и тихая лужайка, окруженная кустарником, если только можно назвать лужайкой каменное поле с редкими пучками травы. Там стояло несколько грубо сколоченных длинных столов и скамейки — видимо, летняя столовая гляциологов. За одним из столов сидели все мои друзья, весь наш цех: Александр, Брюс, Вацлав, Гийом, Дитер, Евсей, Жан-Клод, Збигнев, Кэндзабуро, Луиджи, Махмуд, Норман, Оскар. Они весело, с аппетитом обедали. И откуда только все взялось?! Кто приготовил? Три здоровенных горшка с горячим бараньим супом, отлично выпеченный хлеб; колобки свежего масла, айсберги ноздреватого сыра, толстенные плети лука, киндза, сельдерей, прочая зелень, развалы редиски и помидоров, дымящиеся на шампурах куски мяса, глиняные кувшины с вином — все естественное, без малейшего запаха химии, все от матери-природы. Зрелище этого стола наполнило меня оптимизмом. Все-таки живучие твари эти бродячие артисты! Добыть такой харч в лавиноопасной пустыне — для этого нужен талант! Оказалось тут, что и я пришел не с пустыми руками. Четыре гулких арбуза вывалил на стол!
Збигнев и Кэндзабуро чуть потеснились и посадили Ивана. Оскар чуть подвинулся, и мне нашлось место. Обед продолжался с хрустом, с бульканьем, со смачным чавканьем, с легким смехом и без всякой сентиментальной слезливой приправы. Друзья все чудесным образом постарели, но посвежели, поседели, но загорели, словом, все были хороши. Беседа текла легко, никто никому не говорил ничего лишнего.
— Кто из нас за эти годы пережил счастье в любви?
Оказалось, все пережили.
— Кто из нас тонул, погибал, выплывал, выкарабкивался?
Оказалось, всем приходилось.
— Кто из нас предал молодость за большие или малые деньги?
Не было таких.
— Кто унывал и бесился от отчаяния?
Каждый.
— Кто приобрел в путешествиях наглость, жестокость и свинство?
Никто из нас не приобрел этих сокровищ.