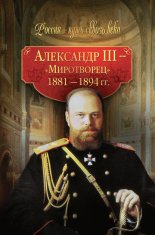В поисках жанра Аксенов Василий

— Как сука дорожная, — процитировала Маманя Зинкино письмо.
Из плюшевой жакеточки, из суконного серенького платочка, из оправы бабской российской доброты вдруг выглянуло малоприятное, бессмысленное от злости куриное рыльце.
Они проезжали маленький городок. Точно такие же, как Маманя, тетушки-старушечки, казалось, преобладали среди местного населения. Активно и шустро хлопали дверями магазинов, с озабоченными лицами трусили к автобусным остановкам, тащили кошелки, сетки, толкали тележки кто знает с чем. Дуров отмахнулся от промелькнувшего неприятного впечатления от куриного рыльца. Уж если и тетушек этих выбросить, этих самозабвенных хозяюшек, ничего тогда не останется, пустое будет поле.
Вдруг кто-то на обочине поднял руку, и не просительно, а деловито и беспрекословно, словно военный патруль. Дуров притормозил — и впрямь офицер голосует. Худощавый офицерик с замкнутым, несколько высокомерным лицом приблизился к машине, открыл дверцу, сел на заднее сиденье и только тогда обратился к водителю:
— Мне с вами восемнадцать километров по шоссе.
Затем он открыл толстую книгу и углубился в чтение. Дуров восхитился — вот надежный парень!
— Что читаем? — спросил он, разгоняя дальше свою машину.
— Классика, — сказал офицер.
— А точнее? — Дуров почему-то старался попасть в тон этому офицеру, то есть говорить отрывисто, сухо, без эмоций.
— «Королева Марго», — сказал офицер и перевернул страницу.
«Какого черта я их всех вожу? — спросил себя Дуров. — То я с Алкой-пивницей возился, то старушку праведницу подобрал, а теперь вот читателя классики…»
— Знакомьтесь, — сказал он, ухмыляясь. — Елизавета Архиповна, знакомьтесь с офицером.
— Зови меня Маманей, мальчик дорогой. — Старушка уже полуобернулась к новому попутчику и ласкала его отчетливую фигуру любопытными глазами.
— Жуков, — сказал офицер и перевернул еще страницу.
— А ты, видать, военный, мальчик дорогой? — спросила Маманя. — Я, чай, летчик или артиллерист?
— В органах работаю, — сказал офицер Жуков.
— Во внешних или во внутренних? — живо спросил Дуров.
— МВД, — сказал офицер Жуков.
— Министерство внутренних дел, — пояснил Дуров Мамане и опять спросил офицера: — А точнее нельзя?
— Точнее нельзя, — сказал офицер Жуков.
— Нельзя — значит, оно и нельзя. — Теперь уже Маманя пояснила Дурову и совсем повернулась к молодому попутчику, строгому офицеру: — А я, мальчик дорогой, еду к дочери Зинаиде, потому что мужик ее Костя…
И далее последовал подробнейший рассказ о коварстве, о любви, о невинных внучатах, зачитывание вслух письма, слезный вопль и разговоры о мерах воздействия.
Дуров слегка злорадствовал, но, посмотрев раз-другой в зеркальце на офицера, посочувствовал тому. Вовсе он не был таким железным, каким на первый взгляд казался, этот мальчик из внутренних органов. Дуров заметил, что офицер Жуков мучается от противоречивых чувств: с одной стороны, прервать чтение «классики», то есть личное дело, казалось ему унижением собственного достоинства, с другой стороны, он испытывал почтение к пожилой гражданке Мамане, а с третьей, возможно, он весьма близко к сердцу принимал страдания неведомой фельдшерицы Зинаиды. Так или иначе, он хмурился, продолжал перелистывать страницы «Королевы Марго», но в то же время и подавал Мамане реплики в адрес коварного Константина. «Непорядок» — такие в основном были реплики. «Конфеты носит ей через улицу!» — скажем, восклицала маманя. «Непорядок», — говорил офицер Жуков.
Между тем восемнадцать километров остались позади. Начались кварталы городской застройки, какая-то беспорядочная неприглядная индустрия по обеим сторонам шоссе. Движение становилось все гуще, и вскоре Дуров прочно застрял в колонне цементовозов перед закрытым шлагбаумом.
Здесь как раз было то место, куда ехал офицер Жуков. Он сухо, но вполне вежливо поблагодарил, вышел из машины и зашагал к своей цели, которая (или которое) была недалеко. Оно (или она) было зданием темно-красного кирпича, с маленькими окошечками, наполовину закрытым деревянными щитами. Вокруг здания стояла высокая, такого же кирпича стена, а по углам стены вышки с прожекторами. Жуков подошел к проходной тюрьмы, но, прежде чем войти в нее, остановился, нарвал травы и стал очищать свои высокие тонкие сапожки, прямо-таки надраивал их.
— Видите, Елизавета Архиповна, где работает наш попутчик, — сказал, улыбаясь, Дуров. — В тюрьме.
— В тюрьме! — ахнула Маманя.
— В самой настоящей тюрьме, — кивнул Дуров. — В самых что ни на есть внутренних органах.
— Ах, батеньки! — Сообщение это почему-то просто потрясло Маманю. Она выпрыгнула из машины. — Ты меня, мальчик дорогой, здеся обожди! — И шустренько подхромала к офицеру Жукову.
Дуров смотрел, как они разговаривали, как Маманя что-то частила и хватала офицера Жукова за рукав и как тот хмуро ее слушал и важно кивал.
Через некоторое время подняли шлагбаум, сразу загудела сзади вся цементная флотилия. Какой вздор эта общительная Маманя, ее пожитки, проблемы, библиотекарша, лесной коллектив. Дуров нажимал на сигнал, но старушка в его сторону и не смотрела. Тогда он переехал через железную дорогу и приткнулся к какому-то покосившемуся заборчику. Грузовики обдавали его удушающими выхлопами, щебенка летела из-под огромных скатов, пыль оседала пластами. Дуров злился. Какого черта он здесь стоит, почему он дает себя вовлекать в разные никчемные истории, зачем он входит в чужие, совсем ненужные ему жизни? Если это называется «связь с народом», то пошла она подальше, эта связь.
Над пылью захолустья, в чистом небе с увесистым грохотом прошел «Ту-154». Дуров позавидовал самолету — какая независимость, какой полный отрыв от народа! «Я еду в Ленинград, я начисто оторвался от народа и еду в Ленинград, где ждут меня друзья, тоже оторванные от народа, старые книги с обвисшей бахромой, истлевшие нитки, истлевшие связи с народом. Чугунное вычурное литье, бессмысленное, но чудесное. Тлеющие по каменным островам белые ночи, пользы от которых чуть — жалкая экономия киловатт, — а вреда значительно больше. Затруднительные отношения со своей собственной библиотекаршей. Встреча с Рокотовским, будущая совместная попытка возродить жанр, очень мало, должно быть, нужный народу. Рокотовский не стал бы в этой вони ждать Маманю. Выбросил бы ее пожитки из машины и уехал. У Рокотовского в принципе вообще нет никаких связей — ни с народом, ни с историей, ни с природой. В конце концов, может быть, Рокотовский и соберет все угольки в своих грешных ладонях, он, может быть, и выдует стебелек огня?»
Тут подошла Маманя:
— Ай, какой ты честный, мальчик дорогой. А я-то, баба старая, глянула — пропал мой багаж, и пятьдесят рубчиков в нем пропали! А ты, значит, очень честный, мальчик дорогой…
— Спасибо, что оценили, Елизавета Архиповна, — сухо сказал Дуров.
— На-кась!
Глазам своим не веря, Дуров увидел предложенный ему на чистой тряпице румяный творожник. Рукам своим не веря, взял его. Зубам своим не веря, съел. Показалось — вкусно.
— А Константин таперича у меня здеся! — Торжествующе Маманя похлопала по пузатому «радикулу».
Они вырвались наконец из цементно-индустриального захолустья и неслись теперь посреди зеленой и привольной, чудной, как столица, русской равнине.
— Простите, что вы имеете в виду? — спросил Дуров.
— А то, что Жуков-офицер может приехать когда надо и в тюрьму его забрать, — похвалилась Маманя.
— То есть как это забрать? Какое же он имеет право?
— Насчет прав не знаю, а раз он в тюрьме работает, значит, и упрятать туда человека могет. — Маманя поджала губы, но, подумав, добавила: — За непримерное поведение.
— И вы решили своего зятя в тюрьму? — Дуров почему-то разволновался, крепче взял баранку в руки, потому что машину стало заносить на левую сторону.
— Какой же он мне зять, если дочерь мою не милует! Не целует ее, не обнимает… — голосок Мамани чуть дрогнул, — …животик ей не греет… рази это зять?
— Послушайте, Елизавета Архиповна, позвольте мне заметить, что вы ведете себя не очень-то морально. Не поговорив с Константином, не выяснив его душевное состояние, вы запасаетесь угрозами, к тому же довольно странного свойства…
— Сольцы! — Востроглазая Маманя углядела столбик с надписью. — Вот отсюда мне уже три километра до лесного хозяйства. Останови, мальчик дорогой! Вот тебе на пивко с закусочкой.
Она хотела было уже подбросить водителю в кармашек горсточку денег, но тот вдруг резко переложил руль, и машина с маху вылетела на гравийную дорогу к Сольцам.
— А вдруг он по-настоящему, глубоко любит библиотекаря Ларису?! Вдруг это его мечта?! Как вы можете так резко вклиниваться в интимные человеческие отношения?! — сердито восклицал Дуров и, волоча за собой хвост гравийной пыли, приближался к темно-синей ровной стене леса, у подножия которого виднелись голубенькие и желтоватенькие строения.
— А ты сколько на морской службе получаешь? — вдруг спросила Маманя.
— В каком смысле? — Дуров передернул плечами. Что-то странное происходило с ним: он вдруг ощутил неуправляемость своих слов и поступков.
— Какой у тебя оклад? — осторожненько уточнила вопрос Маманя. — Рублей триста получаешь?
— Триста рублей, а что? — Странный, дурацкий ответ: почему триста, какой еще оклад?
— Жена, детки есть? Алименты выплачиваешь? — совсем уже тихонечко, будто сдунуть боялась, спросила Маманя.
— Нет никого, ничего не выплачиваю. А что?
— Да ничего, мальчик милый, просто любопытствую у дорожного человека. А может, погостюешь у Зинаиды моей, а? Лесная тут дача, видишь? Кислород, тишина, опять же грибочки.
— Новый проект? — зло, но не безучастно усмехнулся Дуров, усмехнулся Мамане почему-то не как равнодушный попутчик, а как свой, вовлеченный человек. — Женить, что ли, меня надумали, Маманя?
Машина перевалила через горбатый мостик, и они въехали на лесную поляну, на которой крестиком раскинулся невеликий поселок Сольцы. Пятна бледного солнца летали по огородам и крышам. Шаландалось на ветру разноцветное белье.
— Бабаня, бабаня с неба свалилась! — закричали двое голоногих мальцов лет семи-девяти и бросились к старушечке, которая тут же обмякла от кровных ошеломляющих чувств и едва не потеряла свою подсохшую ноженьку.
— Маманя! Маманя на личном автомобиле!
Дуров увидел, как с крыльца щитового домика сбегает, хохоча, Зинаида, красивая чудесная баба, как ни странно, в джинсах. Деревенская ситцевая кофточка и джинсы — очень получалось хорошо. И волосы нормальные, не уложенные, не накрученные, не начесанные, а спутанные, густые и развеваются в том же направлении, что и бельишко на веревке.
Она схватила ослабшую старушечку и всю ее затормошила, она просто разрывалась от хохота и пела:
— Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори до звездной полночи до самой…
Дуров ходил по скрипучему тротуару и с удовольствием разводил руками. Ему здесь оказалось привольно. На шиферной обыкновеннейшей крыше в обыкновеннейшем гнезде стоял аист.
— У вас здесь аист, — сказал Дуров Зинаиде.
— Он сольцы хочет! — расхохоталась она. — Летел-летел аист из Индии в Голландию, увидел внизу Сольцы и сольцы захотел. Здравствуй, аист, здравствуй, аист, как хорошо, что мы дождались!
Зрачки у Зинки были огромные и еще как будто бы расширялись с каждым словом.
Маманя тем временем уже окрепла и теперь важничала на правах приезжего человека.
— А кто директор этого коллектива? — тонким, на всю улицу сопрано вопрошала она.
Здесь я обойдусь и без Рокотовского. Это место, волшебным образом возникшее для волшебства. Быть может, именно здесь я попробую сейчас применить свой жанр. А если меня не поймут местные жители, если меня здесь изобьют, я останусь и повторю весь номер и буду повторять его до тех пор, пока они не привыкнут. Бывает же так, правда? Вот один певец несколько лет пел так, что его всякий раз били, а сейчас без него ни одна свадьба не обходится. А ведь поет он все так же, не изменил ни формы, ни содержания. Просто люди к нему привыкли, и это их право. Люди имеют право на привычку. Итак, за дело, здесь и немедленно.
Так размышлял Павел Дуров, бодро шагая в сельпо за третьей уже поллитрой. Уже стоял над бором закат. Серенький денек вдруг превратился в огромный фантастический вечер. Дуров шел от заката, во все время оборачивался и радостно принимал лесные и небесные чудеса. Низкий силуэт леспромхозовских крыш с контуром аиста на Зинкиной крыше казался ему сейчас не менее волшебным, чем в свое время контуры Праги, скажем, или Манхэттена.
Кто-то сзади его догнал и взял за руку.
— Здравствуй, дорогой!
Стоял незнакомый мужик.
— Ты Константин?
— Я Иван.
— А я Павел.
— Вот и познакомились. Ты машину мою на турурупуй не видал? Потерял ее к туфалуям кошачьим.
— Какая у тебя машина?
— «Колхида»-гнида, савандавошка залеваеванная.
— Ты сквернословишь ни к селу ни к городу, дружище, — укорил Ивана Павел.
— Признаю. Стыжусь. Пошли машину мою поищем.
— Айда. Немедленно ее найдем.
Немедленно вдвоем они нашли грузовик Ивана, а в нем обнаружили еще одного мужика, Вадима.
— Быть может, мы все трое пойдем в домик под аистом? — предложил Павел. — Там наша Маманя пельмени приготовила.
— Я не пойду, — сказал Иван. — Боюсь. Зинка всегда ругается, что я ее за титьки буду хватать.
— А мне, когда выпью, бабу не хочется, — покрутил головой Вадим. — А тебе?
— Мне хочется чуда, — признался Павел.
— Во-во, мне тоже всегда добавить хочется.
На столе дымилась гора пельменей, а вокруг сидело склеенное Маманей семейство: детки в чистых одежках, Константин при галстуке, Зинаида и сама Маманя.
Зинаида была в голубом египетском пеньюаре, этом первенце молодой химической промышленности, на европейский манер открывавшем верхнюю часть грудей, тогда как нижние части, этот, как говорится, «самый сок», пущены были напросвет. Глаза Зинка намазала страшнейшим образом, как в девичестве, бывало, делала, когда захлестывала ее хулиганская стихия, а губы ее, раскрытые в постоянном хохоте, с помадой, размазанной горячими пельменями, напоминали сейчас разлохмаченную осеннюю хризантему, хотя в сердцевине ее поблескивали вполне свежие зубки и огненный язычок.
— Ну, смотри, смотри, Кастянтин, где такую еще найдешь? — увещевала зятя Маманя. — Глянь на себя-то в зеркало, ты мужик ай-я-яй какой невидный, весь ты оплыл в дурацкой жисти, ни богу свечка, ни черту кочерга. Глянь таперича на Зинаиду, голубку лазоревую. Да была бы я мужиком, чичас же накрылась бы с ней одеялом.
— Вы, Маманя, впрочем, несуразности при детях… — морщась, перебивал тещу Константин.
— Папаня — бесстыжий! Папанечка наш кобелячий! — ликовали с набитыми ртами детишки.
Константин морщился. Такая произошла незавязица, готовился к серьезному разговору, да позволил себе намешать, и вот сейчас клинышек прямо в висок, клинышек деревянным молотком кто-то вгоняет.
— Стою на полустаночке в веселом полушалочке… — хохотала Зинка.
Что с ней стало? Глаза горели. Такая баба без ложной скромности целиком футбольную команду за собой уведет.
Тут двери открылись, и в горницу влез приблудных дел мастер — «морячок» Павел Дуров, полные руки веселых напитков.
— А вы, Павел Аполлинарьевич, быть может, рассказали бы нам о заграничных государствах, где что есть, какие цены, — светским тоном обратилась Маманя.
— Я сейчас видел в лесу костер, — заговорил с блуждающей улыбкой Дуров. — Смотрю, за соснами трещит, полыхает, напоминает что-то непережитое, то ли будущее, то ли прошлое, что-то несказанно прекрасное, неназванное… Понимаете, Зинаида? Что это у вас тут феи в коллективе, нимфы? Эллада? Хочется почувствовать у себя на ногах копытца. Близится время чудес.
Константин повернулся к гостю, кривой улыбкой на пол-лица выдавливая «клинышек».
— Вот у вас, я вижу, товарищ Дуров, фигура спортивная, а если приглядеться бдительно, личность вы немолодая.
— Молодая! — вдруг гаркнула Зинаида, словно проглотив сразу весь свой хохот и лукавство и выставившись в центр комнаты ожесточенным, измученным лицом. — Айдайте на спор, Константин Степанович, — кто моложе, вы или они? Хочете, сейчас же проверим?
Детишки, привычные к родительским беседам, тут же дружно заревели.
— Зинаида, Зинаида, — мягко урезонила дочь Маманя.
Однако Зинаида снова уже хохотала и лихо открывала все подряд бутылки, принесенные Дуровым, где вилкой, где ногтями, а где и зубами цапала.
- Это непременная картина,
- Когда в сиянье юности огня,
- Когда тебя я вижу, Зинаида,
- Все сердце уж ликует у меня! —
так завопили за окном две пещерные пасти.
— Друзья, — сказал Дуров. — Редкие люди.
— Вадька да Ванька, пьянь да рвань, — повела египетским плечом Зинаида, встала и подошла к окну. — Ну чего, чего, — говорила она вниз в окно, где что-то ворочалось косматое и иногда поблескивали то глаз, то бутылка. — Ну чего вам? Идите прочь! Толку с вас! Ладно, ладно, на — потрогай и дуйте отсюда, опилки…
Дуров пил какую-то наливку, которая, казалось, язык приклеивала к нёбу. Сквозь пеньюар просвечивал женский зад в черных плотных трусах. Ладная баба, вполне ладная баба. Взгляните, какая линия спины, ни дать ни взять охотница Артемида! Вы, Константин, неприкаянный дружище, напрасно бросаетесь такой бабой. Вы бы сохранили ее на всякий случай.
— Я жизни другой захотел, — сказал ему «неприкаянный дружище».
Белесые волосики прилепились к высокому лбу.
— Замечательно вы сказали, незадачливый мой дружище! — Дуров положил ему руку на плечо и заглянул в глаза. — А что, Лариса придет? Надеюсь, приглашена?
— Надеюсь, придет, — пробормотал Константин. — Только она не пьет. Покушает маленечко. Слегка покушает, конечно, если в нее Зинка горячим чайником не бросит.
— Алик, включай телевизор, — сказала Маманя внучонку. — Сейчас ваша детская будет вещания «Спокойной ночи, малыши».
Четверть девятого по московскому. Дуров прислушивался ко всем звукам, к великому множеству звуков, окружавших его в лесном краю. Быть может, спустя долгое время, если он вспомнит этот вечер, все разговоры вокруг покажутся ему скучными и глупыми, а собственное поведение нелепым и позорным, но сейчас все звуки вокруг, все речи, вздохи и междометия казались ему исполненными далекого смысла, да и сам он себе сегодня нравился, казался подтянутым, веселым и накрученным, готовым к любой неожиданности, более того — ждущим, вызывающим на себя эти неожиданности. Это было лучшее его состояние, которое появлялось в последние годы все реже и реже, а ведь именно вслед за ним, за этим состоянием, начиналось самое чудесное — открывались шторки заветного театра, начинался «жанр».
— Паша, можно тебя на минуточку в огород на фулуфуй? — нежнейшим тоном спросили из окна два косматых друга.
Он вышел под песенку «Спят усталые игрушки» в тот момент, когда Маманя начала драть Константину уши вроде бы шутливо, но очень больно, о чем можно было судить по застывшему на пухлом лице Константина изумлению.
Зинаида вальяжно, как нейлоновая Клеопатра, приглашающая Помпея во внутренние покои, поднимая широкие рукава, удалялась из горницы в опочивальню.
Дитяти, пофунивая и побунькивая, засыпали уже на тахте под телевизионным излучением.
— Щас из леса приходили, Павлуша, говорили: все четыре колеса у черестеганного «Фиата» на желупу конскую сымем, — сказали Дурову Иван и Вадим. Они лежали в огороде среди молодой картофельной ботвы, подложив под головы собственные ботинки.
— Кто приходил? Пан? Сатиры? — поинтересовался Дуров. — Кто здесь бродит ночами по лесу? Откуда запахи эти одуряющие?
— А я не чувствую, — сказал Вадим. — На теребафер нюх мне отшибло. Зинка выйдет, Паша?
— Короче говоря, товарищ проезжающий, пять рубчиков дашь — будут твои колесья целые, — официально предупредил Иван.
— А если десятку дам? — поинтересовался Дуров.
— А если десятку, значит, и фары останутся.
В это время офицер Терентий Жуков приближался на собственном мотоцикле к поселку Сольцы. Куда еду? — спрашивал он себя. — Какова цель? Цель — морально поддержать пожилую гражданку в ее нелегкой борьбе за целостность семьи, а цель, как пишут умные люди, оправдывает средства. Никогда сам себе не признаюсь, что сжигает любопытство к брошенной гражданке Зинаиде и к морально невыдержанному библиотекарю Ларисе. В пятиэтажном доме, где Жуков жил, сроду не происходило ничего подобного, а в тюрьме вообще все было нормально. Кроме того, рассчитывал, конечно, Жуков получить в лесной библиотеке что-нибудь из классики, к примеру «Лунный камень».
Он не подозревал, конечно, что въезжает в зону чудес, да, признаться, так и не заподозрил до самого конца, и чудеса, которые ему попадались, таковыми не считал. Жизнь многообразна, так полагал офицер Жуков, и то, что мы порой принимаем за чудеса, на самом деле явления природы. Вот, например, огромный костер, который ослепил его при въезде в поселок. Другой бы подумал — чудо. Офицер Жуков решил — шлаки жгут. Женская тонкая фигурка извивалась в огне. Кто-нибудь сказал бы — ведьма, нимфа, саламандра. Офицер Жуков прикинул — здесь сегодня получка.
Между прочим, не ошибался офицер. Все мы угадали в Сольцы в день аванса. Тут уж, как обычно, то ли накушаешься с удовольствием, то ли голову сложишь.
— Вы здешняя? — спросил Жуков девушку.
— Меня оскорбили, — отвечала она. — Я хотела раскрыть ему новые горизонты, а он лишь увлекался моей плотью.
Она приблизилась к мотоциклисту и протянула узкую закопченную ладонь.
— Давайте знакомиться, Лариса.
…Довольный сделкой и все еще настроенный на чудеса, Дуров долго толкался в сенях, опрокидывая клетки с молодыми курами, разливая какие-то жидкости, пока не шмякнулся боком в войлочную дверь и не ввалился с ходу в опочивальню.
Печальная картина предстала перед ним. Ему показалось даже, что грубая, ржавая, саднящая, с жесткими нечистыми швами с щетиной в складках грубятина жизнь надвигается и вытесняет гладкое, как воздушный баллон, чудо, созданное уже им, но только не явленное еще миру. На полу сидела, разбросав отяжелевшие ноги и опустив набрякшие груди, постаревшая на двадцать годков Зинаида. Ни хохота, ни блеска не было уже в ее лице, но лишь тощища, глухая пудовая тощища. Одна лишь правая ее рука трепетала, будто пойманный стриж, и все хватала, все хватала маленький стерилизатор, в котором бренчали шприц и иглы, а вокруг разбросано было несколько малых ампул.
— Эй, кто ты такой? Помоги! — глухим, незнакомым голосом приказала Зинаида вошедшему.
— Ну, знаете ли, Зина, это не дело, это не дело! — горячо, не узнавая себя, на высоком подъеме заговорил Дуров. — Ваш смех, ваше чудо не из ампул этих дурацких, но из других сфер, дражайшая Зинаида!
Он отшвырнул ногой стерилизатор и стал поднимать Зинаиду с пола, засунув ладони ей под мышки.
— Кто ты такой? Кто ты? — вдруг детским голосом захныкала Зинаида. — Пожалей меня, человек! Пожалей как можешь!
Как кипятком охваченный восторгом, он взялся ее жалеть. Она, раскинувшись, только хныкала, только жаловалась по-детски, а он жалел ее, захлебываясь и трясясь, будто всадник в стоверстной атаке. Потом она вдруг выгнулась мостом, а он проутюжил танком, тогда они рухнули в постельный пух и мгновенно заснули.
— Ты, Кастянтин, будто жисти не знаешь, — все обрабатывала в горнице теща зятя, а сама уж косила глазом в привычную, неизбежно сосущую глубь телевизора. — А жисть каждый раз открывает нам виды. Пососи-ка стюдню шматок, гляди — полегчает. За непримерное поведение тебя добрые люди могут в тюрьму устроить. Какие такие новые жисти тебе Лариска открыла, окромя своих мослов? Вам нынче все предоставляют, а вы только рыгаете. Да взъярися ты, кислый человек, на-кась выпей браги!
Но Константин, однако, уже облегченно только улыбался, только лишь обвисал на стуле, а очи у него затекали, и не видел он сейчас перед собой ничего, даже сладенькой своей Ларисочки, которая всегда читала на ночь прямо в ушко «Дон-Кихота», испанскую книгу, даже ее не видел, а только слышал ее за стволами, в подлеске, куда полез его трелевочный трактор, и вот на него-то сейчас Константин и смотрел со слабой улыбкой, на мощный механизм, со слабой улыбкой надежды.
— Я лично работаю в бухгалтерии областной тюрьмы, — тихо повествовал офицер Жуков своей новой знакомой. — Я лично с преступниками разных мастей фактически не имею воспитательного контакта.
Они шли, держась за руки и раскачивая свое рукопожатие как бы в такт неслышной музыке, как в кино.
— Судьба послала мне знакомство с недюжинной натурой, — сказала, глядя в светлые ночные промывы на небе, библиотекарь Лариса.
— Это с кем? — поинтересовался Жуков.
— С вами.
Они перелезли через низкий заборчик и оказались во дворе дома, все окна которого ярко пылали. В торцовых окнах куковала перед телевизором старушечка Маманя. В боковых висело имущество. На задах в огороде два мужика заглядывали в следующее оконце, ухали, валились в ботву, мяли друг друга. Поблизости остывал под бродячей луною шестиоконный темный «Фиат». Под ним и вокруг бегали молодые куры.
— Как давно уж мне не приходилось есть петушатины, — вздохнула Лариса.
Жуков тут же бросился в темноту, как пловец, и поймал того, на кого намекнули.
На экране телевизора Маманя вдруг увидела председателя своего колхоза Фомина. Тот гулял по весенней земле, а в рот ему совали большущий клубень — микрофон.
— Мы увеличиваем с каждым днем масштабы подъема зяби, — воспитанным голосом говорил Фомич.
— Зяби, зяби вы мои, зыби, зыби зыбучие засыпанные! — во весь голос тут (благо вокруг все спят и за стенкой в опочивальне угомонилися) возопила Маманя. — Зыби, зоби, зябкие, озябанные, постные, зяби наши пскопские, зыби озерные осиянные!..
Фомича на экране сменил гладкий господин в мединских конечно же очках, который уставился Мамане в самую душу и сказал:
— К чему же стремятся национально-патриотические силы Ливана?
— Ливана, Ливанна моя заливанная, разливанная! — жалобно взяла верх Маманя, потом зачастила: — Али в ванне ты Марь-иванна али шаль твоя златотканая…
Тихо посапывали на тахте невинные внучата, и Маманя тихонько скребла им розовые пяточки для пущего улучшения улыбчивого детского сна.
Дуров проснулся среди ночи, услышав какой-то сокровенный треск, будто пальма сухая трепетала на ветру, и понял, что это аист на крыше крыльями разговаривает. Он посмотрел на спящую рядом фельдшерицу и пожелал ей добра. Пусть добро ее хранит, пусть подальше она живет от иглы и от темной бутылки, пусть блаженствует в добре. Зинкины губы зашевелились, и он услышал старинные французские слова:
— Ке сюи же веню шерше иси?.. Шерше иси?.. Ле мейер де шевалье де сетт терр, ле плю нобль э ле плю фьер… Ке сюи…
«Это не речь ли Эсмеральды? — подумал он. — Слова идут в Зинкины уста из генетических бездонных колодцев». — Так подумал, наивно хитря: дескать, не моих рук дело.
Он сполз с высоченной кровати, подтянул «молнию» и вышел в огород. Там его встретила молодая колдунья с закопченным счастливым личиком. Она протянула ему жареное куриное крыло и жестяную кружку с напитком.
— А вот и путешественник, о котором ходят уже толки в нашем лесу, — с милым жеманством произнесла она.
Над ней неподвижно висел в воздухе большущий аист, предлагал свои ноги для полета то ли в Индию, то ли в Голландию.
Дуров сунул поджаренное крылышко в карман и взял в свои чуткие ладони тонкие закопченные девичьи руки. Они смотрели друг другу в глаза и улыбались. Он чувствовал, что она его понимает.
— Ну! — говорила она. — Ну! Ну! Ну!
Аист, устав висеть, одним крылом облокотился о луну. Светило тем не менее чудесным светом заливало всю землю, и виден был каждый листик на картофельной ботве, и офицер Жуков мог прекрасно читать библиотечного «Дон-Кихота». Два мужика тем временем, Вадим и Иван, чесали друг другу животы и сквернословили, как галерные каторжане. На задах огорода скособочился дуровский «Фиат». Колес как не бывало, стоял на трех чурбаках и домкрате. Фар как не бывало, из зияющих дыр торчали зеленые ветви с ягодами.
— Удастся ли Мамане восстановить лесную семью? — спросил сам себя Дуров.
— Дальнейшее в вашей власти, — со странным проникновением говорила Лариса. — Чьих рук дело эти холодные костры? Откуда такая прыть у пожилого аиста? Вы и меня, скромную девушку, за восемьдесят рублей зарплаты можете сделать колдуньей!
Он вдруг упал — голова закружилась. Легкое дурацкое падение, — дескать, вы меня не за того принимаете. Она заплакала.
— Нет, не решаюсь, — пробормотал он. — Извините, Лариса, пока не вытягиваю. Желаю вам всем счастья и засыпаю.
Дрожа от холода, он заснул, а проснулся от благости и тепла. Пели недобитые петухи. Чудесное солнце грело растерзанную грудь. Он смотрел из-за лежащей рядом с его головой оловянной кружки на весь земной порядок. Он не совсем отчетливо помнил события прошедшей ночи, чувствовал какую-то утрату, понимал: вот что-то было близко, но не свершилось, разгорелось почти вовсю, но погасло, — и все-таки он чувствовал себя счастливым оттого, что приблизился, почти уж решился распечатать мешки с реквизитом, был в двух шагах от «жанра».
Утро было простое, отчетливое, с далекой обнадеживающей перспективой. Снизу, с поверхности земли, он видел дорогу. По ней, прихрамывая, удалялась Маманя. Она вела за ручки двух детей, Алика в красных штанишках и Танечку в желтой юбочке, своих невинных внучат, переданное через поколение семя. На бугре вся троица остановилась — цветные пятнышки на небе, черное, голубое, красное, желтое… Дуров приподнялся на локте. Маманя обернулась и сказала ему через полверсты:
— Пока мужик да баба промеж себя разберутся, я деток млеком отпою, витамином обеспечу, а вам, значит, всего хорошего…
Сцена. Номер четвертый: «Глядя на деревья»
Фокусы в городском парке. Музыкальное сопровождение — гарнизонный оркестр. Вальс «В лесу прифронтовом». Дуров среди гуляющих.
…Все в лунном серебре — так произнес японец, мечтая возродиться сосною на скале. Славянским многоречием заменяя дальневосточную сестру таланта, будем говорить так.
Благороден лик могучего созданья! Все тело сосны суть ее лик. Плюс корни. Корни сосны суть ее страсть. Плюс ствол и крона. Суть сосны — ее суть. Отсутствуют окольные помыслы, страх и угодничество. Еще бы раз родиться сосною на скале!
Иногда сомневаюсь: не мала ли для человеческой души сосна? Иногда сомневаюсь: не велика ли? Иногда не сомневаюсь: кому-нибудь да удалось совпасть.
Венцом живой природы повсеместно признан человек. Умолчим о том, кем он повсеместно признан, и воспоем хвалу огромным деревам, которые не претендуют на венец, но украшают флору.
Семиствольный пучок гигантских вязов с трепещущими под ночным ветром верхами — заблудись среди семи стволов и прислонись щекой к коре. Стань человеческим подкидышем в семье секвой, чудаковатым попрошайкой-императором меж двух гвардейских кипарисовых колонн.
Огромные дерева наполняют душу спокойствием: могущественная протекция. Под защитой, под покровом, под сенью буков, дубов, кленов, каштанов, берез, эвкалиптов чувствуешь себя надежнее, хотя они, казалось бы, не охраняют от зла, от тех персон, которым на флору наплевать, а такие среди нас есть. Отрешись, однако, от этих сомнений и положись на деревья. Насколько хватит тебя, учись у них героизму.
Вспомни и о листве. В юности белые ночи выводили на перекрестки, где под балтийским ветром кипела листва, а в ней мигали желтые светофоры. Глядя на листву, всякий раз вспоминай ту жадную и жалкую молодежь, свое поколение, что прошлепало сомнительными подошвами по Невскому на закат, к Адмиралтейству, и растворилось в кипящей, пронзительно холодной листве.
Прогулка частично удалась. Несколько встревоженных взглядов. Два-три случайных поцелуя. Слетевшая с чьей-то щеки ностальгическая слезинка. Обошлось без проверки документов…
Море и фокусы
Сейчас вокруг Харькова есть окружная дорога, а года два назад автомобилистам приходилось пробираться через весь огромный город, чтобы снова выйти на трассу Симферопольского шоссе. Конечно, все плутали, не только я. Помню, однажды раза три выезжал я кругами все на ту же Сумскую, главную улицу города, и всякий раз догонял там серенький «Москвич» самого первого выпуска, набитый людьми так, что, казалось, дряхлое железо выпячивается под боками, плечами и задами. Они, как видно, тоже плутали, бедолаги, и тоже меня приметили.
У светофора водитель «Москвича», небритый малый лет сорока в пропотевшей ковбойке, ни дать ни взять золотоискатель, высунулся из машины и спросил:
— Ты тоже в Крым едешь?
Водители у нас почти всегда обращаются друг к другу на «ты», как будто их связывает нечто общее, нечто спортивное. Это отголосок старых, дожигулевских времен, когда тяжелые высоченные «Волги» единицами плыли среди полей, словно барки в опасном океанском рейсе, и водители казались самим себе чем-то вроде капитанов, соратников по опасному делу русского автомобилизма. Впрочем, сейчас-то как раз, в годы массовой автомобилизации, опасности на дорогах стало не меньше, но больше. Один солидный офицер ГАИ как-то рассказывал мне, что рост автотранспорта в десять или больше раз превышает рост автодорог. Я это чувствую на собственной шкуре. Казавшиеся раньше широкими и привольными, трассы теперь забиты сплошными встречными потоками коптящего, ревущего железа. Еще недавно я хитрил и выезжал ночью, чтобы проскочить подмосковную, скажем, зону без помех. Теперь ночная езда почти потеряла смысл: сотни таких же «хитрецов» шпарят по неостывающему асфальту, слепят друг друга фарами и раздраженно сквернословят. Вот еще любопытное явление: за рулем у нас сквернословят даже воспитанные люди. Тоже атавизм, конечно. Я, дескать, за рулем, эдакий брутальный мужчина… особый сорт: дело серьезное, резкое, железное… А дело-то как раз вполне обычное, нормальное, хотя и опасное. Должно быть, те, кому полагается, должны задуматься над приведенной выше грубой статистикой. Малопривлекательная фантастика, транспортный коллапс вполне может стать реальностью. Впрочем, я вовсе не собираюсь сейчас заниматься социологической публицистикой. Я собираюсь просто-напросто ответить на вопрос небритого малого в пропотевшей ковбойке.
— На юг еду, — ответил я.
— Я вижу, ты тоже плутаешь, — улыбнулся он. — Давай за мной. Теперь я точно выезд накнокал.
Я ему улыбнулся в ответ. Он меня просто очаровал этим словом — накнокал.
Тут дали зеленый свет, и все поехали. Я держался за «Москвичом». Сейчас такие машины уже редко увидишь, а скоро они станут музейными. Сработанный сразу после войны, этот автомобильчик почему-то оказался копией довоенного немецкого «Опель-кадета»… Помню, мальчиком в 1945 году ошивался я как-то возле стадиона «Динамо», и тут подъехал знаменитый форвард Бобров в таком автомобиле, а на капоте плюшевый мишка. Неизгладимое впечатление!
Сколько же напихал этот «золотоискатель» к себе народу? В маленьком заднем стекле виднелись две или три детские головки и, кажется, две еще женские впереди. Две женщины на одном сиденье? Трудно представить. На крыше у «Москвича» был привязан гигантский тюк всякого добра, должно быть дряни, разной ерунды, необходимой в хозяйстве. Сзади на буксире катила еще тележечка с багажом. Больше всего, однако, меня удивил номер — ТЮ 70–18. ТЮ — что это за индекс? Какая область? Ведь не Тюменская же, в самом деле. Впоследствии выяснилось, что именно Тюменская, что именно из Тюмени в Крым на собственных четырех колесах везет свою семью храбрый мужчина Леша Харитонов.
Так или иначе, но оказалось, что ТЮ 70–18 действительно верный выезд из Харькова «накнокал». Прошло некоторое время, и наш маленький отряд оказался на Симферопольском шоссе. Был уже вечер, в город тянулись колонны отработавших грузовиков, но на нашей стороне шоссе было свободнее, и потому нам пришлось расстаться. Конечно, «золотоискатель» очень старался, давил изо всех сил на железку, но, увы, там, где старенький «москвичонок» уже кончает, то есть на семидесяти км/час, новенький «жигуленок» только начинает. Я немного проехал вровень с ним, открутил правое стекло и сказал:
— Извини, друг!
«Золотоискатель» мрачно кивнул:
— Понимаю, понимаю. — Вдруг он просветлел неожиданно и ярко: — Через год и у меня такая будет!
— Ну вот и отлично. Пока, — сказал я.
Из «Москвича» меня на прощанье облаяли. Оказалось, там еще и собачонка где-то копошится. Трое детей, две женщины и собачонка. Я рассмеялся. «Золотоискатель» тоже. Мы расстались дружески. Я чуть поджал педаль акселератора и вскоре исчез из виду.
— Столько дыр в доме, а он «Жигули» собрался покупать, — глядя в окно на догорающие головешки украинского заката, сказала теща.