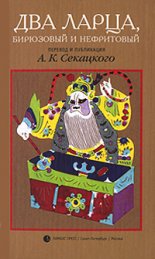Чистые пруды (сборник) Нагибин Юрий

Принимая хозяйство дома отдыха, Василий Петрович вместе с прежним директором обошел все службы и угодья, все жилые помещения главного и подсобного корпусов. Когда с этим было покончено, прежний директор подвел его к опрятному одноэтажному домику с застекленной террасой.
— В этом флигеле…
Не договорив, он двинулся вперед, отомкнул английский замок в обитой войлоком и клеенкой двери и жестом пригласил Василия Петровича последовать за ним. Они оказались в просторных, пахнущих сухим сосновым деревом сенях, откуда взгляду Василия Петровича открылась большая, столичного вида квартира из трех просторных комнат, а справа в прозоре двери тускло зеленело сукно бильярда.
В первой комнате — гостиной — на полированном дубовом столе стоял телевизор, вдоль стен мягкие диваны, посреди — овальный стол, крытый тяжелой бахромчатой скатертью, вокруг него грузные, словно свинцом налитые кресла, над столом посверкивала бледным отраженным светом хрустальная люстра. Две двери, соединявшие гостиную с другими комнатами, позволяли видеть крахмальный холодок тугих подушек в спальне, уголок письменного стола и край ворсистого ковра в кабинете.
Василий Петрович молчал, подавленный этим великолепием.
— Наш неприкосновенный запас, — с игривой гордостью сказал прежний директор. — Держали на случай, если сам прибудет.
— Ну, сам-то едва ли сюда приедет… — пробормотал Василий Петрович с вымученной улыбкой. Он за всю свою долгую жизнь хозяйственника не имел дела с высшим начальством и потому не допускал подобной возможности.
— Это, знаете ли, бабушка надвое сказала, — заключил прежний директор тем же особым, неопределенно-игривым тоном, какой появился у него, когда они переступили порог святилища. — Так что будьте начеку.
Совет проник в самое сердце Василия Петровича. Он и действительно все время был начеку, чтобы приезд высокого гостя из министерства не застал его врасплох. Он закрепил за квартирой уборщицу подсобного корпуса Настю, которая обязана была ежедневно убирать необитаемые комнаты, мыть нехоженые полы, менять цветы в вазе, благоухающие впустую, чистить щеткой зеленое сукно бильярда, ворс которого, казалось, начал отрастать, как запущенный газон. Впрочем, часть забот легла и на дворника Степана: он должен был скалывать ледок у крыльца, раскидывать навалы снега под окнами, держать наготове запасы березовых чурок, на случай, если начальство захочет полюбоваться игрой пламени в камине.
Словом, было сделано все для того, чтобы ненароком нагрянувший гость почувствовал, с каким нетерпением его ждали, с какой заботой готовились к его приезду.
И все же эти комнаты были источником постоянного внутреннего беспокойства Василия Петровича. Как хозяйственнику, ему трудно было примириться с тем, что пустует прекрасное помещение, без толку поглощая и средства, и труд людей. Порой ему и по-человечески досаден становился запрет, наложенный на эти комнаты. Он долго не мог забыть лица двух молодоженов, приехавших в дом отдыха в самую тяжкую пору июльского перенаселения: их разместили по разным комнатам. Он едва не дрогнул в тот раз, представив себе, каким бы несказанным счастьем явилась для них отдельная квартира. Но он взял себя в руки, и молодые люди, обменявшись таким взглядом, будто расстаются на всю жизнь, разошлись по разным корпусам.
Не лучше чувствовал себя Василий Петрович и во время приезда знатного каменщика, некогда строившего этот дом отдыха. Каменщик приехал с женой и тремя неуемными сыновьями; даже в спаренном номере родители не знали ни минуты покоя от буйной ватаги своих сорванков.
С огорчением слушал новый директор, как грохочут шары на разбитом общем бильярде, в то время как в пустующей квартире без дела и смысла тоскует отличный стол; такое же скверное ощущение вызывали в нем прилипшие к окнам телевизионной комнаты девушки-подавальщицы — тесный просмотровый залик едва вмещал отдыхающих. Девушки толкались, ссорились, пытаясь уловить искаженное оконным стеклом изображение, а во флигеле без толку пропадал отличный телевизор.
Все это так угнетало Василия Петровича, что ему стало невмоготу нести одному груз своих огорчений. Он стал делиться с уборщицей Настей: он был уверен, что эта молчаливая, замкнутая, с черными, запавшими глазами женщина никому не проговорится. Он рассказывал ей и про молодоженов, и про каменщика, но всякий раз в темных глазах Насти ему ясно виделось не сочувствие, а осуждение. От этого ему становилось еще горше, и все же он вновь и вновь жаловался ей на очередную незадачу, в смутной надежде, что на этот раз она наконец поймет его. Но когда он убедился, что даже его жертвенный поступок, его маленький подвиг, не погасил колючего, укоризненного огонька в глубоком и слишком пристальном взгляде Насти, он понял, что должен в одиночку нести свой крест.
Василий Петрович не понимал Насти. Да и непросто было понять эту тихую, чуть глуховатую, затаенную женщину со странным, некрасивым и вместе притягательным лицом. Конечно, Настя была некрасива, но стоило кому-нибудь сказать: «А знаете, в ней что-то есть», как все готовы были согласиться с этим. Подсказка со стороны заставляла людей внезапно замечать скрытую, диковатую прелесть Насти. Трудно сказать, в чем была эта прелесть: то ли в застенчивом, очень юном, хотя Насте было далеко за тридцать, странно-глубоком и проницательном взгляде ее глаз, то ли в горделивой посадке головы, то ли еще в чем. Этот второй образ Насти не был стойким, он быстро исчезал, оставляя по себе недоуменное чувство, и вновь возникала некрасивая, неопределенных лет женщина, с бледным, обветренным лицом и большими, натруженными руками. Много лет назад странное и непрочное очарование Насти привлекло молодого объездчика с конезавода, но началась война, и Настя из невест сразу попала во вдовы. Настя навсегда обиделась на жизнь, и если директору хотелось, чтобы его считали хорошим, то Настя больше всего опасалась, как бы ее не заподозрили в доброте.
Она яростно охраняла свои права: производить уборку от девяти до десяти утра — ни минутой раньше, ни минутой позже; подавать горячую воду для бритья ровно в восемь тридцать; не стелить постелей — это положено делать самим отдыхающим. Каждому, кто посягал на эти ее права, она прямо бросала в лицо: «Не обязана!» Но как-то так получилось, что Настя стелила постели и носила горячую воду по три раза в день и делала множество иных, не обязательных для нее дел. Она по-своему мстила за это, наотрез отказываясь брать те десятки и двадцатипятирублевки, которые пытались навязать ей перед отъездом. У нее делалось при этом такое злое лицо, что отдыхающие, бормоча извинения, неловко прятали взмокшие в ладонях комочки денег.
Вся жизнь Насти пошла на иной лад, когда ее назначили уборщицей в спецкорпус. Сначала она восприняла приказ директора как грубое посягательство на ее права, и даже грозное слово «сам» не произвело на нее никакого впечатления. Но, очарованная невиданным убранством комнат, она потеряла вдруг всякую охоту протестовать. А потом в этих комнатах сосредоточился весь смысл ее существования.
Настя отдалась новой заботе со всей страстью своего нерастраченного сердца. Постепенно в ее сознании сложился удивительный, сказочный образ того, кто должен приехать и воцариться среди этого великолепия. Она верила, что это необыкновенный, ни на кого не похожий человек, если о нем проявляют столько заботы, если и незримый он заставляет ежедневно, ежечасно помнить о себе. И для Насти не было большей радости, чем заботиться о комнатах, которые должны были принять его. Но она не забросила и прежних обязанностей. С обычной своей неистребимой добросовестностью убирала она оба этажа подсобного корпуса: мела полы, опрастывала пепельницы, начищала до стеклянного блеска ванну и умывальники, меняла воду в графинах, перетряхивала коврики и даже, ворча про себя, стелила постели. Но все это не затрагивало ее сердца, все это принадлежало будням, той жизни, которой можно было бы и не жить. Зато она жила страстно, трепетно и полно, когда очередь доходила до заветных покоев. Здесь ее обычная работа становилась творчеством. Можно просто вымыть окно, а можно сотворить чудо: сделать его таким прозрачным, сверкающим, солнечным, что оно словно втягивает в комнату и синь неба, и белизну снега, и зелень хвои; исчезают стены, комната становится частью простора. Одно дело — навести в комнате порядок, другое — когда вещи находят в пространстве комнаты свое единственное место; поставить шкаф не прямо, а чуть наискось, немного выдвинуть телевизор, перенести цветы с тумбочек на середину овального стола — и все вдруг становится иным: вместо скучного порядка — красота.
Почти каждый день приносил Насте маленькую находку, и директор, проверявший время от времени готовность нежилых покоев, чувствовал нечто, чему и сам не мог подыскать названия. Он не замечал перемен, все как будто оставалось по-прежнему, но почему-то вид этих комнат каждый раз дарил его новой радостью и все растущим ощущением безопасности.
Насте казалось кощунственным самое предположение, что эти комнаты может занять первый попавшийся, случайный человек. Колебания директора оскорбляли ее: никто не смеет переступить порог этого дома, кроме самого…
Но проходили дни, недели, месяцы — никто не приезжал. Минул год, быстро покатился вслед ему второй, а комнаты по-прежнему оставались необитаемыми и холодными, ибо их не согревало присутствие человека; по-прежнему сверкали вещи никому не нужной чистотой; по-прежнему пялился белесым оком слепой и немой телевизор; разучившиеся бегать шары, казалось, жирели и пухли на травяной зелени бильярда; красивое, в резной оправе зеркало не отражало ни одного человеческого лица, кроме бледно-смуглого, с жестко обтянутыми скулами и черными, запавшими глазами лица Насти; ни одна одурманенная сном голова не касалась тугого, прохладного крахмала подушек.
Тщетное ожидание, даром потраченные заботы, впустую израсходованный пыл постепенно породили в Насте ненависть. Ее обманули. Обманул не директор — что ей до него! — обманул тот, кого она с таким страстным нетерпением ждала.
Но думать о том, что жданный гость не приехал, значило по-прежнему ждать его, а Настя не могла — не хотела больше ждать. Она перестала что-либо трогать, перемещать в комнатах, а Василию Петровичу казалось, что Настя стала халатно относиться к своим обязанностям. Он водил ладонью по крышке телевизора, по ручкам кресел, но нигде не находил ни пылинки; он трогал пальцем стекла, и палец визжал на чисто промытой, насухо вытертой глади; топтался на ковриках, тщетно пытаясь вызвать хоть облачко пыли. Придраться было не к чему. И все же чего-то не хватало, и Василий Петрович недовольно хмурил брови.
Между тем презрение Насти к незримому жильцу росло и наконец охватило все ее существо. Ей казалось теперь жесточайшей несправедливостью, что ему отданы эти просторные комнаты, полные света и воздуха, все эти красивые и нужные вещи.
Однажды Василий Петрович возвращался домой после одинокой ночной прогулки. Он очень любил этот час около полуночи, когда весь дом отдыха со всеми окружающими его службами покоился во сне; когда он переставал ощущать вечную, докучную требовательность людей; когда его уже не могли потревожить ни отдыхающие, ни сестра-хозяйка, ни шеф-повар, ни бухгалтер, ни кладовщик, ни садовник, ни внезапный контролер из министерства, ни телефонный звонок из колхозов, которым всегда что-нибудь нужно от него; ни жена, которая никак не может взять в толк, что он директор, а не хозяин дома отдыха. Правда, это незатейливое счастье выпадало ему довольно редко, обычно усталость укладывала его на лопатки, едва оканчивался трудовой день.
Ночь окутывала территорию дома отдыха тьмой, чуть просквоженной зеленоватым светом народившегося месяца. В этой зеленоватой тьме все казалось нарядным, прибранным, ладным, нужным и красивым: даже высокие, жестко обледеневшие по горбине сугробы снега обочь дорожек и аллей, даже невыносимо уродливая днем гипсовая фигура оленя, похожего на овчарку с на смех приставленными рогами.
Хорошо и покойно думалось обо всем: о том, что самое трудное в жизни осталось позади и теперь можно медленно и сладко засыпать в тепле постели, не опасаясь, что тебя подымут среди ночи; что в отношениях между людьми все больше укрепляется дух взаимопонимания и доверия; что можно, не боясь недоброжелателей, от души стараться сделать жизнь отдыхающих лучше, сытее, спокойнее и веселее, да и свою жизнь также…
Василий Петрович завернул за угол дома и вдруг замер, чуть осадив назад и косо задрав голову, как конь, наскочивший на плетень: в окнах необитаемого флигеля горел свет. Точнее, свет горел в кабинете, спальне и бильярдной, откуда доносился сухой, костяной треск шаров. В гостиной было темно, но там звучала музыка, и когда Василий Петрович, преодолев мгновенное оцепенение, шагнул вперед, он увидел на противоположной окнам стене гостиной трепещущий, бледно-сиреневый отсвет и понял, что там работает телевизор.
Какое-то странное чувство пронизало Василия Петровича. На миг ему почудилось, что вещи, прискучив своей ненужностью, взбунтовались и без помощи человека зажили своей самостоятельной жизнью: зажглись лампы, забегали шары по зеленому полю бильярда, ожил телевизор на радость креслам, тумбочкам, столу и диванам. Но это диковатое чувство сменилось тут же другим, более трезвым, хотя и столь же щемящим: свершилось!.. То, чего он с таким трепетом ждал более года и чего почти перестал ждать, — свершилось. Знатный гость словно нарочно прибыл в отсутствие директора, когда никто его не ждал, и таинственным, непонятным образом отыскал предназначенные ему покои, проник в них без ключа и хозяйской, уверенной властью враз оживил неживое.
Но и эта мысль лишь на миг, не более, овладела сознанием Василия Петровича и вытеснялась тоскливым недоумением: нет, не может этого быть…
Став зачем-то на носки, он, почти крадучись, сошел с дорожки в талый, рыхлый снег и приблизился к окну.
У телевизора, на экране которого мерцало голубоватое пятно, перечеркнутое быстро бегущими куда-то тонкими линиями, сидела, сложив на коленях большие руки, уборщица Настя. Справа от нее, широко открыв глаза и рот, притулилась десятилетняя дочь дворника Степана Клавка, а по левую — сладко дремал в глубоком кресле Клавкин меньшой брат. Сквозь дверную щель было видно, как у залитого светом двух люстр бильярда трудился их отец, дворник Степан, часто и неумело тыкая острием кия в шары.
Она решилась, она нарушила запрет! Открыто, вызывающе проникла она в этот очарованный мир, воцарилась в нем полноправной хозяйкой и ввела в него Степана. Со странным замиранием ощутил Василий Петрович, что он видит сейчас что-то очень хорошее, очень правильное, очень нужное. Но он тут же поднял руку и резким, грубым движением, так что зазвенели стекла, постучал в окно…
А затем Василий Петрович орал, грозил, топал ногами, заходясь и пьянея от собственного крика. Он так старался, словно рассчитывал, что его яростное негодование достигнет ушей того, чьи права были столь грубо нарушены. Неизвестно, услышал ли его сам, но нарушители остались глухи к директорскому гневу. Держа за руки детей, они прошли мимо директора со спокойным и строгим достоинством.
И, глядя на их суровые, почти торжественные лица, Василий Петрович вдруг осекся, замолчал, с удивлением прислушиваясь к странному, новому, незнакомому ощущению, которое подымалось, росло внутри него, пронизывая до кончиков пальцев, ощущению невыносимой гадливости к самому себе.