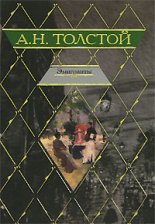Петр Первый Толстой Алексей
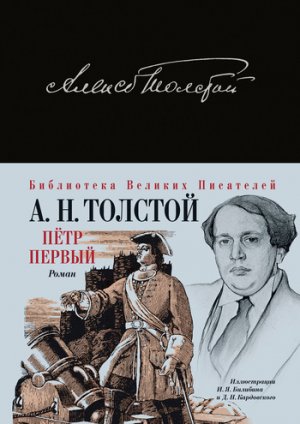
Алексей оттолкнул болтливого мужика. Подойдя к воротам, попробовал — крепки ли.
— Ребята, неси бревно…
Яким отошел в сторону. Помаргивая, с любопытством глядел — что теперь будет? Солдаты раскачали бревно, ударили в мерзлые брусья ворот. После третьего удара отдаленное пение раскольников затихло.
. . . . . .
— Иди в моленную…
— Не пойду, сказал тебе, отвяжись, — угрюмо повторил бесноватый мужик…
Нектарий вошел со двора, запыхавшись, на бороде — длинные капли воска. Зрачки побелевших глаз сузились в маковое зерно: не то пугал, вернее, был вне себя. Завопил перехваченным горлом:
— Евдоким, Евдоким, настал Страшный суд… Душу спасай! Один час остался до вечных мук… Ох, ужас! Бесы-то как в тебе ликуют! Спасайся!
— Да ну тебя в болото! — закричал Евдоким, злобно замотал башкой. — Каки таки бесы? Сроду их во мне не было. Сам иди ломайся перед дураками…
Нектарий поднял лестовку. Бесноватый мужик, нагнувшись, так поглядел исподлобья, — старец на минуту изнемог, присел на лавку. Помолчали…
— Ондрюшка где?
— А черт его знает, где твой Ондрюшка…
— Нет, проклятый, нет тебе спасения…
— Ладно уж, не причитывай…
Старец сорвался — поглядеть, не схоронился ли за печью послушник, — страха ради живота своего… На дворе в это время бухнуло, затрещало.
— Ворота ломают, — осклабясь, сказал мужик.
Нектарий споткнулся, не дойдя до печи, неистово начал дрожать. Парусом раздулась его мантия, когда поспешил на двор. Оставил дверь настежь.
— Ондрюшка, — позвал мужик, — дверь запри, студено.
Никто не ответил. Он вытащил ерш из стены, ругаясь, пошел, захлопнул дверь.
— Хорошего здесь не жди. Уходить надо.
Заглянул за печку. Там, в щели между стеной и печью, стоял Андрюшка Голиков, — видимо, без памяти, белый. Чуть слышно икал. Евдоким потянул его за руку:
— Умирать, что ли, неохота? Неохота — и не надо: без огня обойдешься… Ключ найди, слышь. Куда ключ старик спрятал? Цепь хочу снять. Ондрюшка! Очнись…
. . . . . .
Все стояли на коленях. Женщины безмолвно плакали, прижимая детей. Мужчины — кто, уронив волосы, закрыл лицо корявой ладонью, кто безмысленно глядел на огонь свечей. Старец ненадолго ушел из моленной. Отдыхали, — измучились за много часов: ему мало было того, что все покорны, как малые дети… Страшно кричал с амвона: «Теплого изблюю из уст! Горячего хочу! Не овец гоню в рай, — купины горящие!..»
Трудно было сделать, как он требовал: загореться душой… Люди все здесь были ломаные, ушедшие от сельской истомы, оттуда, где не давали обрасти, но, яко овцу, стригли мужика догола. Здесь искали покоя. Ничего, что пухли от болотной сырости, ели хлеб с толченой корой: в лесу и в поле все-таки сам себе хозяин… Но, видно, покой никто даром не давал. Нектарий сурово пас души. Не ослабляя, разжигал ненавистью к владыке мира — антихристу. Ленивых в ненависти наказывал, а то и вовсе изгонял. Мужик привык издавна — велят, надо делать. Велят гореть душой, — никуда не подашься — гори…
Нынче старец мучил особенно, видимо — и сам уморился… Порфирий на клиросе читал отрешенным высоким голосом. Под дощатым куполом стоял пар от дыхания. Капало с потолка…
Старец неожиданно скоро вернулся.
— Слышите! — возопил в дверях. — Слышите слуг антихристовых?
Все услышали тяжелые удары в ворота. Он стремительно прошел по моленной, задевая краем мантии по головам. Вздымая бороду, с размаху три раза поклонился черным ликам. Обернулся к пастве до того яростно, — дети громко заплакали. У него в руках были железный молоток и гвозди.
— Душа моя, душа моя, восстани, что спишь? — возопил. — Свершилось, — конец близко… Места нам на земле не осталось — только стены эти. Возлетим, детки… В пламени огненном. Над храмом, ей-богу, сейчас в небе дыру видел преогромную. Ангелы сходят к нам, голубчики, радуются, милые…
Женщины, подняв глаза, залились слезами. Из мужиков тоже кое-кто тяжело засопел…
— Иного времени такого — когда ждать? Само царство небесное валится в рот… Братья, сестры! Слышите — ворота ломают… Рать бесовская обступила сей остров спасения… За стенами — мрак, вихрь смрадный…
Подняв в руках молоток и гвозди, он пошел к дверям, где были припасены три доски. Приказал мужикам помочь и сам стал приколачивать доски поперек двери. Дышал со свистом. Молящиеся в ужасе глядели на него. Одна молодая женщина, в белом саване, ахнула на всю моленную:
— Что делаете? Родные, милые, не надо…
— Надо! — закричал старец и опять пошел к амвону. — Да еще бы в огонь христианин не шел? Сгорим, но вечно живы будем. (Остановясь, ударил молодуху по щеке.) Дура! Ну, муж у тебя, дом у тебя, сундук добра у тебя… А затем что? Не гроб ли? Жалели мы вас, неразумных. Ныне нельзя… Враг за дверями… Антихрист, пьян кровью, на красном звере за дверями стоит. Свирепый, чашу в руке держит, полна мерзостей и кала. Причащайтесь из нее! Причащайтесь! О, ужас!
Женщина упала лицом в колени, затряслась, все громче начала вскрикивать дурным голосом. Другие затыкали уши, хватали себя за горло, чтобы самим не заголосить…
— Иди, иди за дверь… (Опять — удары и треск.) Слышите! Царь Петр — антихрист во плоти… Его слуги ломятся по наши души… Ад! Знаешь ли ты — ад?.. В пустотной вселенной над твердью сотворен… Бездна преглубокая, мрак и тартарары. Планеты его кругом обтекают, там студень лютый и нестерпимый… Там огонь негасимый… Черви и жупел! Смола горящая… Царство антихриста! Туда хочешь?..
Он стал зажигать свечи, пучками хватал их из церковного ящика, проворно бегал, лепил их к иконам — куда попало. Желтый свет ярко разливался по моленной…
— Братья! Отплываем… В царствие небесное… Детей, детей ближе давайте, здесь лучше будет, — от дыма уснут… Братцы, сестры, возвеселитесь… Со святыми нас упокой, — запел, раздувая локтями мантию…
Мужики, глядя на него, задирая бороды, подтягивая, поползли на коленях ближе к аналою. Поползли женщины, пряча головы детей под платами…
Стены моленной вздрогнули: в двери, зашитые досками, подпертые колом, ударили, ударили чем-то со двора. Старец влез на скамейку, прижал лицо к волоковому окошечку над дверями:
— Не подступайте… Живыми не сдадимся…
. . . . . .
— Ты будешь старец Нектарий? — спросил Алексей Бровкин. (Ворота они раскрыли, теперь ломились в дверь моленной.) Из длинного окошка боком глядело на него белое стариковское лицо. Алексей ему — со злобой: — Что вы тут с ума сходите?
С трудом высунулась стариковская рука, двоеперстно окрестила царского офицера. Сотня голосов за стеной ахнула: «Да воскреснет бог». Алексей хуже рассердился:
— Не махай перстами, я тебе не черт, ты мне не батька. Выходите все, а то дверь высажу.
— А что вы за люди? — странно, насмешливо спросил старец. — Зачем в такое пустое лесное место заехали?
— А такие мы люди, — с царской грамотой люди. Не будете слушать — всех перевяжем, отвезем в Повенец.
Стариковская голова скрылась, не ответив. Что было делать? Яким отчаянно шептал: «Алексей Иванович, ей-богу, сожгутся…» Опять там затянули «со святыми упокой». Алексей топтался перед дверями, от досады пошмыгивая носом. Ну, как уйти? Разнесут по всем скитам, что-де прогнали офицера. Снял варежки, подпрыгнул, ухватился за край окошка, подтянулся, увидел: в горячем свете множества свечей обернулись к нему ужаснувшиеся бородатые лица, обороняясь перстами, зашипели: «Свят, свят, свят». Алексей спрыгнул:
— Давай еще раз в дверь…
Солдаты раз ударили. Стали ждать. Тогда из чердачного окошка полезли трое (Яким признал Степку Бармина и Петрушку Кожевникова), в руках — охотничьи луки, за поясом — по запасной стреле, у третьего — пищаль. Вылезли на крышу, глядели на солдат. Мужик с пищалью сказал сурово:
— Отойдите, стрелять будем. Нас много.
От дерзости такой Алексей Бровкин растерялся. Будь то посадские какие-нибудь людишки, — разговор короткий. Это были самые коренные мужики, их упрямство он знал. Тот, с пищалью, — вылитый его крестный покойный, толстоногий, низко подпоясанный, борода жгутами, медвежьи глаза… Не стрелять же в своего, такого. Алексей только погрозил ему. Яким ввязался:
— Тебя как зовут-то?
— Ну, Осип зовут, — неохотно ответил мужик с пищалью.
— Что ж, Осип, не видишь — господин офицер и сам подневольный. Вы бы с ним по любви поговорили, столковались.
— Чего он хочет? — спросил Осип.
— Дайте ему человек десять, пятнадцать в войско, да нашим солдатам дайте обогреться. Ночью уйдем.
Петрушка и Степан, слушая, присели на корточки на краю крыши. Осип долго думал.
— Нет, не дадим.
— Почему?
— Вы нас по старым деревням разошлете, в неволю. Живыми не дадимся. За старинные молитвы, за двоеперстное сложение хотим помереть. И весь разговор…
Он поднял пищаль, дунул на полку из рога, подсыпал пороху и стоял, коренасто, над дверью. Что тут было делать? Яким посоветовал махнуть рукой на эту канитель: Нектария не сломить.
— Он упрям, я тоже упрям, — ответил Алексей. — Без людей не уйду. Возьмем их осадой.
Двоих солдат послали за лошадьми, — отпрячь, кормить. Четверых — греться в келью. Остальным быть настороже, чтобы в моленную не было проноса воды и пищи. День кончался. Мороз крепчал. Раскольники похоронно пели. Петрушка и Степан посидели, посидели, перешептываясь, на крыше, поняли — дело затяжное.
— Нам до ветру нужно, — стали просить. — На крыше — грех, пустите нас спрыгнуть.
Алексей сказал:
— Прыгайте, не трогнем.
Осип вдруг страшно затряс на них бородищей. Петрушка и Степан помялись, но все-таки, зайдя за купол, спрыгнули на солому.
Старец Нектарий тоже, видимо, понял, что крепко взят в осаду. Два раза приближал лицо к волоковому окну, подслеповато вглядывался в сумерки. Алексей пытался заговорить, — он только плевал. И опять из моленной доносился его охрипший голос, заглушавший пение, мольбы, детский плач. Там что-то творилось нехорошее.
Когда совсем помрачнел закат, на крыше из слухового окна вылезло человек десять мужиков без шапок. Махая руками, беснуясь, закричали:
— Отойдите, отойдите!..
Все торопливо начали раздеваться, снимали полушубки, валенки, рубахи, портки…
— Нате! — хватали одежу, кидали ее вниз солдатам. — Нате, гонители! Метайте жребий. Нагими родились, нагими уходим…
Голые, синеватые, бросались ничком на крышу, терли снегом лицо, всхлипывали, вскрикивали, вскочив, поднимали руки, и все опять, — с бородами, набитыми снегом, — улезли в слуховое окно. Остался один Осип. Не подпуская близко к дверям, прикладывался из пищали в солдат… Алексей очень испугался голых мужиков. Яким плачуще вскрикивал в сторону окошка:
— Детей-то пожалейте. Братцы! Бабочек-то пожалейте!
В моленной начался крик, не громкий, но такой, что — затыкай уши. Солдаты стали подходить ближе, лица у всех были важные.
— Господин поручик, плохо получается, пусть уж Осип в нас пужанет, мы дверь высадим…
— Высаживай! — крикнул Алексей, сжимая зубы.
Солдаты живо положили ружья, опять схватились за бревно. Купол с едва видимым на закате крестом вдруг покачнулся. Тяжело сотряслась земля, грохнул взрыв, в грудь всем ударило воздухом. Из щелей под крышей показался дым, повалил гуще, озарился… Языки огня лизнули меж бревен…
Когда дверь под ударом распалась, оттуда выскочил весь горящий, с обугленной головой человек, как червь начал извиваться на снегу. Внутри моленной крутило дымным пламенем, прыгали, метались огнем охваченные люди. Огонь бил из-под пола. Уже валили дымом ометы соломы вокруг.
От нестерпимого жара солдаты пятились. Никого спасти было нельзя. Сняв треуголки, крестились, у иных текли слезы. Алексей, чтобы не видеть ничего, не слышать звериных воплей, ушел за разломанные ворота. Коленки тряслись, подкатывалась тошнота. Прислонился к дереву, сел. Снял шапку, остужал голову, ел снег. Зарево ярче озаряло снежный лес. От запаха жареного мяса некуда было скрыться.
Он увидел: невдалеке по багровому снегу, увязая, идут три человека. Один отстал и, будто заламывая руки, глядел, как много выше леса, над скитом взвивается из валящего дыма огненный язык, ввысь уносится буран искр… Другой беснующийся человек, тащил за руку небольшого длиннобородого старичка, в нагольном полушубке поверх мантии.
— Ушел он, ушел, сукин сын! — кричал беснующийся человек, подтаскивая старичка к царскому офицеру. — Разорвать его надо… Через подполье лазом из огня ушел… Нас с Ондрюшкой хотел сжечь, черт проклятый!..
. . . . . .
Велено было царским указом: «По примеру всех христианских народов — считать лета не от сотворения мира, а от рождества Христова в восьмой день спустя, и считать новый год не с первого сентября, а с первого генваря сего 1700 года. И в знак того доброго начинания и нового столетнего века в веселии друг друга поздравлять с новым годом. По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, против образцов, каковые сделаны на гостином дворе у нижней аптеки. Людям скудным хотя по древу или ветви над воротами поставить. По дворам палатных, воинских и купеческих людей чинить стрельбу из небольших пушечек или ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А где мелкие дворы — собрався пять или шесть дворов — зажигать худые смоляные бочки, наполняя соломою или хворостом. Перед бурмистерскою ратушей стрельбе и огненным украшениям по их рассмотрению быть же…»
. . . . . .
Звона такого давно не слышали на Москве. Говорили: патриарх Адриан, ни в чем не смея перечить царю, отпустил пономарям на звон тысячу рублев и пятьдесят бочек крепкого патриаршего полпива. Вприсядку отзванивали колокола на звонницах и колокольнях. Москва окутана была дымами, паром от лошадей и людей. Визжал морозный снег. Деревья гнулись от инея. В чаду стояли кабаки, открытые день и ночь. За дымами солнце поднималось румяное, небывалое, — отсвечивало на широких бердышах сторожей у костров.
Сквозь колокольный звон по всей Москве трещали выстрелы, басом рявкали пушки. Вскачь проносились десятки саней, полные пьяных и ряженых, мазанных сажей, в вывороченных шубах. Задирали ноги, размахивая штофами, орали, бесновались, на раскатах вываливались кучей под ноги одуревшему от звона и дыма простому народу.
Всю неделю до крещенья гудела, шумела Москва. Занималась пожарами. Хорошо, что было безветренно. В город сбежалось много разбойников из окрестных лесов. Только повалит дым где-нибудь за снежными крышами, — скачут в санях недобрые люди — в овечьих сушеных мордах, в скоморошьих колпаках, ломают ворота, кидаются в горящий дом, — грабят, разбивают все дочиста. Иных ловили, иных народ задавил. Шел слух, будто в Москве гуляет сам Есмень Сокол.
Царь с ближними, с князем-папой, старым беспутником Никитой Зотовым, со всешутейшими архиепископами, — в архидьяконской ризе с кошачьими хвостами, — объезжал знатные дома. Пьяные и сытые по горло, — все равно налетали, как саранча, — не столько ели, сколько раскидывали, орали духовные песни, мочились под столы. Напаивали хозяев до изумления и — айда дальше. Чтобы назавтра не съезжаться из разных мест, ночевали вповалку тут же, на чьем-нибудь дворе. Москву обходили с веселием из конца в конец, поздравляли с пришествием нового года и столетнего века.
Посадские люди, тихие и богобоязненные, жили эти дни в тоске, боялись и высунуться со двора. Непонятно было — к чему такое неистовство? Черт, что ли, нашептывал царю мутить народ, ломать старый обычай — становой хребет, чем жили… Хоть тесно жили, да честно, берегли копейку, знали, что это так, а это не так. Все оказалось дурно, все не по нему.
Не признававшие крыжа и щепоти собирались в подпольях на всенощные бдения. Опять зашептали, что дожить только до масленой: с субботы на воскресенье вострубит труба Страшного суда. В Бронной слободе объявился человек, собирал народ в баню, кружился, бил себя ладошами по лицу, кричал нараспев, что-де он — господь Саваоф, и с ручками и с ножками, и падал весь в пене… Другой человек, космат, гол и страшен, являлся народу, держа в руке три кочерги, пророчил невнятно, грозил бедствиями.
У ворот Китая и Белого города прибили второй царский указ: «Боярам, царедворцам, служилым людям приказным и торговым ходить отныне и безотменно в венгерском платье, весной же, когда станет от морозов легче, носить саксонские кафтаны».
На крюках вывесили эти кафтаны и шляпы. Солдаты, охранявшие их, говорили, что скоро-де прикажут всем купчихам, стрельчихам, посадским женкам, попадьям и дьяконицам ходить простоволосыми, в немецких коротких юбках и под платьем накладывать на бока китовые ребра… У ворот стояли толпы в смущении, в смутном страхе. Передавали шепотом, будто неведомый человек с тремя кочергами закидал калом такой же вот кафтан на крюке и кричал: «Скоро не велят по-русски разговаривать, ждите! Понаедут римские и лютерские попы перекрещивать весь народ. Посадских отдадут немцам в вечную кабалу. Москву назовут по-новому — Чертоград. В старинных книгах открылось: царь-де Петр — жидовин из колена Данова».
Как было не верить таким словам, когда под крещение приказчики купца Ревякина стали вдруг рассказывать — бегая в рядах по лавкам — о случившейся великой и страшной жертве во искупление мира от антихриста: близ Выг-озера несколько сот двуперстно молящихся сожглись живыми. Над пожарищем распалось небо, и видима стала твердь стеклянная и престол, стоящий на четырех животных, на престоле сидящий господь, ошую и одесную — дважды по двунадесят старцев и херувимы окрест его, — «двомя крылы летаху, двомя очи закрываху, двомя же ноги». От престола слетел голубь, и огнь погас, и на месте гари стало благоухание.
В Ямском приказе какой-то человек, обыкновенного роста и вида, уходя, бросил на пол письмо. Человека этого окликнули: «Чего обронил, эй?» Испугавшись, он побежал и скрылся. На запечатанном письме стояло: «Поднести великому государю, не распечатав». Дьяк Павел Васильевич Суслов едва-едва трясущимися руками попал в рукава шубы. Грозя ездовому — спустить со спины шкуру, — поскакал в Преображенское.
Караульный офицер в дворцовых сенях с презрением оглянул дьяка от лысины до сафьяновых сапожек на меху: «Нельзя к царю». Павел Васильевич, ослабев от тревоги, сел на лавку. Народу толпилось много: наглые военные, русские — все большого роста, широкие в плечах, здоровые, как быки; иноземцы — помельче, но приятнее лицом (их, бедняг, за последнее время много начали выгонять со службы за глупость и пьянство); ловкие владимирские, ярославские, орловские ходоки, промышленники, купчишки; рядом сидели два великородных боярина, один — с обвязанной головой, другой — с черным синяком под глазом: после шумства прибыли бить челом друг на друга; заложив руки за спину, в коротеньком коричневом кафтанчике, в нитяном парике, похаживал, ни на кого не глядя, иностранец с добрым, голодным лицом, в очках — математик, химик, славный изобретатель перпетуум-мобиле — вечного водяного колеса — и медного человека-автомата, играющего в шашки и вино или пиво извергающего из себя согласно натуре. Математик предлагал царю более ста патентов, могущих обогатить Русское государство.
Со двора в сени ввалился Никита Зотов, пьяный, с невиданной толщины человеком: «Не робей, он уродство любит, он тебе казны отвалит» — князь-папа волок толстяка в царские покои, Павел Васильевич, загорясь служебной ревностью, подошел к караульному офицеру и в лицо ему сказал сдавленно: «Слово и дело!» Сразу в сенях стало тихо. Офицер вытянулся, с коротким дыханием вытащил шпагу: «Идем».
Письмо, поданное Павлом Васильевичем царю в собственные руки (у Петра болела голова, — встретил дьяка насупясь, нетерпеливо), письмо это — немедленно вскрытое — было подписано Алешкой Курбатовым, дворовым человеком князя Петра Петровича Шереметьева. Прочтя мельком, Петр взял себя ногтями за подбородок: «Гм!» — прочел вдругорядь, закинул голову: «Ха!» — и, забыв о Суслове, стремительно зашагал в столовую палату, где в ожидании обеда томились ближние.
— Господа министры! — У Петра и глаза прояснели. — Кормишь вас, поишь досыта, а прибыли от вас много ли?.. Вот! (Тряхнул письмом.) Человечишко худой, холоп, — придумал! Обогащение казны… Федор Юрьевич… (Обернулся к посапывающему князю Ромодановскому.) Прикажи отыскать, привезти Курбатова сейчас же. И обедать без него не сядем… То-то, господа министры, — орленую бумагу надо продавать: для всех крепостей, для челобитных, — бумагу с гербом, от копейки до десяти рублев. Понятно? Денег нет воевать? Они — вот они — денежки!
Глава третья
Еще не светало, а уже по всему дому хлопали двери, скрипели лестницы, — девки волокли на двор коробья, узлы, дорожные сундуки. Князь Роман Борисович закусывал за кое-как собранным столом, при сальной свече. Хлебая щи, недовольно оборачивался.
— Авдотья же… Антонида… Олька!.. О господи!.. Приподняв живот, тянулся за штофом. И мажордом, туда же, пропал. Ну вот — по лестнице загрохотал кто-то вниз башкой.
— Тише, дьяволы!.. О господи…
Вбежала шалая Антонида, — волосы растрепаны, на самой — старая матернина шуба.
— Антонида, сядь ты, ешь…
— Да, ах, тятенька…
Схватила пуховый платок, кинулась в сени. Роман Борисович стал искать — чего бы еще съесть. Над головой (в светлице) поволокли что-то, уронили, — посыпался сор с дощатого потолка. Что же это такое? Дом ломают?.. Крутя головой, положил осетринки.
В дверь внесло княгиню Авдотью, — в шубе, в теплых платках, — ткнулась у стены на венецианский стул. С перепугу осунулась: за всю жизнь два раза только уезжала из Москвы — к Троице и в Новый Иерусалим. И вдруг такой путь и — наспех…
— Чего ты загодя обмоталась платками? Размотайся, поешь. В дороге не еда, слезы.
— Роман Борисович, далек ли поход-то?
— В Воронеж, мама.
— Ба-а-атюшки…
Всхлипнула без слез. Сверху — визгливый голос Ольги: «Маменька, парики вы куда засунули?» Авдотью легко, как лист, сорвало со стула, унесло за дверь.
Одно утешало Романа Борисовича: знал, — такая же суета сейчас по всей Москве. Князь-кесарь, хозяин и страшилище столицы, третьего дня объявил царский указ: палатным людям с женами и детьми, именитым купцам и знатным людям из Немецкой слободы — ехать в Воронеж на спуск корабля «Предестинация», столь великого, что мало и за границей таких видано. Из-за близкой распутицы ехать не мешкав, чтобы захватить санный путь.
Роман Борисович, хотя и с натугой, но уже начинал все-таки разбираться в политике. В январе, после шумных праздников, пришли из Константинополя от великого посла Емельяна Украинцева письма: турки совсем было шли на вечный мир, только просили небольших уступок, дабы раздраженные сердца могли прийти к умягчению, и Емельян Украинцев даже склонил их к той мысли, что мы непреклонно стоим на Карловицком конгрессе обозначенном фундаменте: «кто чем владеет, да владеет», — но вдруг что-то в Цареграде случилось, какой-то враг вмешался в переговоры, и турки злее, чем вначале, стали задираться: требовать назад Азов и город Казыкерман с приднепровскими городками, требовали по-прежнему — платить московским царям дань крымскому хану. О гробе господнем и поминать не хотели.
Петр, получив эти вести, кинулся в Воронеж. Александр Данилович, выгнав березовым веником остатки праздничного хмеля, поехал в пышной карете по именитым купцам. Говорил им сердечно: «Выручать надо. Если к весне турок не устрашим превеликим флотом — миру не быть. Прахом пойдут все начинания».
Лев Кириллович, в свой черед, со слезами говорил в Кремле высоким палатным людям: «Бесчестье можем ли стерпеть? По-прежнему платить дань крымскому хану, ждать каждую весну татарских орд на лучших землях наших? Можем ли далее сносить поругания турками и католиками гроба господня? Как при Минине и Пожарском, исподнюю сорочку отдадим на построение великого воронежского флота».
Кораблестроительным кумпаниям пришлось снова развязывать кошель. По Москве пошли зловещие слухи о близкой войне: едва ли не весь мир, говорят, подымался с оружием друг на друга. Иноземцы, шнырявшие, как мыши, в Москву — из Москвы, разносили по всей Европе, что Москва-де не прежняя, — тихая обитель истинного христианства, — полна солдат и пушек, молодой царь заносится гордостью, советчики его дерзки… Москва-де лезет на рожон…
Давеча в Кремле Роман Борисович сгоряча обещал поставить полный годовой запас корма на заложенный корабль «Предестинация». Надуваясь багровой яростью, кричал перед лицом Льва Кирилловича: «Сам сяду на коня, а государю в бесчестье не быть». И даже, когда ночью, спустясь со свечой в тайный подвал, вытащил в углу из сырой земли горшок и отсчитывал копейками полтораста рублев на кумпанство, — свою долю, — даже и тогда один в подполье, ощупывая при слабом огоньке каждую копеечку, не допускал себя до противных мыслей. Не тот уже был князь Буйносов, — пообтесали.
Противные мысли задавил в себе, замкнул на тридевять замков. С такими же мыслями князь Лыков сидит сейчас у себя в деревеньке, в опале. Глупый князь Степан Белосельский на пиру у князя-кесаря, пьяный, стал кричать: «Ты мне, что же, и во сне не велишь по-своему думать? Щеки обрили, французские портки ношу, а душу мою — выкуси…» — и сложил кукиш. Князь-кесарь только нехорошо усмехнулся. Назавтра князю Степану указ — ехать в Пустозерск воеводой…
У Романа Борисовича разума было достаточно. Но уж неизвестно, какой нужен разум — угнаться за причудами царя Петра. Будто ему и по ночам чешется — не давать людям покою. Скакать всей Москве в Воронеж… Зачем? В тесноте, в недоедании валяться по худым избенкам на лавках? Водку с матросами пить? Баб-то еще зачем туда тащить? О господи…
Роман Борисович выпил лишнюю чарку, чтобы оглушить растерзанные мысли. В окне светало. Галки сели на голое дерево под окном. Как там царь ни ломай наш покой, а зеленый утренний свет все тот же, что при дедах, те же облака розовели за куполами… Роман Борисович из глубины утробы замычал, не разжимая рта. Слышно, — на дворе зазвякал колокольчик, конюха, запрягая, кричали на коней…
Выехали обозом в двух возках (и еще трое саней с домашней рухлядью, живностью). Колокольчики заливались дорожной грустью. Коломенская дорога была уезжена, но ухабиста. Через каждую версту торчал красный столп, между ними — недавно посаженные березы. Антонида и Ольга считали столпы и березы (более нечем было развлечься в пути, — под мартовским солнцем — ледяной наст по снегу, вдали — коричневые рощи). По воронам на придорожных деревьях девы гадали об амурных встречах. В другом возке Роман Борисович, придавив плечом княгиню Авдотью, посапывал, на ухабах встряхивал губами. Ехали смирно.
В деревне Ульянино, в пятидесяти верстах от Москвы, назначено было кормить. Еще не показались из лощины соломенные крыши, — мимо буйносовского обоза промчался кожаный высокий возок — шестеркой гнедых коней с двумя ездовыми. В стеклянное окошко на дев, завертевшихся от любопытства, равнодушно взглянула томная красавица, укутанная в черные соболя.
— Монсиха, Монсиха, — всполохнулась Антонида, вылезая шеей из материнской шубы. — Ольга, гляди, с ней кавалер… (В глубине пролетевшего возка, действительно, мелькнуло обритое лицо и галун на шляпе.)
— Кенигсек, лопни глаза.
Антонида всплеснула варежками.
— Да что ты?.. Ой, бесстыжая!..
— А ты опомнилась… Кобылица она, немка… Вся Москва про Кенигсека шепчет, один государь слеп…
— Кнутом ее ободрать на площади…
— Этим и кончит…
В деревне едва ли не на каждом дворе стояли обозы, в раскрытые ворота виднелись боярские возки. Деревенские бабы бегали по навозным сугробам, ловя кур. Роман Борисович рассердился на Авдотью:
— Вот они, ваши дурьи сборы, — до свету надо было выехать… Ищи теперь двор…
Велел гнать к царской избе. Такие взъезжие дворы, — в четыре окна, с красным крыльцом о пяти ступенях, — в нынешнем году поставлены были на каждом перегоне до самого Воронежа. Комендантам указано иметь запас кормов и питья и под великим страхом остерегаться тараканов (потому что государь избяных сих зверей пужается).
Комендант выскочил на крыльцо, — при шпаге и паричке, — замахал на подъехавших: «Полно, полно, нельзя». Роман Борисович важно отпихнул его, вошел в сени, за ним княгиня и девы. Комендант отчаянно шипел сзади. Действительно, в обоих покоях — направо и налево из сеней — не протолкаться. Шубы, валенки, шляпы, шпаги валялись горой на полу, суетились сенные девки, пахло щами.
— Тятенька, здесь — верхние, — шепнула Ольга.
Он и сам видел, что нужно уходить без шума. Вдруг, из правой палаты, где смеялись кавалеры в париках, проговорил по-русски немецкий голос:
— Княшна Ольга, княшна Антонина, пошалуйте к нам за стол.
Парики раздвинулись. У накрытого стола — Анна Монс, в красном платье, в дорожном чепчике, держа высокую рюмку с вином, обернулась, улыбаясь, звала… Кавалеры, — саксонский посланник Кенигсек, племянник шведского резидента в Москве Книперкрона — Карл Книперкрон, какой-то еще француз, неизвестный девам, — подскочили снять с княжен шубы. «Ах, мы сами, сами», — девы торопливо сдернули материнскую рухлядишку, сунули в ворох чьих-то шуб. («Погоди, маменька, этот срам мы припомним».) Под руку с кавалерами вошли, обмирая — приседали…
Спиной к запотевшему окошечку на лавке сидел темноволосый мальчик, с большими глазами, с приоткрытым ртом. Нагнув к плечу слабую голову, утомленно глядел на рослых, сыто-румяных людей, видимо оглушавших его говором и хохотом. На нем был ярко-зеленый преображенский кафтанец и сабелька на перевязи, ноги в белых чесанках не доставали до полу.
Роман Борисович, всхлипнув еще на пороге, истово подошел к десятилетнему мальчику, пал лбом на дощатый пол, сопя просил у великого государя-наследника, царевича Алексея Петровича, облобызать ручку.
— Дай, Алешенька, дай ему ручку, — певуче-весело сказала румяная царевна Наталья Алексеевна. (С тех пор как царицу Евдокию увезли в Суздаль, родная тетка Наталья была ему вместо матери.)
Алешенька медленно взглянул на нее, покорно протянул князю Роману пальцы, прикрытые кружевным обшлагом. Тот прилип толстыми губами. Царевич попытался было выдернуть руку, — Ольга и Антонида по всему политесу растопырили перед ним юбки, рослые кавалеры затрясли париками, затопали ногами, присоединяясь к поклону семьи Буйносовых, — темные глаза его налились слезами…
— Поди, поди ко мне, Алешенька… Эк, обступили-то тебя. — Наталья, — полногрудая, русоволосая, с круглым, как у брата, лицом, смешливой ямочкой на подбородке, — привлекла мальчика, прикрыла концом пухового платка. — Ничего, подождем, — подрастет, сам еще будет пужать людей… Так, Алешенька? — Царевна поцеловала его в висок, взяла с тарелки медовый нарядный пряник, надкусила красивыми зубами, протянула царевичу. — Вы, что же, княжны, садитесь, кушайте… А ты, князь Роман, постой с кавалерами, вам после нас соберут…
За столом, кроме Натальи и Анны Ивановны, сидела длинная девица с умным желтоватым лицом, с бровями и ресницами в цвет кожи. Льняные волосы скручены тугим узлом на маковке. Она уже поела — отставив тарелку и недопитую рюмку, улыбаясь, быстро вязала крючком рукоделье из цветной шерсти. Это была приятельница царя Петра — Амалия Книперкрон, дочь шведского резидента.
— Алексей Петрович, пошалуй ваше светлой лишико, — нежно, по-русски проговорила она и приложила вязанье к шее мальчика. — О… ви будете носить этот шарф…
Мальчик без улыбки потерся щекой о ее большую, почти мужскую руку. Анна Монс, сидевшая прямо и вежливо, сладко приподняв уголки губ, сказала тоже по-русски:
— Царевича укачало в возке. Но мы все уверены — царевич храбрый зольдат… Как он лихо носит свою сабельку…
Мальчик из-под локтя тетки, из-за пухового платка недобро взглянул на белолицую немку. Кавалеры, стоявшие за спинками стульев, стали уверять, что царевич действительно выдает все признаки храбреца.
— Батюшка ты наш, надежа-государь… — вдруг заголосил Роман Борисович, выпятил зад, подогнул колени, вплоть глядя в лицо мальчику. — Сядь на доброго коня, возьми сабельку вострую, да побей ты врагов рати несметные… Оборони Русь православную, — одна она на свете, батюшка…
Хотел поцеловать в головку, не посмел, приложился к плечику царевича и, очень довольный, выпрямился, потирая поясницу… Наталья Алексеевна почему-то с испугом глядела на него, Анна Монс, пожав плечиком, снисходительно усмехаясь, сказала:
— На кого же вы, князь Роман, так разгневались? Кажись, ворогов у нас нет, кроме турок, — и с теми хотим мира… Войны у нас не предвидится… (Политично покосилась на Амалию Книперкрон.)
— Что ты, что ты, матушка Анна Ивановна… Дай дорогам подсохнуть, поднимемся великим походом… Недаром войско собираем, льежескими ружьями снабжены… Не для потехи…
Амалия Книперкрон опустила вязанье, глаза ее раскрылись изумлением, рот стал мал, лицо вытянулось. Кавалеры, переглядываясь, слушали, как Буйносов, заносясь хвастовством, расписывал военные приготовления. Саксонский посланник Кенигсек выхватил из камзола табакерку, с испугом совал ее Роману Борисовичу. Но тот: «А ну тебя с табаком-то, погоди».
— Нет и нет, матушка Анна Ивановна, вся Москва о том говорит. Готовимся… Грудью встанем за древние за наши ливонские вотчины…
Но тут Кенигсек наступил князю Роману на ногу. Царевна Наталья, запылав гневным лицом, крикнула:
— Будет тебе пустое болтать… Во сне, что ли, война привиделась? Пьян, видно, со вчерашнего…
Держа за плечи Алешеньку, пошла за пестрядевую занавеску, где щелкали дрова в печи. За царевной уплыла Анна Ивановна с Ольгой и Антонидой, помедлив, ушла и Амалия Книперкрон (у этой так и не сошло с лица изумление). Кавалеры сели за стол. На Романа Борисовича не глядели, будто его и не было. Он понял — не угодил… А чем не угодил? За Русь православную, значит, и заступиться нельзя? Перед иностранцами русскому человеку молчать нужно? Насупясь, глядел на стол. Подавали блюда. Место одно было в конце стола, — последнее. И то уже стыд, что дураком ждал, когда попросят. А ну вас… Князь Роман повернулся, пошел в сени. Там на стульчике около шуб смирно сидела княгиня Авдотья…
— Ты что ж тут как худая дожидаешься?
— Не звали в покои-то, батюшка.
— Не звали тебя!.. Эх, ворона… Породу свою забыла… Идем в другую горницу…
Плотно поев и выпив, Роман Борисович успокоился. Может, и в самом деле что-нибудь лишнее брякнул перед царевичем и царевной… Верхние щепотны, а перед иностранцами — в особенности. Ну, ничего, — со старика не взыщется…
После полудня, завалясь, огрузневший и сонный, в возок, Роман Борисович позевал, размял задом помягче место и беспечально заснул, чувствуя талый мартовский ветерок… Была бы у него черна совесть, нет, совесть — покойна, — где же было догадаться, какие тяжелые и необыкновенные дела воспоследствуют для него из пустяшного, казалось бы, случая на царском взъезжем дворе.
. . . . . .
До Воронежа все-таки хлебнули горя. Не заверни студеный ветер с метелью, пришлось бы тонуть где-нибудь на переправе через речку. Торопясь, бросили своих лошадей, — ехали теперь на перекладных. Чем ближе к Дону, в мимоезжих деревнях мужики становились несговорчивее, глядели угрюмо — зверем, шапки хотели ломать только после окрику. Роман Борисович охрип от лая на каждом взъезжем дворе, требуя лошаденок. Сам заходил в избы, тряс за грудь мужиков: «Да знаешь ты, перед кем стоишь, сукин сын!.. Разорю!»
Мужик, зло сжав зубы, мотался башкой, на печи, как волчата, светились глазами ребятишки, ширококостая баба недобро держала ухват или кочергу: «Нечего нас разорять, боярин, уж разорили, — нет у нас лошадей, уходи с богом».
В одной деревне, дворов в десять, разметанных непогодой, — на косогоре над речкой, — Буйносовым пришлось жить сутки: в деревне — одни бабы, ни мужиков, ни лошадей. Ночевали в черной избе (где человек, стоя, тонул головой в дыму). Княжны стонали, лежа под тулупами на составленных лавках. Дым ел глаза. Бездомно подвывал ветер.
Роман Борисович, пробудившись, услышал голоса на улице, — кто-то, видимо, подъехал. Покряхтел, с неохотой вылез из-под шубы. На дворе — бело, в небе вызвездило меж летящих туч. Справив нужду, князь Роман подошел к воротам. За ними — негромкие голоса:
— …Жуковские мужики по весне все разбегутся, Иван Васильевич…
— Жили, слава богу, до этой самой грязи… Приехал Азмус, — как его там, — антихрист, и — пошло… Наделали черпаков, давай из болота грязь черпать, лепить кирпичи, сушить в ригах… Наши мужики с утра до ночи эту грязь возят, риги ей все забиты… Лошадей покалечили… Ни пахать тебе, ни сеять…
— Царь приезжал… Этого, говорит, мало… Велел поставить мельницу с черпаками, тянуть со дна грязищу-то… При нем ее жгли — брали из риги. Нет, этой повинности мы не вытерпим. Бежать без оглядки…
— По оврагам скрываемся, Иван Васильевич. Ночью только и придешь за куском хлеба. Это разве жизнь?..
— Атаман, скоро ли гиль-то начнется?
Роман Борисович, не замечая, как ветер прохватывает его под накинутой на голову шубейкой, приложил глаза к щели в воротах. Различил (при смутном свете звезд): несколько мужиков понуро стоят около санок с ковровым задком, в них, держа вожжи, — широкий человек в чепане, в казацкой шапке, борода будто обрызгана известью, — пегая. «Ой, ой, этого вора я где-то видел», — страшась, подумал Роман Борисович.
Один из мужиков, — наклоняясь над задком саней:
— На Дону что слышно, атаман?
Пегобородый, перебрав вожжи, ответил важно:
— До лета ждите…
Мужики придвинулись:
— Войны, что ли, ждут?
— Вот дал бы господь…
— Поскорее чем бы нибудь это кончилось…
— Кончится, кончится, — с угрозой пробасил пегобородый. — Зубы у нас есть. — Он сильно повернулся в санях: — Ребята, у кого коня я поставлю?
— Иван Васильевич, ко мне бы… Да черт принес вчера боярина с бабами… Озорничают-то как… Сено, солому раскидали, овес припрятал, — нашли, не поверишь — по ведру засыпают коням… А что мне с него, — он и копейки не даст…
Пегобородый раскрыл рот.
— Ха… — засмеялся. — Ха-ха… Возьми под облучком у меня в мешке ножик… Добудь копейку… Так-то, мужички невольные… (Натянул вожжи.) Ну, — к кому же?
Один кинулся от саней:
— Ко мне, Иван Васильевич, у меня просторно…
Только сейчас вдруг Романа Борисовича пробрало холодом. Постукивая зубами, поспешил в темную избу.
— Авдотья… — тряс угоревшую во сне княгиню. — Куда пистолеты мои засунула? Вставайте, Ольга, Антонида… Огонь вздуйте… Куда сунули кремень, огниво… Мишка, Ванька, вставайте — запрягать…
. . . . . .
Бревенчатый новостроенный царский дворец стоял за рекой, на полуострову, между старым и новым руслами. Петр там почти что и не жил, — ночевал, где застанет его ночь. Во дворце остановилась Наталья Алексеевна с царевичем и вдовая царица Прасковья с дочерьми — Анной Ивановной, Екатериной Ивановной и Прасковьей Ивановной. Туда же вповалку разместили приехавших на празднество боярынь с боярышнями. Из дворца выйти было некуда, кругом — болота, ручьи. Из окон видны одни дощатые крыши корабельных складов, ярко-желтые остовы кораблей на стапелях (по берегу старого Воронежа), овраги с грязным снегом да холмы, щетинистые от пней.
Буйносовы девы в ожидании балов и фейерверков томились у окошка, — вот уж не нашли плоше места! Ни рощи — погулять, ни бережков — посидеть, кругом — тина, мусор, щепки… С берега, с желтых кораблей несутся стукотня, мужичьи крики. Туда часто подъезжали верхами кучи кавалеров. Но девы только, — ах!.. — издали на стройных всадников. Никто не знал, когда начнутся развлечения. Теперь по ночам у кораблей зажигали костры — работали всю ночь. Девы занавешивали юбками оба окошка в светелке, чтобы не просыпаться от страшных отблесков пламени…
Когда на дворе, огороженном бревенчатыми стенами, подсохла грязь, выходили на крылечко, на солнцепек, — скучать. Конечно, можно было развлечься с девами, сидевшими на других крылечках: с княжной Лыковой дурищей — поперек себя шире, даже глаза заплыли, или княжной Долгоруковой — черномазой гордячкой (скрывай не скрывай — вся Москва знала, что у нее ноги волосатые), или с восемью княжнами Шаховскими, — эти — выводок зловредный — только и шушукались между собой, чесали языки. Ольга и Антонида не любили бабья.
Однажды во двор нагнали мужиков, — в одно утро поставили качели и карусель с конями и лодками. Но к потехам не пробиться: то царевич хотел кататься, толкая мамок, чтобы не держали его за поясок, то маленькие царевны Иоанновны. С ними выходил наставник, — в одном кармане кафтана — шелковый платок для вытирания носа, в другом — пучок прутиков — розга, — немец Иоганн Остерман, с весьма глупым большим лицом, насупленным от важности, в круглых очках. Он усаживал царевен в лодочки, сам садился на расписного коня, говорил мужикам, крутившим карусель: «Нашинай, абер лангзам, лангзам[13]», — закрыв под очками глаза, ширкая огромными подошвами, крутился до одури. Иногда с большого крыльца скатывались пестрой кучей дурачки в кафтанцах навыворот, эфиопы — черные, как сажа, два старичка шалуна в бабьей одежде, задастые комнатные женщины, и выплывала, ведомая под локти со ступеней, царица Прасковья в просторном платье черного бархата. Ей выносили стул, подушки, — садилась, отворачивая от солнца голубоглазое, полное, как дыня, подрумяненное лицо. Парика не носила, темные волосы свои были хороши. Карлики, дурачки, шалуны, надувая щеки, садились у ног ее. Комнатные женщины умильно становились за стулом.
— Садитесь, садитесь, — лениво говорила царица боярышням, чтобы больше не кланялись, оставались бы сидеть на крылечках. Смотрела на качели, на карусель, начинала слабо стонать, клоня набок голову. Женщины испуганно придвигались:
— Что, матушка, свет ясный, что болит?
— Ничего… Отвяжитесь… (У царицы всегда что-нибудь болело, — была сыра.) Эй ты, Иоганн… Будет тебе крутиться-то, царевнам головки закружишь… Вот уж, господи прости, дурак немец… Долговязый такой, в очках, а только ему крутиться…