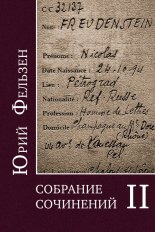Жених и невеста Санжаровский Анатолий
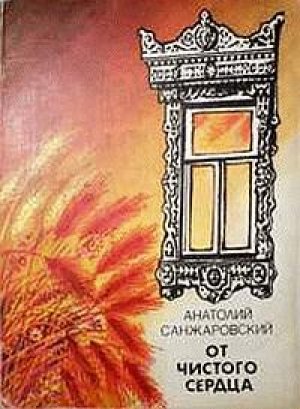
– Кому?
– Ко… лю… ш… ку…
– А что он?
– А то… Как же я полезу садиться на обзор всем?
– Да что ж такое?
Отшатнула от себя, смотрю, что ни слеза у неё как сорвётся, так и воткнётся колом в снег.
– А то… пристаёт, как слюна… Повсяк день дражнится… что у меня… ножки… как… у беременной ко… кошки…
Мороз так и пошёл по мне.
Присмирнела вся моя курсантская рать. Даже дыхание слышу своё.
Все ждут, куда ж оно все и поклонится.
А куда клонить?… Другой бы кто, а то младшенький – домашний гостюшка, запазушник мой… Вот уж воистину, детки – желез на душе.
– Зинушка, – глажу её по голове и через большую силу шлю себе на лицо улыбку: самой впору голоси, – ну ты, ёлки-коляски, тожа, ей-пра… Да в свои в шестнадцать ты любому раскрасавцу – праздник! А ты веру кому дала? Колюшку!.. На двенадцатый всего-то полез годок… Да что он понимает!
Я поискала глазами в толпе Колюшка.
Стоит, басурманская кровь, руки в боки, глаза в космос. Вроде не об нём и песня.
– Ну что, бездипломной ты мокроносый спец по ножкам, что ж даль думаешь? Думаешь, раз на весь девчачий отрядко ты один кочетиного семени, так те всё и дозволено?
– Ма…
– Не мамкай! Ишь, у него ума полна сума да ещё назади торба! Я сразу тебя не брала… Нечего тебе на курсах путаться!
Выговариваю, а самой жалко на него глядеть. Того и выжидай, слезьми брызнет.
– Ну, ма-а… Я боль не буду…
– Не буду, не буду… – упала я в его колею, остановилась. Перевела дух, мягче уже так повела: – Иль ты совсем выбежал из ума? Пойми… По малым по годам твоим никто тебе трактор не даст. На что ж тогда курсам вольной слушатель? Молчишь… Скажи тепере, ходим мы с тобой в пятые классы?
– Ну…
– Лучше учи уроки. Не лети сюда посля школы. К те вон вчера за компанию с четверками да пятёрками прошмыгнула в дневник и тройка. Вина на курсах?
– Неа! То по немецкому. Немецкий я и не подумаю учить! Немец на нас напал, а я учи его язык? Фигушки ему!
– Учить не учить… Не твоего умка забота!
– Вот-вот! Я тож так считаю… Не учу и вообще брошу на немецкий ходить!
– Ты мне дурьи песни не пой. Раз велят – учи. Всё хорошо учи. Я, – смеюсь, – строго не взыщу, наладься таскать одни пятерки. Таскай на здоровье, только внапрасну не рвись надвое, на школу да на курсы. Твои, Колюшок, курсы попереди.
11
Впотьмах и гнилушка светит.
Занималось у меня двенадцать девчаточек.
Все хорошо отучились. Весной выехали пахать-сеять.
Теперь я им бригадирша.
Поначалу Зине не находилось прицепщика. Колюшок заходился было пойти.
Зина вовсе не против, раз он больше не лип с критикой про ножки. Но по малостиего лет дала я полный отвод, пристегнула к водовозке.
Дело это не могильное для подлетка. Зато край как всем нужное.
Начерпает из колодца воды в бочку, хлоп караковую и за милую душу пошёл-поехал от загонки к загонке.
Приедет, бывало, и дивуется, а чего это девчаточки мои всем базаром заводят трактор.
Трактора у нас плохие были что. Чуть чего – глохнут в борозде.
Одной не провернуть заводную ручку; сбегаются девчаточки, всем налегают калганом. Сильно отбивало руки. Мы приладили верёвочку к рукоятке, тянули за верёвочку.
По ночам – а мы наичаще работали в поле по ночам – в большой строгости не разрешали зажигать фонари: с неба ещё немец заметит. Фронт же под боком! А по раскрытой нашей воронежской степи ох и далеко-о видать…
Приладишь на передке коптушок (пузырёк с керосином) и пашешь.
Ещё только готовишь земелюшку к родам, а пред глазами богатая рожь колышется спелая… Залюбуешься… забудешься… Запоешь про себя нашу:
- – Милый мой,
- Уж пшеница созрела,
- А луга те давно отцвели,
- Друг любимый,
- Я, как ты велел мне,
- Выполняю заветы твои.
- Урожай на полях так прекрасен,
- Каждый колос высок и тяжел.
- Нужны руки рабочие, кадры,
- На полях тоже нужен дозор.
- Пригодилось твое мне ученье,
- И твой трактор на полном ходу.
- Завтра, друг мой, чуть свет, спозаранку,
- Я его на уборку веду.
- За меня, мой хороший, не бойся,
- Про тебя я здесь помню всегда.
- Скоро, скоро опять мы сойдемся,
- Мой любимый, танкист, навсегда.
- Знай, что я на фронтах урожая
- Так сражаюсь за счастье страны,
- Как на танке, врагов поражая,
- Ты дерешься, родной тракторист.
Пашешь, пашешь да вдруг на ровном месте забуксуешь. Что за напасти?
Скок наземь и ну ощупкой смотреть-выверять, по какой по такой причинности буксуешь. На поверку оказывается, «Универсал» упёрся носом в стог.
Сразу того стога с трактора не увидать…
Стог что!
Стог обошёл да поняй далей.
А вот если поломка какая…
Запасных частей при нас ни на показ.
Поплавились подшипники, полетели шатуны иль ещё с чем беда – кидай поломку на горб и за пятнадцать вёрст своим ходом в МТС. А тот же коленчатый вал тянет под шестьдесят кило.
Ходили в обычности по две.
Ты несешь, товарка рядом бежит – отдыхая.
Нести напеременку ещё туда-сюда…
12
Некуда оглядываться,
когда смерть за плечами.
Как ни трудно было, а с первым военным севом управились к часу.
Мне даже грамоту дали «За стахановский труд в посевной 1942 года».
Только отсеялись, ан хлоп приказ эвакуировать МТС.
Построили мы в колонну трактора и на Воронеж.
Вот долилось подёрнутое дымкой суставчатое тело колонны к Дону.
Это что ж за страхи…
День вроде без облаков, а солнца не видать. Тучи самолётов с крестами кружили над рекой, били переправу.
А по мосту спешили наши танки, пехота.
Нам переправляться – вторая очередь. Только завтра.
Видим, не дождаться нам своего черёда.
Видим, не уйти нам уже и назад, на попятнушку.
Стороной от реки, садом, пустили трактора к ложбинке, а там по логу и дальше туда, в лесок.
В чащобе разобрали.
Спрятали.
Подымаемся на горку, только что стояли где, – переправа разбита, мы уже за спиной у немца.
Я и сейчас не скажу, каким чудом зацепились мы тогда за жизнь…
Однако ушли от огня.
Ушли от огня, да влетели в полымя.
Прибегаем балками в Острянку – и туточки немец.
Слышим стороной, и Дмитриевка, и Скупая Потудань, и Синие Липяги, и Першино, и Нижнедевицк – всё, всё, всё под немцем, вся округа нашенская.
К хате к нашей тоже не подступи: враг приглядел себе на постоину.
Спасибо, пустила соседка Лизавета Павловна Степанищева. Одна одной осталась бабка Лизавета.
Мужа её, квёлого, плохого уже старика, немцы признали за партизана (вынес курам воды в немецкой каске) и повесили.
13
На своём пепелище и курица бьёт,
и петух никому спуску не даёт.
Шли дни.
Стала поспевать наша рожь.
Там не рожь – загляденье. Колосьё важучее, тяжеленное. Ножки под ним того и гляди не сегодня-завтра подломятся. Чернозём наш воронежский знатён. Самый богатый в мире! И того немчурёнок, как влетел в наши земли, кинулся эшелонами гнать наш чернозём в свою Германию…
Слышу, немец захаживается убирать рожь нашими ж руками. Техники никакой, всю успели наши вывезти, так он, супостат, – а чтоб тебя родимец взял! – команду командует:
– Бабка, девка… Без цирлих-манирлих[4] собирай коса, серп… Гитлерзольдат хлеп нада…
Смотрю с порожка на того приказного с толстым, баклушей, носом, – с ненависти не вижу в полной ясности его, хоть и в малых он метрах от меня.
Стою думаю:
«Ночами пахали зелень девчаточки, не дети ль сеяли ту рожь. Теперь убери да на блюдечке подай ребячий хлебушко вражине своему? Ничего… И уберём, ёлки-коляски, и подадим… Будет всем Богам по сапогам!»
Думаю я так, а приказному говорю:
– Сперва надо народ оповестить, готовился чтоб.
Кивает:
– Я, я! (Да, да!)
Обежала я бригадных девчонок, сыпанули мы по дворам.
– Коса-серп есть?
– Да как же не быть в крестьянском дому косе!?
– Прячь надальше куда!
– А ну найдеть?
– Кидай тогда в печку. В печке не найдёт. Огонь всё сокроет!
В день в Острянке не стало на видах ни кос, ни серпов. Приховали.
Гонят люд на уборку. Невторопь идут старики да малые с пустыми руками.
Взлютовал немчуришка, велел домашними резать ножами рожь.
Домашними так домашними.
Порядочных, тяжёлых, ножей в руках не густо, а всё больше мелочишка: приспешные поварские, резаки столярные, клепики чеботарные. А дед Микиток прихромал с ржавой бритвой.
Конвой было присатанился к деду за насмешность, но дед молодцом мотнул бородой со стожок, в решительности сказал:
– Не упомню, кода в последние разы и скоблился. Ржа струмент поела. С ей и спрос, а я тут сторона-а!
Много ж за день таким «струментом» возьмёшь…
А вечером, по черноте уже, все мои из бригады продирались по одной к дальней станции, что не взял ещё немец.
Дошла я до края поля и стала, а чего стала, и себе не скажу. Дальше не идут ноги, хоть ты что.
Отошла чуток, кинула взор за спину – назад понесли ноги сами…
Села, зажгла спичку.
Горит под рукой, потрескивает…
Пламешко разохотилось, потянулось, лизнуло палец.
«Ну, кидай!»
Не кидаю – дую на спичку…
Чиркнула снова…
Весь коробок перевела, не последнюю ль уронила…
Отдала я свой Хлебушко огню да и заплакала…
14
Не помрёшь, так не похоронят.
Раньше, ещё третьего дни, была я в районе, просилась от девчат послать нас куда нужней. Раскомандировка вышла такая: не сможете уйти с тракторами, едете к северянам валить лес.
Как добирались… Это тыща и одна ночь…
До того как раздать пилы, нам объяснили всю науку, как брать лес.
Мы всё поняли, где-то даже за то расписались. Расписались и забыли.
У них своя ученая наука, у нас, у баб, своя, природой даденная.
Подрежем дерево – с криком рассыпаемся кто куда на все четыре ветра.
В обязательности летишь до первого кусточка. Добежала – стоп!
Голову в кусточек, ягодку кверху и в такой бесстыдской позитуре стоишь-отдыхаешь. Для надёжности натуго закроешь глаза, уши заткнешь и радёшенька-рада.
Как же!
Раз головушка в кустах, никакая лесина не посмеет накрыть тебя, до смерти уверена, что беда тебе и пальчиком не погрозит.
Ан нет…
Судьба всё ж уронила сосну мне, непутёвой бригадирке, прямо на окаянную голову – куцапым суком в самый затылок.
Вырвали сук из головы. Волоса, как потом говорили мне, не видать: всё кровь.
Что делать?
Делянка наша у чёрта за межой, ни до какого селенья за день и на аэроплане не докувыркаешься, а докувыркаешься – утрёшь нос и назад: война, лекарствия да врачей и на худой помин нету.
Тамошняя бабуша одна – а дай ей Бог доли! – вспомнила старое средствие, навела на погожий ум.
Выплеснула из ведра воду, скомандирничала:
– А ну-ка, девонюшки, а ну-ка, девьё, скорей давай по порядку садись да дйся!
Напруденили девушенции пальца так на два выше против половины ведра.
Воткнули меня балбесной головушкой в то ведро и ну промывать.
А соль, заело. Я в память и вернись.
Гляжу, а на всем разбросаны взбитые перины снега, гляжу и дивлюсь, будто впервые вижу те перины, будто впервые вижу и инёвые кружева, и в наледи хвоинки…
С неделю провалялась я в бараке чуркой.
Колюшок надо мной всё власть держал: он мне и доктор, он мне и нянечка.
То воды свежей принесёт, то поесть что там подаст, то печку в мороз истопит среди дня, и у меня до самого уже до вечера живёт тепло.
Пока болела – отдохнула. Как же в лесу сытно спится!
Поотлежалась, оклемалась – Бог миловал, никаких так заражений у меня не завязалось – с грехом пополам поднялась да и пошла помаленьку снова валить лес.
Да поумней уже.
Не летишь теперь прятать пустую голову в куст, а стоишь и подрезанное дерево правишь куда на простор, где мелколеса поменьше, клонишь и смотришь, что оно да как.
Всё ж та сосна голосу мне поубавила.
Стала я говорить тише, с малым как вроде хрипом, а так всё другое что ничего, без повредительства. Крепка так, жива, одно слово.
15
Ищи добра на стороне,
а дом люби по старине.
Всего половину года похабил немец нашу сторонушку.
Как только выгнали пакостника в толчки, поворотили мы оглобельки под стон февралёвой пурги к стенам к своим родимым.
Идем с Курбатова, со станции…
И чем ближе Острянка, всё живей, внахлестку, перебираем в смерть усталыми ногами; всё чаще не одна, так другая сорвётся с ходу на бег, а за одной овцой и весь калган молча понесся вприскок, скользя и падая.
Добегаем до возвышенки, откуда наихорошо видать Острянку.
Господи! А где ж Острянка?
Избы где?…
Скачем глазами из края в край… Нету…
Глядим друг на дружку – заговорить никто смелости в себе не сыщет. В глазах у всех одна надежда: «Может, снегом забило? За большим снегом не распознать…»
Упрели бежать.
Бредем как пьяные, будто только вот что вошли в крепкий градус. А сами боимся увидать то, про что каждая про себя уже знала и знала, пожалуй, ещё там, в вологодских лесах.
Вошли вроде в проулок. Но где хаты?
– А во-о-он катушок, – тычет зорковатая Нинушка в горький сараишко, такой плохущой, – ну тебе честным словом подпоясан, тем и держится. – Живой катушок. К кровельке пристёгнут кривой столбок дыма.
– А в соседях с катушком, кажись, землянка… – надвое, с сомненьем говорит Манюшка и из-под руки вглядывается в свою находку.
– И рядом…
– И вон ещё землянка…
– И вон…
Понжала Острянка наша.
Ушла, бездольная, в земляночные норы…
Минутой потом, как вошли в серёдку села, нас завидели. Завидели и в слезах посыпали к нам из землянок.
Обнимаются, жалятся:
– Чёрно было под немцем…
– Хлеб заставлял жать ножом и по соседским деревням…
– Живность всю полопал…
– Избы все огнем с земли-корня смёл…
– А ваша, – говорят мне, – в полной невредимости. На всю Острянку не одна ль и сбереглась.
– Ка-ак?
– Да как… Наступали наши, ядрёно так ломили с лога. Вражина и засуматошься, как мышонок в подпаленном коробе. Наши напирают с одного конца, немец, понятное такое дело, отбегает к другому. Пятится раком, а пакости остатние кладёт-таки. Как отдать какую хату – цоп из огнемёта в соломенную стреху – и за соседнюю избёшку. Прижимает отдать и ту – клюнет огнем и ту… За каждую хатку цеплялся супостат – каждую хатёнку подымал к небу пламенем. А что погорело острянцев живьём по своим же углам!.. Выйти не выйдешь. Прибьеть, сиди… Дед Микиток сгорел, бабка Лизавета сгорела, Витюк Сотников сгорел, Валя Мазина и Тоня Диброва сгорели, Федя Ветлов – помнишь, рисовал ещё тебя мальчишечка? – сгорел, Танька Филимониха, Таня Ширшова… Валёна Гусева… Ланюшка Заёлкина… Поди перечти всех… Как отступал через всё село, так от всех хат один пепел и покинул. А ваша стояла от порядка в глубинке, вроде отошла ближе к огородам, вроде как спряталась за садком. В сумятице и миновала её огнёва милость…
Подходим – в самом деле стоит!
Труба, крыша, стены – всё на месте, только двери-окна враспашку.
Добежала я до крылечка – нету моих сил в хату войти… В слезах упала в высокий снег на порожках.
Манюшка с Нинушкой – они первые шли следом – взяли под руки, ввели.
– Ма, ну чего вы запутались в слезах? Мы ж дома! Радуваться старайтеся!
– Ста… ра… юсь… – говорю, а у самой никакого сладу со слезами.
Смотрели они на меня, смотрели…
Попадали мне на грудь да как завоют себе…
И не скажу, сколько мы так, гуртом, прокричали, как вдруг все три поворотились на грохот.
Глядим, у раскрытого окна, на полу, сидит на пятках Колюшок.
В поднятой руке топор вверх острым.
Не успела я и спросить, чего это он затеял, как он шибко стукнул обухом по гвоздю, что торчал из приподнятой половой доски, стукнул ещё, потом ещё, ещё. Доска уже не горбилась, легла в одну ровность со всеми досками в полу.
Колюшок деловито перешёл в угол, где так же молчаком, с азартом заходился скалывать ледяную корку.
В каком-то необъяснимо весёлом, светозарном удивленье Маня с Ниной глядели на меньшака брата.
Стук его топора не только остановил наши слёзы. Он сделал ещё что-то и такое, чему я не знаю названья.
В душу вошла какая-то высокая ясность, вошла сила, и я, снежная песчинка, кою в такой свирепой ярости вертели лютые вихри войны, разом почувствовала себя твёрдо на ногах, почувствовала Хозяйкой – вернулась в мёртвый отчий дом ладить человеческую жизнь.
Я расправила плечи, огляделась орлицей вокруг.
Стены в чёрном инее были пусты. Лишь в простенке между окнами во двор уныло висели наши ходики – остановились Бог весть когда в половине шестого. Из них стекала в наледи цепочка до самого пола.