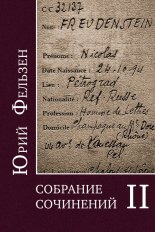Жили-были (воспоминания) Шкловский Виктор

Казалось бы, что теория монтажа аттракционов превзойдена, но путь еще не был довершен.
Еще раз нарушу стройность изложения.
Я остановился на Эйзенштейне потому, что на теории Эйзенштейна и на его практике можно понять и практику Мейерхольда, который был учителем Эйзенштейна, но опыт Эйзенштейна сохранен в кинолентах и по времени он более продолжителен.
Особенностью творчества Мейерхольда было то, что драматургия как бы подчинялась отдельному моменту; в этом отношении процесс начался еще, может быть, в театре Станиславского, но единство в театре Станиславского поддерживалось ощущением единства человека — характера. Театр Мейерхольда аттракционен, характеры героев не построены, вернее, они только соединяют аттракционы. Вопрос о том, не противоречит ли построение характера жены городничего, данное в спектакле Мейерхольда, драматургии Гоголя, общей структуре произведения, режиссером не ставился.
Между тем мы знаем, что паук правильно со своей точки зрения реагирует только на муху, попавшую в паутину, а муха, положенная в гнездо паука, остается невысосанной[3]. Структура, на которую реагирует паук, — это содрогающаяся паутина, в центре которой им обнаруживается муха.
Птица ловит насекомых в воздухе, но нелетучие насекомые угнетают ласточку в ее гнезде. Она с ними не умеет бороться, для этого у нее нет структуры, созданной инстинктом.
Человеческая психика оперирует со словами, со значениями, в которых сравнительно небольшие различия обозначают большие смысловые изменения. Система эта условна.
Эйзенштейн хотел вернуться от условных систем к ощущениям безусловным, как крик боли.
Система Эйзенштейна как будто основана на восклицании: «Ах!» или «Ой!»
Между тем в искусстве существуют, с одной стороны, восприятия целостности, но целостности системы, так сказать, жанровой целостности, преодолеваемой борьбой с системой, со словом при помощи расположения слов.
Искусство — это и структура, так сказать, кристалл, и нарушение кристалла. Она включает в себя конкретную случайность, являющуюся зерном новой системы.
Монтаж аттракционов, некоторые элементы пародийности понадобились при переходе к другой системе искусства, попытке передать иную систему жизни, которую искусство хотело постичь. Победа достигается при создании системы и при осознанном нарушении системы.
Надо найти муху, когда сметены паутины. Человеческое искусство учит человека оглядываться.
Борьба за новый инструмент — это борьба за осознанный тембр звучания. Флейта для нас просто инструмент, а для Платона флейта — чувственный инструмент. Для нас недавно джазовый инструмент имел в своем звучании преобладание оценки тембра.
Искусство, которое мы создаем, в основе своей имеет иное отношение к действительности. Это искусство отражает создаваемый мир.
Попытки Эйзенштейна были, кроме того, связаны со спецификой кинематографии как зрительного искусства: они создавались в немом кино.
Для Эйзенштейна кадр — это картина или скульптура, это как бы графическая фраза: от одного элемента этой фразы к другому часто действие не переходит. Движение заменялось монтажом. Движение осуществлялось в результате ритмом смены цепи образов. Ритм смены может иметь свое реальное оправдание: гнев нарастает не сразу, не сразу нарастает возмездие. За ритмом искусства стоит закономерность мира в целом. Но то, что является способом передачи, может быть ложно понято как цель искусства, то есть метод исследования мог бы становиться целью.
Это произошло не в первый раз. Я вернусь обратно к истории символизма. Люди, именовавшие себя футуристами, люди, именовавшие себя опоязовцами, боролись с символизмом, но их ошибки как бы ритмически повторяли ошибки символистов или, если говорить вежливее, путь символистов.
Путь этот можно назвать ошибкой потому, что реальные конфликты мира символистами воспринимались как вечное «двумирие», как противопоставление жизни художника и жизни обывателя, например жизни художника и жизни благоразумного кота Мура.
Приведу несколько цитат из книги Александра Блока «О символизме». Книга была прочитана как доклад 8 апреля 1910 года в Обществе ревнителей художественного слова (цитирую по изданию 1921 года, П., изд. «Алконост»). Предупреждаю, что Блок говорит в этой статье терминами символистов; речь была произнесена не для многих. Терминология затрудняет здесь понимание, маскирует трудности. Беру понятные куски.
Блок говорит сперва о тезе, то есть об утверждении символистов: «Теза: «ты свободен в этом волшебном и полном соответствий мире». Твори, что хочешь, ибо этот мир принадлежит тебе. «Пойми, пойми, все тайны в нас, в нас сумрак и рассвет!» (Брюсов), «Я — бог таинственного мира, весь мир — в одних моих мечтах» (Сологуб). Ты — одинокий обладатель клада; но рядом есть еще знающие об этом кладе (или — только кажется, что они знают, но пока это все равно). Отсюда — мы; немногие знающие, символисты.
С того момента, когда в душах нескольких людей оказываются заложенными эти принципы, зарождается символизм, возникает школа. Это — первая юность, детская новизна первых открытий. Здесь еще никто не знает, в каком мире находится другой, не знает этого даже о себе; все только «перемигиваются»; согласные на том, что существует раскол между этим миром и мирами «иными»; дружные силы идут на борьбу за эти «иные», еще неизвестные миры».
Знающих не много — это владельцы тайны, но «неопытное сердце» обманывает человека. Поэт оказывается в страшном мире. Блок пишет: «Если бы я писал картину, я бы изобразил переживание этого момента так: в лиловом сумраке необъятного мира качается огромный белый катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз».
Сам поэт оказывается окруженным «двойниками». Поэт попадает в балаган — в мир, который не живой и не мертвый. Выход есть один в результате познания: «…сама Россия в лучах этой новой (вовсе не некрасовской, но лишь традицией связанной с Некрасовым) гражданственности оказалась нашей собственной душой».
Через сумрак культа личности Эйзенштейн идет к народному пониманию Грозного. Этому мешало созданное оправдание террора опричнины.
Иван Грозный принят народной песней. Когда Пушкину понадобились эпиграфы для «Капитанской дочки», то все эпиграфы, относящиеся к Пугачеву, взяты из песен и поэм, воспевающих Ивана Грозного. Только цитаты подрезаны, чтобы сразу не бросалась в глаза царственность характеристики мятежника. Народ ищет своего царя. Он поэтому принимает Грозного.
Другой план Грозного — это террор. Этот вопрос был очень остер во время постановки картины. Иван Грозный стирал прошлое, упиваясь уничтожением, был изобретателен в муках, как режиссер: он был не только грозен, но и постоянен в угрозах и казнях.
Митрополит, который ему противостоял, Филипп Колычев, был боярином. «Печаловался» — просил сострадания — не народ, а церковь, связанная с феодалами.
У Сергея Михайловича в сценарии, который он написал, Малюта Скуратов — человек из народа, пушкарь, берегущий царя от Курбского. Но Скуратов имел фамилию Скуратов-Бельский, из боярского рода. Бельские — хороший род.
Малюта Скуратов погиб при штурме стен Вендена — он брал его высокие стены, был там большой бой. Но сам Эйзенштейн, показывая мне, каким он сделал Малюту, говорил, что будут спрашивать: «Разве было два Малюты?» Его герой не раскрыл Малюту, не совпал с ним. Лента оказывалась иносказанием, только соприкасаясь с историей. Тут есть правда и неправда.
Съемки были трудны и парадоксальны. Трагедию разыгрывали актеры, привычные к комедийным ролям. В общем они справились.
Не было производственной базы для огромной постановки. На заштукатуренных циновках художник пишет декорации кремлевского зала. Я помню дьявола, падающего около карниза двери вниз головой.
Вторая часть ленты оказалась переосмысленной. Бояр, которых казнили, стало жалко — в них зритель увидел людей: они смотрели на человека с саблей искоса и как будто не боясь. Опричники тоже оказались не железными, в них вошел дух разгульного Грозного; Басманов в бледно-желтой рубашке танцевал вприсядку, поставив на плечо женскую маску-голову. Кругом кружились опричники в хороводе, одетые в темные кафтаны со шнурами, в которых чуть проступало золото. Этот кусок картины цветной — именно цветной, не леденцово раскрашенный: это цвет выбранный. Тут нет упоения пестротой. Люди подцвечены цветными прожекторами; это делает их круглыми, находящимися в цветной среде.
Жалко стало Владимира Старицкого. В истории он был совсем не такой — это был феодал, военачальник, немолодой человек, не изменник и не идиот. Здесь все упрощено, но когда Бирман плачет над убитым сыном, то восстанавливается круглота вещи, справедливость в отношении к людям.
Вторая серия вышла на экран через четырнадцать лет после того, как она была снята. С точки зрения истории кинематографии, это был Лазарь воскресший.
Явления кино стареют быстро. Эта лента оказалась живой, нужной. Это самая построенная лента из всех, которые я знаю. Каждое взаимоотношение элементов, в том числе и людских толп, показанных на экране, осмыслено, и эта взвешенность движущейся картины развертывает ее содержание.
На Востоке считают, что быстро текущая вода самоочищается.
Самоочищается много работающий художник. Пристальное внимание к материалу, к способам выражения смысла уточняет задачу и иногда опровергает то, что было предложено художнику.
Лента «Иван Грозный» была запущена в производство в очень тяжелое время, время преувеличенной подозрительности и террора.
Предполагалось, что в картине будет показано, что Малюта Скуратов демократический герой, искренне стремящийся к счастью народа. Что путь Ивана Грозного правильный и что неправильны были только угрызения совести Ивана Грозного, которые помешали ему стать в памяти народа великим.
Иван Грозный действительно принят в фольклоре как положительный герой, но принятие это не полное.
По мере того как развивалась лента, обдумывались герои, вырисовывались в прямом смысле этого слова их поступки, по мере того как история становилась художественной действительностью, изменился смысл ленты. Опричники показались оторванными от народа, истеричными, эротическими людьми. Басманов вовсе не выглядел положительным героем, видно было, что дворец Грозного отрезан не только от России, но и от Москвы.
Картина была показана Сталину и очень ему не понравилась.
На совещании по поводу картины он говорил о ее недостатках не с режиссером, а с актером, игравшим Ивана Грозного, — Черкасовым. Он был недоволен, что бояр, которых казнит Иван Грозный, — жалко, говорил, что Грозный казнил недостаточно народу, и даже называл несколько боярских семей, которые надо было бы уничтожить тогда, в конце XVI века.
Говорил, что опричники были явлением прогрессивным.
Лента была запрещена. Сергей Михайлович после этой ленты ничего не снимал и занимался только преподаванием и разработкой теоретических вопросов.
Вторая серия «Ивана Грозного» пролежала четырнадцать лет в коробках. Я напоминаю об этом необыкновенно долгом сроке потому, что обычно произведение кино стареет быстро. Появившись на экранах, лента оказалась передовым произведением мирового кинематографа. Здесь не только был виден чистый кинематограф, в котором слово во взаимодействии с движением выражает смысл жизни.
Лента Сергея Михайловича Эйзенштейна оказалась выражением совести народа, который думал об истории и оценивал события в произведениях искусства.
Будем горды сделанным
Говоря обиняком и преодолевая обиняки, достигал опять истины, искусство прорастает так, как рассыпанный овес прорастает сквозь брошенную рогожу и как бы пришивает ее к земле.
Вторая серия «Ивана Грозного» — лента о бесполезности зла и преступления.
Душа художника вырастает на заботах о родине, о справедливости, о судьбах человечества.
Говоря о символизме, Блок в 1910 году говорил прямо: «Наш грех (и личный и коллективный) слишком велик. Именно из того положения, в котором мы сейчас находимся, есть немало ужасных исходов».
Для Блока вопрос состоял в том, существуют ли «те миры, либо нет».
Мы знаем, замирья, надмирья — нет.
Блок нашел мир; он находится перед нами: это мир «Двенадцати» — мир революции.
Без цели нового понимания мира и сотворения мира бесцельны все теории искусства — и теория символизма, и теория монтажа.
Расталкивая толпу «двойников», поняв, что строение искусства — это развертывание мира, мира реального, а не созерцание роя призраков, творец идет к «гражданственности». Это путь Блока, Маяковского.
Вероятно, и Блок и учитель его, творец «Слова о полку Игореве», ранили ноги на том же пути.
Да будет он прославлен.
Квартира Сергея Михайловича Эйзенштейна
Хочу написать о квартире, которой нет. Вещи давно вынесены, книги разбрелись по музеям, даже вид из окна изменился. Сперва квартиру спешно заселили другими жильцами. Пол и стены перекрасили.
Сейчас дом срыт. Побежала здесь новая дорога в новую Москву.
Так что не пойдешь и не проверишь.
Вспоминаю, что если в одном окне отодвинуть тяжелые клетчатые занавески, то увидел бы сходящиеся вдали ряды невысоких деревьев в красно-желтой листве, а может быть, это солнце заходило.
Были еще вишневые сады — это из другого окна. Цветущие, бледно-розовые волны летучей пеной шли, кажется, на восток. Это солнце, вставая, режет войско ночи, окрашивая утро: кажется, так говорил один из персидских поэтов.
В спальне Эйзенштейна стояла очень широкая, но плоская кровать с панцирной сеткой, семисвечник из темного серебра — он ростом с человека, в углах комнаты стоят деревянные статуи апостолов — тоже в человеческий рост. Статуи раскрашены, но не потеряли могучего сходства с расколотым деревом.
В углах под потолком прижимают к карнизам резные крылья барочные ангелы из церкви, они смотрят из разных углов вниз во все глаза на телефон с десятиглазым диском. На стенах соломенные плетеные мексиканские ковры.
Пол соседней комнаты покрашен по линолеуму светло-серой эмалевой краской. Книжные полки столярной работы тоже покрашены белой масляной краской. Множество книг с сотнями закладок. Книги стоят в неожиданных соединениях.
На стене в резной позолоченной раме, как портрет нашего полушария, вставлена половина глобуса. На потолке, вместо люстры, — тоже глобус, и около него луна.
На стенах лубки и фотографии: высокие новгородские и псковские церкви — не такие, какими мы их сейчас видим, а такие, какими они были, пока время не поглотило фундаменты и руки древних редакторов не заложили низа окон.
На столах томики Гоголя, Пушкина, Грибоедова, Толстого и Тынянова. Все с закладками, все прочтено и приготовлено.
Художник Федотов в стихах, плохих и трогательных, жаловался на то, что он прожил не одну, а две жизни, которые были ему даны, но не осуществлены. Это жизнь неосуществленных планов, она прожита, на нее израсходован жар души. Эта жизнь висит над художником, отягощая сердце, вычитая дни из жизни.
Когда выйдут книги Сергея Михайловича, мы увидим строй неосуществленных, но уже нарисованных, раскадрированных лент.
У Сергея Михайловича было больное сердце: перегородка между правой и левой стороной сердца от рождения не заросла. Сердце недоразвилось, великий мозг питался кровью подсиненной и все же был свеж и сохранился без склероза. Но сердце было изорвано. Теперь его можно было бы излечить — тогда нельзя.
Режиссеры Советского Союза, Мексики, Японии, Италии — все его ученики и ученики Пудовкина.
Сергей Михайлович в своих картинах увидел мир как планету, как новые судьбы, новые отношения к предмету, новые краски.
За интерес к монтажу, за интерес к цвету его называли формалистом и писали о нем оправдывающие статьи.
Да, он шел дорогой иронии, но встретил вдохновение революции, и она осчастливила его.
Вы помните «Пророка» Пушкина, — поэт увидел мир с прозрачным до дна океаном, слышимым до шороха прозябания виноградной лозы.
Эйзенштейн подымал тяжелый груз и был счастлив, потому что счастье — это борьба с верой в победу и предчувствием будущего.
Дома он был одинок. Так случается; над ним жил Эдуард Тиссе — друг, соратник, великий кинооператор. Сергей Михайлович положил к батарее отопления гаечный ключ. Он боялся припадка, а стук по отоплению очень слышен.
Последние недели своей жизни Сергей Михайлович был увлечен телевидением, объемным искусством запечатлеваемой жизни.
Искусством мгновенным, сейчас записанным и объемным.
Просветляя темы, он писал статью о советском патриотизме. Рука сорвалась, потом, очевидно, он принял нитроглицерин и красным карандашом написал на рукописи: «Был припадок». Продолжал писать. Опять сорвалась рука. Он упал на пол и не дополз до отопления.
Он долго лежал на белом полу своей квартиры, среди прочитанных книг и недосозданного мира новой кинематографии.
Утром он умер.
Хорошая была квартира.
Чисто. Тихо и очень уединенно.
Нет той квартиры. Той постели. Тех книг и статуй.
В той квартире, среди резного дерева, Сергею Михайловичу должны были сниться вещи необыкновенные — как будто не звери, а самый мир собирался в ковчеги комнат, чтобы плыть в ленту, переселяясь и обновляясь.
Над миром гроза. Безмолвно и старательно включаются юпитера, сухая гроза встряхивает и обновляет небо перед киноаппаратом. Создается сюжет нового мира. Спутники осматривают его пределы.
Сергей Михайлович был бы доволен. Это монументально.
Владимир Маяковский писал про будущее:
- Кто спросит луну?
- Кто солнце к ответу притянет —
- чего
- ночи и дни чините?!
Прошлое прошло.
Выходят новые тома истории.
- Ротационной шагов
- в булыжном верже площадей
- напечатано это падание.
Сергей Михайлович умер.
Его гроб стоял в Доме кино на Васильевской улице. Гроб был покрыт старинной золотой парчой, тем куском, который любил покойный режиссер.
Парчу сожгли вместе с телом.
Истаяли золотые нити.
Мне рассказывал Павленко, что в Германии и в Америке люди на собраниях вставали, когда слышали имя Эйзенштейна. Они вставали, стремясь лучше увидеть будущее.
Во имя советского искусства люди не только встают, но идут вперед. В Англии, в Америке, в Японии, в Мексике идут в будущее. Старые кинокартины и для нас при просмотрах оживают, как луковицы пускают новые стрелы и цветут счастьем.
Петр Андреевич Павленко
Для тех, кто знал старый Тифлис, в голосе Павленко улавливался акцент русского человека, выросшего в Тифлисе.
Петр Андреевич много взял от этого города, который когда-то Осип Мандельштам называл «ковровою столицей».
Горбатый город с крепостью, которая, как сокол, прицепилась к скалам, был пестр, занятен: здесь умели говорить, умели дружить, умели интересоваться.
Я Петра Андреевича знал много лет тому назад, когда он мне рассказывал про старые ковры. Это была прозаическая поэма общего значения для культуры. Ковры. Семантика ковра. Судьба людей, рассказанная в ковре. Завоевания и бедствия. Скрещения культур в ковре — все это было выражено с совершенной ясностью. Петр Андреевич был рассказчик. Сазандары не только пели, но и рассказывали изумительные и мудрые вещи. А в Тифлисе умели еще и слушать.
Как жаль, что Петр Андреевич, рассказывавший так много о Востоке и Западе и о многих людях, не записан и не записал себя. Это большой писатель, не до конца выраженный. Он не дописал книгу с неожиданным решением, справедливую и ясную, — книгу о Шамиле. Я очень люблю книгу Павленко «Итальянские впечатления». С ней спорят. Но с книгами вообще спорят. Книги пишутся людьми, которые по-новому увидали, и книги вовсе не предназначаются для того, чтобы с ними немедленно согласились.
Владимир Маяковский говорил, что книги пишутся для того, чтобы случилось новое. А редактируют их для того, чтобы «как бы чего-нибудь не случилось». Разницу намерений и редактирования заполняют и выравнивают неприятностями. Петр Андреевич, который как будто прожил счастливую жизнь, не успел выразить себя целиком. «Степное солнце» — хорошая книга, умная книга. Но Чехов показал мальчика, видящего огромную Россию, страну, созданную для подвигов, мальчика, видящего с воза звезды. Его вещь полна стремления к невыразимому. Огромная страна превышает человека, зовет его к подвигу. Петр Андреевич мне говорил после нашего спора о «Степном солнце», что надо уже перестать носить короткие штанишки, надо стремиться к самым большим и внутренним романам, а сам окоротил свою повесть. Но я хочу сейчас написать о дружбе, не о своей дружбе с Павленко, а об его дружбе с Сергеем Эйзенштейном, очень нужной дружбе, которая многое сохранила для Советской страны.
Сергей Михайлович после приезда из Мексики был одинок. Физически одинок. С ним подружился Павленко. Работа в кино — жестокая дружба творцов. Писатель в кино тает, как сахар в чаю. Это сказал я Павленко. Через много лет он со мной согласился. Писатель исчезает в кино, как цемент в бетоне.
Петр Андреевич написал для Эйзенштейна сценарий «Александр Невский». Сергей Михайлович давно мечтал снять Китай. Снять своеобычную страну, со своим цветом неба, земли. Страну, которая представляет одну из величайших использованных возможностей мировой культуры, и в то же время страну недовершенную. Эйзенштейн хотел показать китайцев как чиновников Кубилая в России. А в Александре Невском он видел норвежца. Петр Андреевич медленно и неуклонно, во многих спорах, вел режиссера к Александру Невскому — новгородцу, по-новому показвал русские церкви, как бы вырывая их из земли, возвращая им стройность. Он вел режиссера к России через летопись и «Заветные сказки» Афанасьева. Получилась новая, европейская, графически четкая, гордая, понятная режиссеру Россия, Россия, открывающая народу прошлое.
Движение ленты, разнообразие характеров, ирония картины принадлежат писателю.
Петр Андреевич написал сценарий о строительстве Ферганского канала. Сценарий был полон неожиданностями истории. Строители канала довершали то, что тысячелетиями не могли совершить их предки, которые проливали кровь, но не могли кровью заменить воду. Когда Эйзенштейн узнал, что картину сняли с постановки, он бросился к окну, хотел выброситься; его спасли ученики. Это не анекдот. Это не только трагедия. Это великое признание, великая вера художника в необходимость создать задуманное, было в то же время признанием работы сценариста.
Петр Андреевич знал еще одну тайну. Тайну права на счастье. У нас изображают жизнь великих людей так, что может возникнуть желание быть как можно более обыкновенным. В результате просмотра биографических лент может возникнуть желание уходить с больших дорог истории: гении страдают все время, их все время обижают, и просто настоящие советские люди несчастны. А это неправда.
Я видел людей революции. Простых коммунистов. Это были люди привлекательные, умеющие добиваться любви. Это были несдающиеся соперники в трудной любовной борьбе. И побеждали они как новые люди. Скажу поэтично, потому что говорю про прошлое. Это были цветы на лугу. В хорошей ленте «Коммунист», по сценарию Габриловича, коммунист одинок и несчастлив. Павленко требовал для советского человека счастья. Показывал счастье.
Был ли он сам счастлив, становясь бетоном, я не знаю, но когда бетон твердеет, он выделяет тепло.
Павленко в мире советского строительства не было холодно.
Советскую кинематографию он обогатил своей работой и больше всего тем, что он нам сберегал Сергея Михайловича Эйзенштейна.
Павленко был мужественным человеком. Во время сердечного припадка он встал, для того чтобы исправить статью для текущего номера газеты. Это ему стоило жизни.
Мы не можем его упрекать в боязни, но он был несчастлив в искусстве. Свою любимую повесть о Шамиле Павленко не мог закончить при жизни, потому что в разное время разно решали вопрос о значении Шамиля. В этом отношении горд и счастлив был Толстой, который решал сам, понимал, что Шамиль — тиран и что Хаджи-Мурат перебегает от тирана Шамиля к тирану Николаю, но в то же время никогда не равнял Шамиля с его врагом — Николаем.
Возвращаюсь опять к судьбе Эйзенштейна.
Он сделал прекрасные исторические картины, но больше всего хотел снять картины современные, но все руки, все павильоны были заняты или показом недавней истории, или хотя бы такой истории, которая давала бы повод приятным аналогиям.
В конце концов сделано невероятно много, а надумано еще больше. Поэтому мы можем говорить в конце концов о счастье художника, о счастье мыслителя.
Константин Эдуардович Циолковский
Приходится много читать об этом человеке. Поговорим о его судьбе.
Я знаю немногое, но видел и читал кое-что о его давних друзьях. Потому тоже решился начать повествование не с описания его домика в Калуге.
Лестницы философии и фантазии часто приводят к обрывам.
История пододвигает к обрывам мосты или двери самолетов. Существовал в Москве Николай Федорович Федоров, автор книги «Философия общего дела». Этому человеку Лев Николаевич казался робким.
Федоров хотел создать для техники идеал. Он мечтал о воскрешении мертвых, физическом, и уже беспокоился, куда поселить воскрешенное человечество. Поэтому он считал необходимым заселить звезды. Федоров сам был ученым библиотекарем Румянцевской библиотеки. В Москве его знали многие.
Вот что писал о Николае Федорове Л. Толстой в ноябре 1881 года В. И. Алексееву: «Это библиотекарь Румянцевской библиотеки. Помните, я вам рассказывал. Он составил план общего дела всего человечества, имеющего целью воскрешение всех людей во плоти. Во-первых, это не так безумно, как кажется. (Не бойтесь, я не разделяю и не разделял никогда его взглядов, но я так понял их, что чувствую себя в силах защитить эти взгляды перед всяким другим верованием, имеющим внешнюю цель.) …Ему 60 лет, он нищий и все отдает, всегда весел и кроток…».
Николай Федорович Федоров работал весь день в библиотеке, жил, не имея ни матраца, ни подушки, ни шубы, никакой обстановки. Если заводились вещи, Федоров уходил и снимал другой угол.
Боялся денег, говоря:
— Как ни трать их, они всегда остаются, проклятые!
Он проживал меньше семнадцати рублей в месяц. Имел в руках огромную библиотеку, писал книги, издавал их в количестве 200 экземпляров и, как я вам сейчас буду рассказывать, воспитал Циолковского.
Воскрешение — вещь неверная, невозможная, а посыл звездоплавателя был правилен. Человечество нуждается в сверхцелях.
Необходимость мечты сказывается не сразу. Мечта дает силы.
В предисловии к научно-фантастической повести К. Э. Циолковского «Вне земли», изданной Издательством Академии наук СССР в 1958 году, В. Н. Воробьев рассказывает о шестнадцатилетнем глухом юноше Константине Циолковском:
«Очутившись в Москве и не имея никаких знакомых, юноша мог сделать лишь одно: наняв дешевый угол, продолжать самостоятельные занятия по той же системе, как и дома. И он приступил к делу, не теряя времени. В Москве, разумеется, не было того острого недостатка в книгах, который он ощущал в провинциальном городке. Циолковский вскоре начал регулярно заниматься в одной из самых больших библиотек Москвы — Чертковской (ныне Государственная библиотека имени В. И. Ленина). Здесь ему удалось познакомиться с одним из выдающихся знатоков научной литературы — Н. Ф. Федоровым (1823–1903), который сразу обратил внимание на юношу, так резко отличавшегося от остальных посетителей, и тот поведал ему, что поставил себе целью в кратчайший срок самостоятельно пройти предметы университетского курса. С этого времени, приходя в библиотеку, Циолковский неизменно получал подготовленную для него стопку книг. Первый год целиком ушел на изучение элементарного курса математики, физики, химии. Свои теоретические занятия, ведя их без руководителя, он неизменно сопровождал опытами по физике, химии. В следующем году Циолковский приступил к началу высшей математики — прошел курс высшей алгебры, дифференциального и интегрального исчислений, аналитической геометрии, сферической тригонометрии и т. д. Занятия высшей математикой имели первоначально целевое назначение. Об этом Циолковский говорит в своей первой краткой автобиографии, напечатанной в виде вступления к книге «Простое учение о воздушном корабле и его построении» в 1904 году: «Мысль о сообщении с мировым пространством не оставляла меня никогда. Она побудила меня заниматься высшей математикой».
Все три московских года (1873–1876) Циолковский учился настойчиво и напряженно. Экономя свои весьма ограниченные средства, которые шли главным образом на опыты и пособия, он очень плохо питался, иногда месяцами не имел ничего, кроме черного хлеба с водой. Когда он возвратился из Москвы в Вятку, родные были поражены его видом. В автобиографии, написанной уже в преклонном возрасте, Циолковский вспоминает: «Дома обрадовались, только изумились моей черноте. Очень просто: я «съел» весь свой жир».
Мечта о звездоплавании после Октябрьской революции становится общей мечтой советского народа.
«Мосфильм» решил снять на эту тему фильм и отправил к Циолковскому в Калугу группу кинематографистов с режиссером Журавлевым и мною.
Сценарий впоследствии был написан А. Филимоновым и снят режиссером Журавлевым.
Город Калуга. Название это значит: укрепления, застава, ворота.
Впоследствии Калуга оказалась воротами в космос.
Город стоит на высоком холме. За рекой, внизу, лес и небо. Город мы застали тогда, когда он спокойно спускался осенними, ярко-красными яблоневыми садами к синей глубокой Оке.
Наверху старый дом губернатора. У губернаторши Смирновой бывал Гоголь.
В этом городе, который Гоголь в письме обозначил одной буквой «К», мог бы жить Чичиков, но Калуга разнообразнее и затейливее того захолустья, которое описано в «Мертвых душах».
Дом губернатора построен в начале прошлого века.
У ворот дома стоят огромные фонари. Это перевернутые шестигранные, усеченные сверху и снизу пирамиды, поставленные не на столбы, а на каменные подставки. Фонарь вырос и стал на колени.
Тут же лежат львы — спокойные, без грив, плоско иссеченные из камня гривы кажутся толстыми загривками. У львов толстые губы как будто искусаны пчелами, сходство увеличено тем, что львы сделаны из песчаника и щербины времени искусали львиные морды. Если бы львам этим пришлось рычать, то звук «р» не родился бы в их пухлых мордах — они бы картавили.
Провинциальная, причудливая Россия. Неподалеку город кончается, или, вернее, прерывается, крутым оврагом. По дну оврага, падая по уступам слоев илистого песка, бежит неширокий ручей. По краям оврага обвалившиеся и местами прерывающиеся тропы. За ними домики — маленькие, покосившиеся от страха упасть с кручи.
Все это называлось улицей имени какого-то римского героя, кажется, Кая Брута.
В самом низу, там, где пенный ручей стихает перед тем, как впасть в Оку (а впадает он в Оку не всегда, а только при дожде), у плоского берега, недалеко от моста, стоял трехоконный домик Циолковского. Над домом березы, за ним осенний огород с уже побелевшей, круто свернутой, как будто приготовленной для отправки, капустой.
Низкие маленькие комнаты с голубыми вечерними окнами без занавесок. На стенках комнаты, кажется, зеленые, помню, что плохо натянутые, по газетам наклеенные обои.
Циолковский одет по-домашнему; у него неплотная, не очень большая борода.
На памятнике около авиационной академии она плотнее, но сам памятник похож.
Из угла в угол протянута толстая проволока; такую звали тогда «катанка». В углу висит керосиновая лампа под крашеным жестяным абажуром. Лампу зажгли и передвинули по проволоке.
Эта лампа здесь так и ходила по проволоке из угла в угол.
В углу комнаты, прислоненные, стоят большие модели металлических аэростатов, они как будто сделаны из фольги.
На самодельной полке одноформатные и разноцветные брошюры — книги Циолковского о звездоплавании.
Ночь за окнами совсем темная: на улице Кая Брута фонарей нет. Бедно. Сам Николай Федорович Федоров здесь не нашел бы излишеств.
Луна в ту ночь как будто и не поднялась или поднялась позднее. На клеенке стола мутное пятно керосиновой лампы, около стола блестит край большой жестяной трубы.
Кажется, что не скоро еще звездное пространство прорежется ослепительным пламенем ракетного дыхания.
Комнаты чисто выметены, но запущены.
Начинаем разговор.
Циолковский глух. Для того чтобы слышать, он ставит между собой и собеседником ту самую жестяную трубу длиной почти в полтора метра. Раструб трубы наводится на рот говорящего.
— Теперь не говорите громко, я все слышу так же, как вы меня.
Я говорил тихо, потому что боялся оглушить Циолковского. Труба гудела.
Нас было четверо: Журавлев — режиссер из «Мосфильма», оператор, я и стенографистка. Стенограмму приложили к отчету о поездке, и поэтому она пропала в бухгалтерии. Осталась только фотография, напечатанная в журнале «Искусство кино».
Отчитываться надо было в деньгах.
Мы привезли в Калугу гонорар за консультацию — пять тысяч, для того чтобы не заставлять самого Циолковского возиться с бухгалтерией. Счет приготовлен, надо расписаться. Циолковский передвинул лампу, подписал расписку и вздохнул.
— У нас дома несчастье. Внук прыгнул с березы с простыней, — думал, что парашют. Совсем бы разбился, но попал на кучу навоза.
Позвал дочку, от пачки денег отделил несколько пачек по пятьдесят рублей.
— Сруби кочны капусты, пошли к друзьям-соседям и к аптекарю — деньги и по кочну. Пускай пекут пироги: у Циолковского деньги есть.
Мы сидели долго, разговаривая озабоченно. То, что для нас было целью приезда, для Циолковского было целью жизни.
В это время человечество становилось на цыпочки и тянулось в стратосферу: это и было поводом для мысли о сценарии.
— Меня зовут, — сказал Циолковский, — в Москву, на полет стратостата. Ну что я, как мальчик, залезу в гондолу, а потом вылезу… Да и не полетят они завтра. Я смотрел вчера фотографию, мне прислали… у них веревка запутается. В нашем деле всегда так — думаешь о главном, а о веревке забудешь, а она окажется самым главным, когда запутается. Вот думаешь, как руль поставить в стратоплане! Его же нельзя поставить в потоке горящего газа!
Ночевать у Циолковского было негде. Пошли по берегу оврага в гостиницу. Крупно капал дождь. Тропинка скользкая. Шумит ручей. В разрывах туч звезды.
Наверху стоит хороший бревенчатый дом, еще без окон. Провожатый объяснил, что дом строит для Циолковского горсовет.
Достроить не успели.
Утром позвонили в Москву узнать: стратостат не полетел. Запуталась веревка.
Потом из газет узнали следующее: запутались тросы во время наполнения стратостата водородом. Стратостат наполняют или, вернее, наполняли не сполна: он созревает потом, когда попадает в слои атмосферы с меньшей плотностью. Перед стартом стратостат мягко колыхается, и иногда шелковые стенки его трутся, возникают искры статического электричества, от которых водород может воспламениться. Стратостат надо наполнять гелием, но гелия у нас не было. Монополия на гелий была в руках Америки, и она не пускала нас вверх.
Наши стратонавты взлетали высоко, наполнив стратостаты водородом, и, рискуя всем, часто сгорали.
Тросы того стратостата запутались, распутать их влез молодой красноармеец.
Стратостат, не взлетевший в то утро, сгорел, кажется, в третьем полете.
Назавтра днем в доме Циолковских все было в движении. В корыте рубили кочны капусты, запаривали кадки. У стены дома стоял высокий велосипед, вероятно тяжелый на ходу.
Циолковский подарил мне книги — целый ряд брошюр, а я их потерял, не знал, что они будут нужны. Я много потерял в жизни. Она сама — жизнь — просыпается песком между пальцами.
Циолковский говорил о звездах, которые на высоте не мерцают, о том, как легко будет строить на глыбах-астероидах — обломках исчезнувших планет — удобные строительные площадки: вещи там легки.
Вечер. Циолковский меня спросил:
— Вы разговариваете с ангелами?
— Нет, — ответил я тихо в трубку.
— По строению головы могли бы разговаривать.
— А вы? — спросил я.
— Я постоянно разговариваю.
Я не испугался, поняв, что ангел — вдохновение.
— Они постоянно не соглашаются… тяжелый характер у фактов, уходят, не договорив. Я так и не увижу ничего. Вот только прислали с какого-то завода рабочие подарок — нож и вилки из нержавеющей стали, — очень удобно: вымоешь — можно не вытирать. Ну, я сейчас поеду на велосипеде. В лесу… осень, надо ее вастать, пока листва не опала.
Мы поехали в Москву.
Помню, стоял я в проезде Художественного театра. Небо круглое, голубое, в нем поспевал и круглился стратостат.
Он взлетел высоко: веревка в тот день не запуталась.
Стратостат стремительно уходил в небо. Полыхающий, ненатянутый узкий конец перевернутой груши наполнялся. Стратостат, сверкая на солнце, созревал, как мечта.