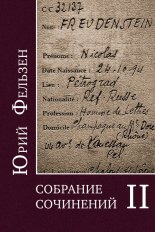Жили-были (воспоминания) Шкловский Виктор

Читать бесплатно другие книги:
В книге впервые публикуется центральное произведение художника и поэта Павла Яковлевича Зальцмана (1...
Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмигр...
Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмигр...
В книгу вошли самые известные произведения Юрия Трифонова (1925–1981) – «Дом на набережной», «Обмен»...
Повести Юрия Трифонова (1925–1981) «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание» и «Другая жиз...
Юрий Осипович Домбровский (1909–1978) – коренной москвич, сын адвоката, писатель, сиделец сталинских...