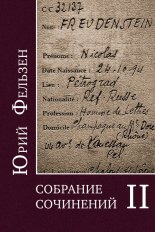Жили-были (воспоминания) Шкловский Виктор

Маяковский писал в это время «Флейту-позвоночник».
Ходил в «Бродячую собаку». В «Собаке» в то время официально вина не было. Пили, скажем, кофе. Народу было много, все больше приходило людей посторонних, которых в «Собаке» звали «фармацевтами». Даже устраивали вечера специально для «фармацевтов».
Люди, на которых работала война, закупали старые коллекции вместе с домами и с женами коллекционеров. Это ихняя любовь.
Для одной танцовщицы раз был закуплен подвал «Бродячей собаки». Весь подвал был заставлен цветами, женщина танцевала на зеркале вместе с маленькой девочкой, одетой амуром.
Уже пропадали эгофутуристы, зарезался Игнатьев и куда-то исчез сын Фофанова, молодой человек с откинутыми назад волосами, бледный, с тонкими кистями рук. Он называл себя Олимпов.
Появились люди в форме земгусаров.
«Бродячая собака» была настроена патриотически. Когда Маяковский прочел в ней свои стихи:
- Вам ли, любящим баб да блюда,
- жизнь отдавать в угоду?!
- Я лучше в баре б… буду
- подавать ананасную воду,—
то какой был визг.
Женщины очень плакали.
И вот наступал 16-й год.
Мы собирались у Бриков. У Бриков уже Пастернак. Он пришел с Марией Синяковой. Его стихи двигались с необычайной силой, смысловые разрывы перекрывались инерцией ритма, сближалось несходное, и слова музыкально изменяли свой смысл.
А в это время Хлебников был в чесоточной команде на Волге.
Многие из нас чувствовали приближение революции, но многие из нас думали, что мы вне пространства, что мы устроили свое царство времени, что мы не должны знать, какое тысячелетье на дворе.
Новый год. Елку мы подтянули в угол комнаты. Елочные свечи поставили на бумажные щиты. Хозяйка с открытыми плечами, задрапированными блестящим шелковым платком. На елке висели маленькие штаны, черные, и в них ватное облако. Сестра хозяйки в высокой прическе с павлиньими перьями. Да, у хозяйки шотландская юбка, красные чулки, короткие, шелковый платок вместо блузки и белый парик маркизы.
Я был одет в матросскую блузу, и губы у меня были накрашены. Брик — неаполитанец. У Василия Каменского пиджак обшит широкой полосой цветной материи, одна бровь была сделана выше другой, на щеке птичка.
Это был грим уже архаический, грим ранних футуристов.
Белокурый Вася при свете свечей был красив. Он поднял бокал и сказал:
— Да будет проклята эта война! Мы виноваты, что не поняли ее, нам стыдно, что мы держались за хвост лошади генерала Скобелева.
Василий Каменский очень талантливый человек, много сделавший в русской поэзии. Конечно, он болел иногда болезнью рифмы, рифматизмом, как сам он говорил.
А война продолжалась. Маяковского призвали.
Мы работали тогда в журнале Горького «Летопись». Маяковский печатал стихи. Брик и я писали рецензии.
Горький через знакомых устроил Маяковского в автомобильную роту чертежником. Володю спрятали от войны.
В поэзии было много дела, много сложного дела. Казалось, что «Облако в штанах» — полная и признанная победа. Но «Облако в штанах» все основано на метафорах, на «как», на сравнении. «Облако в штанах» берет тот мир, который невозможен для Анны Ахматовой. Мир Ахматовой узок, как полоса света, вошедшая в темную комнату.
Он уже ножа.
В нем вечер. Пробуждение, разлука.
Это мир, взятый уколами.
Так телескоп колет небо, выбирая из него звезды и лишая мир широты.
Мир Кузмина с точным названием прежде непоэтических вещей настолько узок, что для его расширения к нему балконами прицеплены романы и рассказы из стилизованного прошлого.
Нужен новый мир, а в старом мире Маяковского уже завелись дачники: это имажинисты, но здесь в их число не будем прописывать Есенина.
У Маяковского — мне говорил об этом Хлебников, хваля Владимира, — образы косолапые, неполно совпадающие, они дают шум, переключают. Его метафоры противоречивы, в его стихах струи разного нагрева.
Уже жил Шершеневич, обрадованный тем, что вещи бывают сходны, ассоциативная связь по сходству уже объявлялась отмычкой, открывающей двери искусства.
Игра в «как» была оборудована у имажинистов как бильярдная — на шесть столов.
Маяковский и Пастернак повели стих по ассоциации, по смежности.
Лирическое движение, синтаксис, рядом ставящий вещи по внутреннему их отношению, были созданы новым стихом.
Короткое дыхание ахматовской строки, сравнение, взятое рядами, преодолевались в новом стихе Маяковского.
Тематика эгофутуристов ушла в песенку более низкую, чем романс, в условную, щелевую, подавленно мурлыкающую песню Вертинского.
А Маяковский пошел ледоколом вперед, проламывая себе трассу в новое.
Зимой 1916 года мы издавали сборники по теории поэтического языка, издательство ОМБ, что значит — Осип Максимович Брик.
А Володя носил кольцо, подаренное Лилей, с инициалами. Он подарил Лиле кольцо-перстень и дал выгравировать буквы «Л. Ю. Б.». Буквы были расположены по радиусам, и эта монограмма читалась как слово «люблю».
Буйвол усталый уходит в воду.
Слон, может быть, на самом деле греется на песке. А ему не было места, и не было солнца, и любовь его была нелегка.
И наступала весна.
Светало! Светало! Серели камни.
Начали они даже голубеть, и где-то далеко в Петербурге уже гремели колеса по мостовой.
И уже алело.
Над лужами шли облака.
По-утреннему шумели жесткие листья тополей. Они росли между Спасским и Артиллерийским на Надеждинской.
Мы с Володей ходим по Петербургу. Светает, шумят невысокие деревья у красного дома.
Небо уже расступилось, пошли розоветь, голубеть облака. Дома стоят как пустые, подтемненные плывут в стеклах домов облака.
Маяковский идет простой, почти спокойный, читает стихи, кажется, мрачные, про несчастную любовь — сперва ко многим, потом к одной.
Это любовь без пристанища.
Эту любовь нельзя заесть, нельзя запить, нельзя записать стихами.
Идем, кажется, посредине улицы. Просторно, дома тихи. Над нами небо.
— Посмотри, — говорит Владимир, — небо — совсем Жуковский.
А между тем была уверенность, что мы победим жизнь и построим новое искусство. Был журнал «Взял», один номер. Один номер в количестве пятисот экземпляров.
Готовили сборник по теории поэтического языка — тоже по пятьсот экземпляров.
Было почти признание.
Были стихи Пастернака и молодой Асеев с движением стиха от слова к слову, с прекрасно сделанной, нераспадающейся строкой.
Мы жили между пальцами войны, не понимая ее и уже ее не боясь.
Журнал «Взял» издал Брик. В нем были напечатаны стихи Маяковского. Там же были стихи Пастернака, Асеева и моя несколько риторическая статья и совсем плохие стихи.
Журнал вышел на бумаге верже и в обложке из суровой обертки.
Слово «Взял» было набрано деревянным, афишным шрифтом.
Обертка была с камешками, со щепками, деревянные буквы сбились, и мы потом подкрашивали буквы от руки тушью.
В журнале был и Бурлюк со многоногими лошадьми.
Но стихотворной изобретательности, новизны стихов и ритмов во «Взял» было много.
Маяковский говорил, что он вообще размеров не знает, но что, вероятно, хорей — это фраза:
- Магазин и мастерская щеток и кистей.
А ямб:
- Оркестр музыки играет
- по вторникам и четвергам.
Свой стих он строил на интонации.
Во «Взял» были напечатаны стихи Асеева. Вот комментарии к этим стихам:
«Помню, как шел, однажды, по улице и в глаза мне бросилась вывеска над сенной лавкой: «Продажа овса и сена». Близость звучания ее и похожесть на надоевший церковный возглас: «Во имя отца и сына» — создали в воображении пародийную строку из этих двух близко звучащих обиходных словесных групп.
Я записал:
- Я запретил бы «Продажу овса и сена»…
- Ведь это пахнет убийством отца и сына?
- А если сердце к тревогам улиц пребудет глухо,
- Руби мне, грохот, руби мне глупое, глухое ухо!
Радовала меня, помню, стройность звуковых волн, впервые улегшихся в интонационно-ритмическую последовательность, не скованную никакими правилами метра. Ирония взаимно перекликающихся звучаний в первых двух строках противопоставила себе пафос двух следующих» («Новый Леф», 1928, № И. Н. Асеев, «Лирический фельетон»).
Маяковский прочно вошел в поэзию.
Валерий Брюсов понял Маяковского, но не мог отказаться от того, что делал сам.
Отказываются не всегда лучшие.
Это Сальери изменил все в своей жизни, в своем искусстве, услышав новую музыку.
- …Когда великий Глюк
- Явился и открыл нам новы тайны
- (Глубокие, пленительные тайны),
- Не бросил ли я все, что прежде знал,
- Что так любил, чему так жарко верил,
- И не пошел ли бодро вслед за ним,
- Безропотно, как тот, кто заблуждался
- И встречным послан в сторону иную?
Но тот же Сальери убил Моцарта, потому что Моцарту он не мог быть попутчиком. Назвать же Моцарта попутчиком, как называли Маяковского, Сальери не решился.
Брюсов не был Сальери.
Про Маяковского он говорил, защищая себя полупризнанием:
— Боюсь, что из Маяковского ничего не выйдет.
Владимир Владимирович очень забавно показывал, как Брюсов спит и просыпается ночью с воплем:
— Боюсь, боюсь!
— Ты чего боишься?
— Боюсь, что из Маяковского ничего не выйдет.
В этой остроте обычный метод Маяковского: перестановка ударения на второстепенное слово, переосмысливание этого слова и разрушение обычного значения.
Получается — правда. Брюсов боится.
«Человек» был кончен перед самым февралем 1917 года.
Марк Твен любил своего двойника, Гека Финна, любил больше, чем себя. Гек Финн был счастливей, он сумел уплыть с другом-негром.
Король и герцог — они не друзья, но в общем безобидные шарлатаны. Плывет по широкой реке Гек Финн, перерешая американскую жизнь.
Только две вещи и есть у Марка Твена, не переделанные женой и дочерьми: вот этот мальчик, родственник Диогена, и «Путешествие капитана Стормфильда на небо».
Этот капитан осмотрел печальное разнообразие неба, заблудился и наконец попал в американское небо, получил крылья и молитвенник, бросил их.
Там, на небе Марка Твена, самым великим писателем бы не Шекспир, а один сапожник, которого никогда не печатали. Сапожник умер в тот момент, когда его венчали капустными листьями и издевались над ним.
Загробные празднования привлекли даже внимание с других небес — так был прославлен этот сапожник.
Маяковский вместе со старым лоцманом американской реки знал это небо разочарованных плебеев.
Но он ввел в поэму ощущение поэта, он гордо взошел на скучное небо.
Его увела от жизни любовь.
Сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою.
Нева, набережные.
Старая песня, которую пел Татлин еще в школе ваяния и зодчества:
- На углу стоит аптека,
- Любовь гложет человека.
А вот и стихи:
- Аптекарь!
- Аптекарь!
- Аптекарь,
- где
- до конца
- сердце тоску изноет?
- У неба ль бескрайнего в нивах,
- в бреде ль Сахар,
- у пустынь в помешанном зное
- есть приют для ревнивых?
- За стенками склянок столько тайн.
- Ты знаешь высшие справедливости.
- Аптекарь,
- дай
- душу
- без боли
- в просторы вывести.
Небесные свои мемуары Маяковский написал. И в небе он не изменил любви, и с неба он вернулся опять к Неве и на улицу Жуковского. Она уже была его имени.
Он ошибся: его именем названа Надеждинская.
Холодная, блестящая, ровная, чужая река, неуютная.
- Был этот блеск.
- И это
- тогда
- называлось Невою.
Октябрьская революция сохранила Маяковского.
Революцией он наслаждался физически.
Она была ему очень нужна.
Февраль. 1917–1918 годы
В Февральскую революцию Маяковский был в автомобильной роте. Он написал об этом в своей «Хронике». Я был в броневом дивизионе. Дорога по улицам быстро сделалась от весенних снегов ухабистой. Кричали громко какие-то незначительные, еще зимние птицы. Снег нависал с крыш, качало броневые машины, стреляли в учебной команде саперного батальона. Стреляли в Лесном.
Разыскивая Маяковского, я зашел к Брикам.
Дым в комнате уже устоялся, и новые клубы дыма расплывались в дыму.
Маяковского не было. Не помню Брика. Был Кузмин и много народу. Уже второй день играли в «тетку».
Революция началась с хлебных очередей, с солдатского негодования.
Она началась так, как облака или ветер начинаются в горах.
Я в карты не играю и ушел опять на улицу.
На улицах дул ветер, стремительно наступала весна, портились дороги, все кричали, все бегали с оружием. Николай Кульбин организовывал милицию и умер в первый день.
Маяковский вошел в революцию, как в собственный дом.
Он пошел прямо и начал открывать в доме своем окна.
Ему нужно большее, чем Февральская революция, — в день ее он говорил уже о великой ереси сбывающегося социализма.
Ему надо было переделывать улицы, улицы должны были найти собственную свою речь.
Революция Маяковского укрепила и успокоила.
Маяковского я увидел веселым.
Марсово поле тогда еще не было зеленым.
Так же, спиной к параду, стоял, глядя на Неву, Суворов. За его спиной динамитом рвали ямы для могилы жертв революции.
«Бродячая собака» была закрыта, ее переименовали в «Привал комедиантов», перевозили, расписывали, превращали в какой-то подземный театр.
Мы в подвал зашли случайно. Сидел Маяковский с женщиной, потом ушли.
Маяковский прибежал через несколько минут. Волосы у него были острижены коротко, казались черными, он весь был как мальчик. Он забежал и притащил с собою в темный подвал как будто бы целую полосу весны.
Нева, молодая, добрая, веселые мосты над ней, не те, которые он потом описал в «Человеке», не те мосты, которые мы знаем в стихах «Про это», почти кавказская весна, Нева, голубая, как цветная пена глициний в Кутаиси, лежала в серых веселых набережных.
Нева с теплым ветром шла мимо веселой Петропавловской крепости. Была революция навсегда. Она разгоралась.
- Дул,
- как всегда,
- октябрь ветрами.
- Рельсы
- по мосту вызмеив,
- гонку
- свою
- продолжали трамы,
- уже —
- при социализме.
Маяковский был в Москве.
Он снимался в кино, в ленте «Не для денег родившийся».
Эта лента по Джеку Лондону, по Джеку Лондону, понятому Маяковским.
Иван Нов спасал брата прекрасной женщины.
Потом начиналась любовь к женщине. А женщина не любила бродягу. Тогда бродяга становился великим поэтом, он приходил в кафе футуристов.
Все это снималось фирмой «Нептун», владелец ее был Антик.
Света было мало, поэтому в кафе футуристов задник был почти на самом экране. Задник небольшой, на нем изображена какая-то десятиногая лошадь, в кафе Бурлюк с разрисованной щекой и Василий Каменский.
Иван Нов читает стихи Бурлюку. Он читает:
- Бейте в площади бунтов топот!
- Выше гордых голов гряда!
- Мы разливом второго потопа
- Перемоем миров города.
- Дней бык пег.
- Медленна лет арба.
- Наш бог бег.
- Сердце наш барабан.
И, как тогда, на бульваре, Маяковскому, Бурлюк говорил Ивану Нову:
— Да вы же гениальный поэт!
И начиналась слава, и женщина приходила к поэту. Поэт в накидке и цилиндре. Он надевал цилиндр на скелет, покрывал скелет накидкой и ставил это все рядом с открытым несгораемым шкафом.
Шкаф был набит гонорарным золотом до отвращения. Женщина подходила к скелету, говорила:
«Какая глупая шутка!»
А поэт уходил. Он уходил на крышу и хотел броситься вниз.
Потом поэт играл револьвером, маленьким испанским браунингом, не тем, которым поставил точку пули.
Потом Иван Нов уходил по дороге.
Он играл в вещи, которая называлась «Учительница рабочих», был хулиганом, исправлялся, любил, умирал под крестом.
Он играл без грима и не очень нравился Антику.
Когда хозяин спорил с Маяковским, тот хладнокровно отвечал:
— Вы знаете, я могу в крайнем случае писать стихи.
Он веселился как мальчик, он веселился свадебным индейцем. Он издал наконец целиком «Войну и мир», издал «Облако в штанах» без цензурных сокращений. Издал «Человека» — невеселую книгу о поэте, который не может добиться настоящей любви.
Раздел III
Этот раздел начинается воспоминаниями о великом лирике Александре Блоке. Дальше идут теоретические рассуждения, местами несколько сухие и перегруженные цитатами. Этот раздел надо прочесть, если хочешь знать о теоретиках, соседях Маяковского, о людях, которые на его опыте осмысляли искусство прошлого наново. В разделе четыре главы, но они длинные.
О Блоке
На Неве были разведены мосты. Сумрак, в домах огни, на улицах фонари не зажжены. На правом берегу Невы, в большом, неуклюжем оперном театре на Кронверкском проспекте, допевал оперу «Демон» Шаляпин.
Билеты были проданы. Шаляпин допевал, и публика сидела.
Шел «Демон».
В Петербурге отряды, в Петербурге костры, по улицам ходит Маяковский. Он тогда много ходил по улицам, спорил, митинговал в маленьких, подвижных, легко рассыпающихся, непрерывных митингах.
У костра он встретил Александра Блока в форме военного чиновника. Может быть, в эту ночь без погон.
Блок в то время много ходил по улицам, заходил в кино.
Кино тогда звалось «синематограф». В маленьких, душных залах пели куплетисты.
На большой пустой Неве стояла «Аврора», подведя пушки почти к виску Зимнего дворца. Весь город готов был к отплытию, и только Демон на Петроградской стороне пел не двигаясь.
Они ходили, два поэта, по улицам, говоря о революции, о самом главном для поэта.
Блока я видел с Маяковским потом еще несколько раз.
На Литейной улице, в театре «Миниатюр», читал Маяковский «Мистерию-Буфф».
Александр Блок был высок ростом, голубоглаз, светловолос. Он говорил всегда тихим и спокойным голосом.
Он читал стихи так, как будто видел их перед собою написанными, но не очень крупно, читал внимательно.
Блок в революции нашел новый голос.
Ветер революции, прорываясь через поэта, гудит им, как мостом. Он проходит сквозь него, как дыхание через губы.
Блок написал «Двенадцать», и когда его спрашивали про Христа, который идет впереди красногвардейцев, он говорил тихим голосом:
— Я вглядываюсь и вижу — действительно так.
«Двенадцать» Блок никогда не читал. Он не мог поднять ее, не мог повторить ее.
Он работал в театре, потом читал чужие пьесы, ставил «Лира». Когда-то в деревне, перед крестьянами, с женой он играл «Гамлета», и в зале очень смеялись.
Матросы смеялись, когда Отелло душил Дездемону, не потому, что они не понимали ревности Отелло, а потому, что они смехом обозначали, что понимают условность сцены, смехом они как будто защищались от ужаса.
Это было время, когда в театре зрители спрашивали, удастся ли Хлестакову благополучно убежать от городничего.
На шиллеровских «Разбойниках» на слова разбойника: «Пули — наша амнистия» — начиналась овация зала.
Блок видел, слышал новую музыку времени, он отделился от своих друзей; он говорил: «К сожалению, большинство человечества — правые эсеры». Он отделился от знакомого ему человечества уже тогда, когда шел с человеком Маяковским.
В театре «Миниатюр» читал Маяковский.
Блок сказал:
— Мы были очень талантливы, но мы не гении. Вот вы отменяете нас. Я это понимаю, но я не рад. И потом мне жалко, что у вас рифмуется «булкою» и «булькая». Мне жалко и вас и себя, что мы радуемся булке.
Он был с новым человечеством, которое ему дало «Двенадцать» и «Скифов». Он не был отменен. Потому что искусство не проходит.
Продолжаю
Был Петербург солнечный, потому что трубы не дымили.
На Надеждинской травы не было, а Манежный переулок весь зарос травою, и по переулку бродила лошадь. Около Александровской колонны на Дворцовой площади тоже была трава. Приходили люди и пасли кроликов, принося их с собой в корзинках. Перед Эрмитажем играли в городки: там была торцовая мостовая.
В Летнем саду купались в пруду.
Блок еще жил и работал в театральном отделе — в ТЕО. Брик издавал газету «Искусство коммуны».
Он работал в комиссариате искусств. ИЗО — Отдел изобразительных искусств — помещался на Исаакиевской площади, в прекрасном доме Мятлевых.
Это хорошо построенное, высокохудожественное жилье.
Не дворец. Лучше. Умные комнаты.
Здесь Давид Штеренберг и плосколицый Альтман Натан, сюда приходят Владимир Козлинский и Маяковский Владимир. Они вместе играют на бильярде.
Брик — комиссар Академии художеств и называет себя швейцаром революции, говорит, что он открывает ей дверь. Брики все еще живут на улице Жуковского, 7, на той же лестнице, но у них большая квартира. Зимой в этой квартире очень холодно.
Люди сидят в пальто, а Маяковский — без пальто, для поддержания бодрости.
Ходит сюда Николай Пунин; раньше он работал в «Аполлоне», сейчас футурист, рассказывающий преподавателям рисования о кубизме с академическим спокойствием.
На столе пирог из орехов и моркови. В этом пироге нет ничего нормированного. Он может быть целиком добросовестно куплен.
В городе очень много продают, и все помалу, и все эпидемически: то откроется комиссионный магазин, который торгует фарфором, то на перекрестках продают шоколад.
Шоколад называется «шоколад мастеров Жоржа Бормана». В него подмешивают мелкомолотый рис, тогда получается шоколад «Миньон». Дело объясняется тем, что в городе остались какаовые зерна, масло.
Продают маленькие ржаные лепешки. Все с рук.
«Искусство коммуны» проповедует новое искусство вообще, футуризм хочет завоевать страну. Луначарский возражает, что рабочие не любят футуризм, хотя любят Маяковского.
Маяковский говорит, что надо разъяснять.
В «Искусстве коммуны» появлялись статьи о вывесках. Я отдельный, я доказываю, что мы в этом деле не участники, я — против «Искусства коммуны» и занимаю политически среди футуристов правый фланг.
На площади против цирка Чинизелли, на углу, есть книжный магазин, — он так и называется «Книжный угол», торгует старыми книгами и новыми рукописными, пишут книги от руки Кузмин, Сологуб.
Наверху в том же доме, в пустых комнатах, — шестой этаж без лифта, — тихо висят футуристические картины. Стоят табуретки, никем не занятые. Это ИМО.