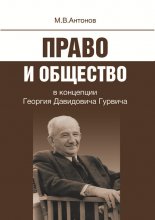Эра Милосердия Вайнер Георгий
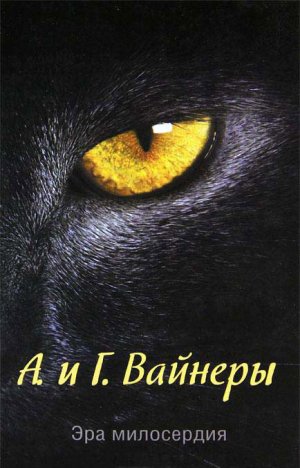
Довод этот мало меня убедил, но я уже сообразил, что с такой собеседницей не очень-то поспоришь, и сказал мирно:
— Ага, ясно. Где он живёт?
Соболевская впервые за весь разговор улыбнулась:
— Мне стыдно за своё легкомыслие, но… он не хотел говорить, а я его не допрашивала…
И я вдруг понял, что ей действительно стыдно, до слёз, до боли, и она подшучивает над своим легкомыслием, чтобы другие первыми не посмеялись над ней. А она спросила:
— Он натворил что-нибудь серьёзное? Если не секрет, конечно?
Она не вызывала у меня подозрений, да и почему-то мне стало её жалко, но поскольку главная добродетель сыщика, по словам Жеглова, всё-таки есть хитрость и сам я полагаю так же, то я слукавил:
— Да как вам сказать… Здорово похож он на одного злостного алиментщика. Двоих ребят бросил, а сам порхает… — И, разведя руками, я широко улыбнулся, а потом добавил, понизив голос: — Нам по приметам дворник-то ваш и подсказал… — На лице у Соболевской появилось прежнее брезгливое выражение, но я, не давая ей времени на размышления, попросил: — Имя-то ничего ещё не говорит — вы же в его паспорт не смотрели? Опишите его — какой он?
Не глядя на меня, Соболевская сказала презрительно:
— Конечно, роль вы мне отвели малопочтенную… Но ради двух голодных несчастных брошенных детей… Так и быть, слушайте… — И никакого сочувствия к несчастным брошенным детям Фокса я не уловил в её голосе, а скорее звенела в нём амбиция отвергнутой любовницы. Уставившись неподвижным взглядом в угол, Соболевская монотонно перечисляла: — Высок, строен, широк в груди, узок в талии, голова красивая, гордая, с пышной шевелюрой вьющихся чёрных волос… Лицо бледное, лоб высокий, глаза синие, брови соболиные, нос орлиный, рот… Рот, пожалуй, его портит, губы слишком тонкие, но для мужчины это не страшно… Зубы ровные, на подбородке — ямочка… Голос хрипловатый, но нежный. Умён и отважен. Впрочем, вас это не интересует… Всё!
И совершенно неожиданно заплакала.
12
Приближается зима, многие москвичи уже озабочены подшивкой валенок. До сих пор эта работа выполнялась вручную. Инженер Дятлов сконструировал для подшивки валенок специальною машину, на которой мастер сможет подшить за день до 150 пар валенок.
«Вечерняя Москва»
Я проснулся без четверти шесть от холода, — укладываясь спать, Жеглов растворял настежь окно и утверждал, что от свежего воздуха человек высыпается вдвое быстрее. На цыпочках я перебежал к окну, ёжась от холода, быстро прикрыл раму и начал делать зарядку и чем быстрее махал руками и ногами, тем становилось теплее. Из-за серого дома Наркомсвязи вставало красное, чуть задымленное облаками солнце, сиреневые и серые рассветные тона растекались под карнизы и крыши, и сейчас стало видно, что кровли покрыты серебряной испариной первого утренника. Воздух был прозрачен и тягуч — он слоился струями и имел вкус снега и хвои. Посмотрел я, посмотрел и снова открыл окно.
Из-под одеяла вылезла взлохмаченная жегловская голова, и хриплым со сна голосом он спросил встревожено:
— Алё, мы с тобой не проспали?
— Давай вылезай скорее, сейчас чай будет…
К чаю у нас было четыре пакетика сахарина, котелок варёной картошки, холодной правда, но всё равно вкусной, с тонкой солью «Экстра», и две банки крабов. Я купил крабы позавчера в соседнем магазинчике — их продавали вместе с белковыми дрожжами без карточек, и весь магазин был заставлен пирамидами, сложенными из блестящих баночек с надписью «СНАТКА» и «АКО».
— Конечно, краб — это не пища, — рассуждал Жеглов за столом. — Так, ерунда, морской таракан. Ни сытости от него, ни вкуса. Против рака речного ему никак не потянуть. Хотя если посолить его круто и с пивом, то ничего, всё-таки закусочка. Но едой мы его признать никак не можем…
Я, как ответственный за продснабжение, обиделся:
— Ты же сам просил меня карточки не отоваривать за эти дни, приберечь к праздникам, — может толковое что-нибудь выкинут! У нас за целую декаду карточки сохранились, а ты бубнишь теперь!
— А я разве что? Правильно действовал. Но знаешь, если еду поругать, то себя самого выше понимаешь. А с собой имеем что-нибудь? Там ведь на свежем воздухе жрать как волки возжелаем…
— Вон я уже в авоську упаковал харчи. Рацион, значит, такой предлагается: два гороховых брикета-концентрата, буханка хлеба, три луковицы-репки, небольшой шматок сала и три куска рафинада натурального. Заварка чайная само собой. Хватит?
— Хватит. Может, крабов ещё пару банок возьмём?
— А тебе там пива к ним не заготовили, — ехидно сказал я.
— Стану я на вас надеяться, — хмыкнул Жеглов и, нырнув за диван, вытащил оттуда поллитровку. — Подойдёт?
— Живём, — засмеялся я. — Вот только ехать мне не в чем — ботинки совсем развалились.
— А сапоги?
— Да ты что, Жеглов? Они же у меня теперь единственные — хромовые, офицерские, — а я в них по глине там топать стану? В чём мне тогда завтра-то ходить?
— Плюнь! Живы будем — новые справим.
— Ну нет, — не согласился я. И отправился к Михал Михалычу.
А Жеглов натянул свои щёгольские сапожки и почистил их ещё на дорогу, словно собирался не на огороды, а к руководству. Он уже совсем был готов, когда я вернулся — в отрезных подшитых валенках с кожимитовой подошвой и простроченными носами. В придачу они ещё были маловаты.
— Брось людей смешить, — сказал Жеглов. — Солнце на улице, а ты в валенках…
— Ничего, ничего. Я ведь не танцевать еду, а работать, так что посмотрим ещё, кто кого насмешит…
Мы шли по городу, утренне просторному, воскресному, и солнце уже стало жёлтым, мягким, а воздух я прямо разгребал горстями. На Сретенском бульваре замерли недвижимо липы, и сказал я Жеглову с грустью:
— Эх, жалко! Сейчас после заморозка солнышко пригреет — сразу лист потечёт…
На Кировской в огромном доме ЦСУ рабочие снимали со стеклянных стен фанеру, которой было забито лёгкое воздушное здание все долгие военные годы. На Комсомольской площади трещали и гомонили трамваи, бегали люди с мешками и чемоданами, шум и гам стоял невообразимый, и разрывали его только острыми голосами мальчишки, продававшие скупленные заранее журналы «Крокодил», и деньги просили они немалые — червонец за штуку, хотя цена была рубль двадцать.
Мы с Жегловым направились к седьмой платформе, где должны были встретиться с остальными сотрудниками Управления прямо у электрички. Издали мы увидели плотную компанию, из которой нам призывно махали руками Пасюк и Тараскин. А когда подошли вплотную, какая-то девушка шагнула мне навстречу:
— Здравствуйте, товарищ Шарапов! — И поскольку я от растерянности не ответил, спросила: — Вы меня не узнаёте?
Я смотрел на Варю Синичкину и проклинал себя, крестьянскую свою скупость, и вместо того чтобы поздороваться с ней, думал о Жеглове — всегда и во всём тот впереди меня, потому что не бережёт на выход свои единственные сапоги и на копку картошки не берёт у Михал Михалыча старые подшитые валенки, а натягивает свои сияющие «прохаря», и если судьба дарит ему встречу с девушкой, которую уже однажды по нескладности, неловкости и глупой застенчивости потерял, то ему не придётся выступать перед ней в дурацких валяных ктах…
— Моя фамилия Синичкина, — нерешительно сказала девушка. — Мы с вами в роддом малыша отвозили…
На ней была телогрейка, туго перехваченная в поясе ремнём, спортивные брюки и ладные кирзовые сапоги, и вся она была такая тоненькая, высокая, с лицом таким нежным и прекрасным, и огромные её серые глаза были так добры и спокойны, что у меня зашлось сердце.
— Вы забыли меня? — снова спросила Синичкина, и я неожиданно для самого себя сказал:
— Я вас всё время помню. Вот как вы ушли, я всё время думаю о вас.
— А на работе? — засмеялась Варя. — Во время работы тоже думаете?
— На работе не думаю, — честно сказал я. — Для меня эта чёртова работа всё время как экзамен, непрерывно боюсь, чтобы не забыть что-нибудь, сообразить стараюсь, разобраться, запомнить. У меня башка ломится от всей этой премудрости…
— Ничего, научитесь, — заверила серьёзно Синичкина. — Мне первое время совсем невмоготу было. Даже на гауптвахту попала. А потом ничего, освоилась.
— А за что же на гауптвахту? — удивился я.
— Я только месяц отслужила, и у подружки свадьба, приехал с фронта её жених. А я дежурю до самого вечера — никак мне не поспеть причёску сделать. Ну, я думаю: чего там за полчаса-то днём произойдёт? И с поста — бегом в парикмахерскую, очень мне хотелось шестимесячную сделать. Прямо с винтовкой и пошла — мы тогда ещё на постах с винтовками стояли. А тут как раз поверяющий — бац! И мне вместо свадьбы — пять суток на губе! — Она весело расхохоталась, и, глядя на влажный мерцающий блеск её ровных крупных зубов, я тоже стал заворожено улыбаться и с удивлением заметил, что мне совсем не стыдно рассказывать ей о своей неумелости и бестолковости, и то, что я так тщательно скрывал всё это время от товарищей, ей открыл в первый же миг, и почему-то незаметно растворилась неловкость из-за проклятых валенок и осталось только ощущение добродушной улыбчивости, незамутнённой чистоты этой девушки и непреодолимое желание взять её за руку.
Я, наверное, так и сделал бы, но Варя показала мне на человека, идущего по платформе:
— Этот дядька сейчас упадёт…
Профессорского вида полный пожилой мужчина в толстых очках, щурясь, высматривал место посадки в электричку. В руках у него были завёрнутые в мешковину саженцы, а по доскам перрона вслед за ним волочились развязавшиеся шнурки бутсов. И прежде чем я открыл рот, Вая Синичкина побежала к нему:
— Постойте, дядечка, вы сейчас наступите на шнурок! — Нагнулась и быстро, ловко завязала ему шнурки на обоих бутсах. — Вот и всё в порядке! — И раньше, чем смущённый толстяк успел ей сказать что-либо, она уже вернулась ко мне, спрашивая на ходу: — А как вас зовут? А то неудобно мне вас называть «товарищ Шарапов»!
— Володя, — отрекомендовался я и снова смутился: как-то глупо это у меня получилось, будто в детском саду! Взрослый человек, двадцать два года, старший лейтенант — и Володя! Сказал бы ещё — Вова!
— Владимир… — сказала Варя. — Хорошее имя, старое. Мне нравятся такие имена. А то была мода на иностранные, столько ерунды с этим получалось! Со мной в школе мальчик учился, Кургузов, так его родители назвали Адольфом. Представляете, сколько он мук натерпелся потом — Адольф Кургузов! А мальчишка хороший был, он под Яссами погиб…
Жеглов постучал согнутым пальцем в мою спину, как в дверь:
— Можно? Сейчас поезд подадут, так ты очнись, пожалуйста, места надо будет занимать…
К платформе медленно подъезжала переполненная электричка, тараня плоским своим лбом прозрачный плотный воздух. У открытых дверей толпились люди, пассажиры на перроне невольно отступили на шаг от края. И тогда Жеглов, плавно оторвавшись всем телом от настила, изогнулся в воздухе гибко и легко — и в следующий миг он уже стоял в тамбуре. Сходящие толкали его узлами и сумками, коробками и мешками, кричали на него и обзывали всячески, но он вворачивался в их плотное месиво, отругивался, смеялся и шутил, и ещё не все вышли из вагона, когда он высунул голову из окна:
— Две лавки в нашем распоряжении. Поторапливайтесь…
Варя от души хохотала, я смотрел на него с завистью, Тараскин всё воспринимал как должное, Пасюк качал головой: «От жук, ну и жук!» — а Шесть-на-девять уже рассказывал, как он семь суток вёз на крыше пульмана стеклянный бочонок с мёдом. Почти все сотрудники Управления влезли в один вагон, и сразу возник слитный шум от разговора множества знакомых между собой людей.
Жеглов уже заключил пари с Мамыкиным из второго отдела, что его бригада накопает картошки больше, чем они:
— Мы в работе лучше, мы и картошкой вас закидаем!
Шесть-на-девять, устроившийся в середине букета девочек из наружной службы, закончил рассказ про пульман и объяснял, что у него удар правой рукой — девяносто килограммов, а левой — девяносто пять и что чемпион страны по боксу Сегалович уклонился от встречи с ним. Девчонки-милиционерши уважительно щупали его бицепсы и от души заливались. Коренастая блондиночка Рамзина из дежурной части гладила его по сутулой спине и говорила:
— Гриша, женись на мне, я тебя никому в обиду не дам… А уж Льву Сегаловичу тем более…
Ребята из ОБХСС играли на перевёрнутом чемоданчике в домино, а Тараскин искоса взглянул на них и, наверное, из зависти, что ему не нашлось места, высокомерно сказал:
— Самая умная игра после перетягивания каната!
Пасюк забрался в угол и сразу же крепко заснул. Варя посмотрела на него и с жалостью сказала:
— Обида какая! Человек треть своей жизни проводит во сне! Представляете, как досадно проспать двадцать пять лет! Ужасно! Двадцать пять лет валяешься на боку и ничего с тобой интересного не происходит! Хорошо хоть, что сны снятся. Владимир, вам часто сны снятся?
— Редко, — признался я, и тон у меня был такой, будто это моя вина или есть во мне какой-то ущерб, по причине которого редко сны снятся. И я добавил, оправдываясь: — Устаём мы очень сильно…
— А мне сны часто снятся! — радостно сказала Варя, сияя своими серыми глазами, и мне невыносимо захотелось проникнуть в её сон, узнать, что видит она в голубых и зелёных долинах волшебных превращений яви в туманную дрёму неожиданно пришедшей мечты.
— Сегодня тоже снился? — спросил я серьёзно.
— Да! Но я его не весь запомнила — он снился мне как раз перед тем, как проснулась. Не помню, как получилось, но снилось мне, что я хожу по огромному дому, стучу во все двери и раздаю людям васильки и ромашки — почему-то были там только ромашки и васильки. И столько я цветов раздала, а букет у меня в руках меньше не становится. И никак не могу вспомнить, знакомые это мне люди или чужие…
Я взял её за руку, и она не отняла свою тоненькую ладошку, и мне ужасно захотелось рассказать ей про удивительный сон, который я видел прошлой зимой в полузаваленном блиндаже на окраине польского города Радом: снился мне перед рассветом синий луг с ослепительно жёлтыми цветами, которые спокойно жевала наша батальонная грустная лошадь Пачка, и я хотел закричать во сне, что надо отогнать её — там мины, — но немота и бессилие сковали меня, и через синий луг побежал к Пачке белобрысый конопатый солдат Любочкин, и во сне кричал я и бился, стараясь остановить его, и проснулся от воя и протяжного грохота, располосованного криком: «Любочкина миной разорвало!»
Но ничего я не сказал про свой запомнившийся с войны сон, а только, наклонившись к ней ближе, негромко пробормотал:
— Варя, сказать вам, о чём я мечтаю?
— Скажите! Мне всегда интересно, кто о чём мечтает!
— Я мечтаю, что когда-нибудь у меня в доме постучат в дверь, я открою и увижу вас…
— А ромашки и васильки? — засмеялась Варя. — Сейчас уже октябрь…
— Это неважно. Лишь бы вы пришли…
Она улыбнулась и мягко, осторожно вытащила свою руку из моей. А Жеглов взял у кого-то гитару и быстрым, ловким своим баритончиком запел песню, отбивая на струнах концы фраз.
Мне и песня нравилась, ещё больше нравилось, как поёт её Жеглов, но совсем не нравилось, как смотрит на него Варя. Будто и не кричал Жеглов на неё когда-то во дворе дома по Уланскому переулку — лучше бы она была позлопамятнее! Жеглов спел ещё несколько песен, отдал гитару и стал что-то негромко говорить Варе на ухо; всё время посмеивался он при этом, хищно поблёскивали коричневые его глаза, и полные губы немного оттопыривались, будто держал он в них горячую картошку. А Варя слушала его с удовольствием, и мне это было непереносимо: я ведь видел, как ей интересны жегловские байки. Потом она махнула на него рукой и сказала:
— Да бросьте! Сроду ни в одном кинофильме не было хорошего человека в пенсне! Ни в книге, ни в кино — никогда положительный герой не носил пенсне. Вот если бы мне нужны были очки, я бы назло всем пенсне купила!
— Варя, да какая же ты положительная? — серьёзно спросил Жеглов. — Ты остро отрицательная — вон, взгляни, как смотрит на меня Шарапов! Зарэжет! И всё из-за тебя!
Я смутился от неожиданности, пробормотал что-то, и Жеглов уже изготовился разобраться со мной как следует, но Тараскин сказал:
— Станция Софрино. Следующая — Ащукинская, нам сходить…
До огородов было километра полтора, и шли мы всей гурьбой вдоль железнодорожной насыпи, через перелесок, по берегу уснувшей речки. В заводях пузырчато чешуилась зелёная ряска, а на протоке виднелось полосатое песчаное дно со спутанными космами водорослей. Неостановимо несло ветерком переливающуюся паутину, клейкие её ниточки садились еле ощутимо на лицо. Стояли уже прибитые первым заморозком травы. Багровел жёсткими листочками черничник, замер по сторонам бронзовый багульник, а в лесочке ещё видна была среди листвы и трав фиолетовая, словно заиндевевшая, голубика.
Варя шла впереди с Жегловым, а я нарочно отстал — я понимал, как нелепо выгляжу в своих валенках, каменно молчащий и неуклюжий, рядом с Жегловым. Настроение испортилось, не хотелось смотреть вперёд, туда, где рядом с Жегловым вышагивала по плотно убитой дороге своими длинными стройными ногами Варя, а Жеглов одновременно что-то рассказывал, махал руками, свистел, изображал в лицах — целый МХАТ в сияющих хромовых сапогах…
Пасюк похлопал меня по плечу, широко ухмыльнулся:
— Гей, хлопче, нэ журывсь!
— А мне-то что? — пожал я плечами. — Какое моё дело…
— Тож то я и бачу, шо тоби нема дила, як до цыганив, шо твого коня уводилы!
Не ответил я, только рукой махнул, а Пасюк заметил:
— Гарна дивчина. Надоест ей Жеглов, дуже он швыдкий. Ее на той фейерверк не пидманишь… — Посмотрел мне хитро в глаза: — Або и замазка оконная ей не подойдёт, ты свой характер покажи…
Пока я раздумывал, как это мне показать Варе свой характер, да так, чтобы он ей понравился больше жегловского, дошли мы до огородов. Стояла там на меже фанерная хибарка, где жил сторож дед Максим. Встретил старик нас радостно, поинтересовался, не привезли ли чего «старые кости согревающего», роздал нам лопаты, мотыги-тяпки, мешки, указал всем делянки, уселся на перевёрнутую корзину, задымил короткой толстенькой трубкой и скомандовал:
— Ну, молодёжь, нагулялись, надышались, «шу-шу-шу» — наговорились, а теперя зачинайте…
Варя подошла ко мне и, заглядывая в лицо, спросила:
— Володя, можно я с вами рядом буду копать?
— Пожалуйста! — обрадовался я. — Я думал, что вы с Жегловым…
Варя хитро улыбнулась, покачала головой:
— Нет. Я с вами хочу…
А Жеглов уже расставлял ребят из своей бригады в цепь поперёк картофельных гряд:
— Я первый, вторым Пасюк, третьим Тараскин, Гриша, ты следующий, замыкает Шарапов…
— За мной Варя, — твёрдо сказал я.
Жеглов покачал головой:
— Этак нас бригада Мамыкина обставит — вон они Рамзину взяли, а на ней брёвна можно возить…
— Меня это не касается, — сказал я, и Жеглов, мельком взглянув на меня, пожал плечами:
— Я ведь против Варвары и не возражаю. Я только хотел облегчить её участь…
Я с ним больше спорить не стал, сбросил гимнастёрку, поплевал на руки и ухватисто взялся за лопату.
— Начали? — спросил-скомандовал я, и все дружно воткнули блестящие лезвия лопат в податливую красноватую землю на полный штык.
Зашуршала, хрустнула, вязко огрузла на железе земля, лопнули с чмоком корешки, нажал я на пружинящий черенок лопаты, дожимая его к самой меже, а левой рукой перехватил поближе к штыку, и раздалась подсохшая корка землицы, выворотил я весь куст целиком, бросил сбоку, и отсыпавшийся грунт открыл большие жёлто-розовые клубни…
И сколько было нас в цепи — вынули первые картофелины и заорали дружно что-то восторженное и бессмысленное, как тысячи лет уже орут люди, вместе, сообща взявшие трудную добычу. Выворотил я второй куст, оглянулся на Варю, которая была рядом — только руку протянуть, — и оттого, что была она рядом, кричащая и смеющаяся вместе со мной, я почувствовал в себе такую силу, будто внутри меня заработал трактор, и в этот момент мог я вполне свободно и сам, один, перекопать всё поле.
Крутанул следующий куст, взглянул на Жеглова — он уже продвинулся на шаг вперёд, — и стало мне смешно: мог ли он в своих распрекрасных сапожках здесь со мной мериться силой? И вогнал я лопату в землю, перевернул, отвалил грунт и клубни, и снова вогнал, и снова, снова…
Ах с каким счастливым, радостным остервенением копал я влажную красноватую землю! Господи, кому же мог я тогда объяснить, какое это счастье, удовольствие, отдых — копать солнечным тихим утром картошку на станции Ащукинская, когда совсем рядом идёт, посмеиваясь и светя своими удивительными глазами, Варя? А не рыть, заливаясь горьким, едучим потом, в июльский полдень под Прохоровкой танколовушку, не останавливаясь ни на миг, не распрямляясь, умирая от жажды и зная, что прикрывает тебя только батарея сорокапятимиллиметровок и побитый взвод петеэров, в уверенности, что если мы не поспеем, то через час или через полчаса, а может, через минуту выползут из-за взлобка «тигры» и сомнут нас, размолотят батарею и гусеницами превратят нас в кровавое месиво… А над плечом моим тонко и просительно гудит пожилой капитан-артиллерист: «Три ловушечки, ребяточки, дорогие мои, поспейте, ради бога, только бы лощинку прикрыть, а здесь мы их не пропустим, только вы нам фланг прикройте, родимые…» А я хриплю ему обессилено: «Валежник, кусты тащите скорее…» И когда перед вечером «тигр», весь багрово-чёрный от косых лучей падающего солнца, в сизом мареве дизельного выхлопа, накатил на край громадной, нами откопанной ямы, прикрытой жердями и травой, закачался и с ужасным треском провалился, оставив снаружи только пятнистую бронированную задницу, мы вот так заорали все вместе — счастливо и бездумно; и тогда, а может, много спустя, уже в госпитале, но кажется, именно тогда я вспомнил рисунок из школьного учебника: охотники бьют свалившегося в огромную яму мамонта…
И я кидал картошку с удовольствием, весело, легко и быстро, только дойдя до края гряды, обернулся назад и закричал пыхтящему вдалеке Жеглову:
— Смотри, без огрехов копай! До последней картошечки!..
Жеглов выпрямился, помял поясницу и ответил:
— Ты к нам в ОББ по ошибке попал! Не ту работу себе выбрал… — И снова стал с остервенением швырять землю.
Вдруг кто-то положил мне на плечи легонько руки; я даже не подумал сразу, что это Варя, пока не услышал за спиной её тоненький девчачий голос:
— Володя, ты не рвись так — устанешь…
Обернулся я, взглянул на неё и только тут рассмотрел, что глаза у Вари разные — один ярко-серый, а другой зеленоватый, — и от этого лицо её было доверчивым и беззащитным, а на носу еле заметные веснушки; и смешливые припухлые губы, и бисеринки пота на переносице. И в этот момент, оттого что она мне сказала первый раз «ты», я неожиданно для самого себя решил жениться на ней. Я подумал, что на всей громадной земле не найти мне лучше Вари. Может быть, есть девушки и красивее, и умнее, но только навряд ли, да и не нужны они мне были, мне нужна была эта. И Жеглову уступать её я был не намерен.
А Варе, которая и думать-то не думала, что я уже выбрал её в жёны, и наверняка до упаду стала бы хохотать, скажи я ей об этом, — ей я ответил:
— Да я и не рвусь. Мне не трудно…
— А командовать другими не хочется? — улыбнулась она, и я снова подумал о том, как нравятся женщинам мужчины-командиры, начальники, говоруны и распоряжалы; и ещё я подумал о том, как трудно объяснять женщинам, что если ты в девятнадцать лет становишься командиром ста двадцати трёх человек, которые вместе называются ротой, и от твоей команды зависит, скольким из них вернуться из боя, то спустя некоторое время не больно охота чувствовать себя командиром и много приятнее отвечать только за себя. Из всех командиров, которых мне довелось увидеть на фронте, настоящими были только те, кто ощущал свою власть как бремя ответственности, а не как право распоряжаться…
— Не хочется! — сказал я совершенно честно. Ей-богу, совсем не хотел я тогда никем командовать.
— Забавный ты человечек, — сказала Варя.
Я пожал плечами:
— Вот окончите свой институт, пойдёте в школу — накомандуетесь.
— Я хочу в детский дом идти после института — там интересней. И школа, и семья сразу…
Жеглов крикнул нам:
— Разговорчики в строю! Команды «вольно» не было! Шашки к бою, лопаты в грунт!
— Ты лучше насчёт обеда иди узнай, — сказал я ему.
Перерыв на обед сделали около часу дня. Задымили костры. Располагались группами, доставали из сумок провизию и немудрящую посуду. Жеглов ходил считать мешки Мамыкина и вернулся довольный. В котелках булькала картошка, особенно красивые, ровные клубни засунули в жар. Разложили на газетах харчи. Жеглов достал бутылку водки, лихо — о каблук — вышиб пробку, сказал:
— Сейчас мы её отведаем, злодейку, которая и в тени сорок градусов…
Тогда Коля Тараскин вытащил откуда-то ещё одну бутылку с чуть желтоватой жидкостью, протянул Жеглову:
— Ну-ка, махнём и этого зелья — оно, как говорится, прошло огонь, воду и медные трубы!
Пасюк радостно потёр огромные свои ладони-лопаты:
— Ох, братцы, люблю я домашнюю горилку…
Жеглов протягивал Варе алюминиевую кружку, в которой плескалась горькая прозрачная жидкость, а она смешно качала головой и говорила:
— Не-а! Не-е…
— Ты немножко выпей — только на пользу. И монахи приемлют! — говорил Жеглов, а она смотрела на него прищурясь, улыбалась:
— Вы, товарищ капитан, сейчас похожи на настоящего пиратского капитана…
Жеглов вздёрнул бровь и подбоченился.
— …когда он угощает туземцев «огненной водой», — закончила Варя серьёзно, и мне показалось, что Жеглов рассердился, а Варя подошла ко мне, присела рядом, взяла из моих рук кружку и пригубила слегка:
— За твоё здоровье!..
К вечеру, когда солнце уже повисло на острых верхушках чёрно-зелёного ельника, показался на дороге «фердинанд», раскачивавшийся неуклюже на ухабах, словно Копырин заправлял его не бензином, а самогоном. За ним держались в кильватере два хозотдельских грузовика.
— Отбой! — скомандовал нам Жеглов, а Мамыкин со своей делянки кричал, что копать надо до темноты: они всё-таки на несколько мешков отстали.
— Хоть до утра! — предложил Жеглов. — Правда, нам уже копать нечего — разве что вам подсобить!
И тут я впервые за весь день почувствовал, что притомился немного — с отвычки ломило спину и горели ладони.
Считали мешки. Мамыкин с Жегловым препирались: Мамыкин говорил, что у нас они меньше, чем у них, Жеглов предлагал рассыпать мешок и пересчитать картофелины. Потом быстро и весело загрузили мешки в машины, собрали свои вещички, а Копырин всё ещё недовольно ходил вокруг автобуса, пинал ногами колёса и бубнил, что так никаких амортизаторов не напасёшься. Потом машины заурчали и поползли к дороге, а мы всей толпой отправились на станцию.
Поезд был переполнен, и Варю со всех сторон прижимали ко мне, и никогда ещё толчея вагона не была мне так сладостна, потому что не видно было моих нелепых валенок, а только Варины глаза, зелёный и серый, светили прямо перед моим лицом, и что-то говорила она мне, а я ничего не понимал и отвечал невпопад, потому что этот старый, набитый людьми, завывающий вагон бросил мне её в объятия бездумно и щедро, как только может это сделать судьба, и, оглохнув от счастья, я прижимал её к себе, и каждой своей мышцей, каждым кусочком кожи я чувствовал её тёплое и упругое тело, и бешено кружилась голова от близости её полных мягких губ и влажно мерцающих крупных зубов…
На Ярославском вокзале кипящая толпа вышвырнула нас из вагона, и я крикнул жегловской голове, крутящейся неподалёку в водовороте:
— Держи, Глеб! — И кинул ему ключ от квартиры.
— А ты? — Голова Глеба вынырнула на аршин из половодья баулов, корзин, лопат, мотыг и даже одной сетки с живым петухом.
— Я позже буду…
На Комсомольской площади мы сели с Варей в трамвай «Б», и она показала мне в окно:
— Смотри, Володя, впервые после войны…
Над крышей вспыхнула и неровным голубым светом забилась неоновая огромная надпись: «Ленинградский вокзал», и мне почему-то показалось это добрым знаком.
Кружил нас по всему городу трамвай, громыхая по железным вензелям рельсов, и, когда мы сошли на Палихе, последняя тёплая осенняя ночь уже наступила, и мне не хотелось думать ни о каких делах, и никакие страсти больше меня не терзали, но одна мыслишка всё время не давала покоя, и я спросил Варю хитро:
— Правда, Жеглов удивительный мужик?
Ничего она не ответила и, только когда вошли в её парадное, сказала, будто всё это время раздумывала над моим вопросом:
— Умный парень. Молодец… — Интонация странная у неё была, но не успел я опомниться, как она открыла дверь: — Запомни мой телефон… Будет время — позвони…
В небе носились ошалевшие звёзды, крупные и холодные, как неупавший град. Ветер поднимал с тротуаров обрывки газет и палые листья, и я гонялся с ними наперегонки, пел и разговаривал сам с собой и до самого дома шёл пешком, забыв, что ещё ходят трамваи. И всё ещё прикидывал и раздумывал, нравится ей Жеглов или нет, а когда вошёл в комнату, он спал, накрывшись одеялом с головой и забыв погасить свет…
Сторожа убили в подсобке. Система охраны большого магазина была такова, что сторожа оставляли на ночь в помещении и он находился там до утра, когда магазин открывался. «Магазин длинный, его пока снаружи обойдёшь, в десяти местах могут влезть, со двора в первую очередь», — объяснила заведующая, невысокая щуплая женщина в синем драповом пальто с чёрно-бурой лисой-воротником. Жила она по соседству и прибежала на шум, поднятый бригадиром сторожевой охраны, который как раз проверял объекты на Трифоновской и заподозрил неладное, когда сторож на неоднократные звонки в дверь не отозвался. А сейчас её била крупная дрожь и она старательно отворачивала взгляд от щуплого тела сторожа, лежавшего на полу, около ряда молочных бидонов, и всё старалась объяснить, почему сторож находился внутри магазина, как будто в том, что его убили именно внутри магазина, а не на улице, была её вина. Пока судмедэксперт, следователь и криминалист колдовали около тела, Жеглов, я и заведующая поднялись в торговый зал. Прилавки, полки за ними, проходы были завалены товарами, денежный ящик в кассе взломан, а на белёной стене обувного отдела толстым чёрным карандашом, а может быть, и углём была нарисована чёрная кошка. Очень симпатичную кошку нарисовали бандюги — уши торчком, глаза зажмурены, и она облизывалась узким длинным языком. А на шее у неё, как на картинках в детских книжках, был пышный бант. Жеглов покачал головой, поцокал языком, и было непонятно, чем он больше недоволен — разбоем или этим наглым рисунком, которым бандиты будто хотели показать милиции, что нисколечко они нас не боятся, плевать на нас хотели и гордятся своей работой.
— Слушай, Глеб, а для чего же всё-таки они это делают? — Я показал на рисунок. — Я так соображаю, что их найти по этой кошке полегче будет, они ведь от остальных грабителей отличаются?
— Оно вроде и так, — пожал плечами Жеглов. — Но здесь можно по-разному прикидывать. Может, они выпендриваются от глупой дерзости своей, не учены ещё в МУРе и думают, что сроду их не словят. Может, и другое, похуже: всё соображают, но идут на риск, чтобы на людей ужас навести, понимаешь, силы к сопротивлению их лишить — раз, мол, «Чёрная кошка», значит, руки вверх и не чирикай!..
— Но это если бы они среди частных, так сказать, граждан шуровали, — возразил я. — А они всё больше по магазинам…
— Во-первых, не имеет значения, среди граждан или в магазине. Завтра пятьдесят продавцов да подсобных из этого магазина по всей Москве разнесут, что «Чёрная кошка» человека убила и на миллион ценностей здесь взяла. Реклама! А во-вторых, раньше «Чёрная кошка», до тебя ещё, как раз больше по квартирам шарила; это теперь они начинают чего-то по базам да магазинам распространяться. Вообще-то оно выгодней…
Я ещё раз посмотрел на нарисованную кошку, и мне вдруг показалось, что она ехидно подмигнула. Непонятно, по какой линии это навело меня на новую мысль, и я поспешил поделиться с Жегловым:
— Слушай, Глеб, а ведь может быть и ещё похуже — для нас, во всяком случае…
— Да?
— Если среди блатных найдутся не такие дерзкие и нахальные, как эти, а, наоборот, похитрее, они ведь под бирку «Кошки» могут начать работать. Мы, как помнишь, с Векшиным-то, кое на какие следишки начинали выходить, а хитрые — в другой стороне. И концы в воду!
— Не боись! — Жеглов потрепал меня по плечу. — От нас всё равно никуда не денутся. С такими-то орлами, как ты! Что ты! Конечно, если мы будем работать, а не теории здесь разводить…
Подсобка была непростая, целый, как выразился Жеглов, Шанхай: в ней требовалось разместить товары большого смешторга — сиречь магазина, торгующего товарами смешанного, промышленного и продуктового, ассортимента. Чего только не было навалено в нескольких больших цементированных боксах с гладкими оштукатуренными стенами! Масло, мука, сахар и другие не пахнущие вещи были строго отделены от предметов пахучих — колбас, специй, рыбы, бочек с селёдкой. Отдельно размещались промтовары — рулоны мануфактуры, большущий стеллаж с обувью, стопы готовой одежды. И всё это сейчас являло картину хаоса и разорения — преступники искали самое ценное и в спешке вовсе не церемонились с остальным. Главным помещением и местом происшествия была приёмка — продолговатая комната, соединённая с двором пологим дощатым тоннельчиком, по которому на подшипниковых тележках свозили в подвал товар. Тоннельчик выходил в приёмку двойными широченными дверями, почти воротами, которые запирали изнутри накидным кованым крюком. Наверху, во дворе, тоннельчик заканчивался такими же воротами, а снаружи был здоровенный амбарный замок, навешенный на толстую железную полосу. Воры легко выворотили замок из подгнившего дерева вместе с петлями. А ворота в приёмку взломали: рядом с ними валялся заточенный с одного конца карась — массивный полуметровый воровской ломик, — которым поддели одну доску двери, расщепили её, а потом просто скинули крюк. Сейчас трудно было сказать, как попал в приёмку сторож — проходил ли её очередным дозором или, привлечённый каким-то шумом, явился посмотреть, в чём дело, — но только встретили его здесь в полутьме — сейчас для осмотра и фотографирования вместо тусклой складской лампешки Гриша специально ввернул сильную, стосвечовую. Сторожа ударили сзади топором по голове и, видно, сразу же убили: по брызгам крови на стене, по расположению тела эксперт уверенно определил, что беднягу как свалили с ног, так больше с места и не трогали. Можно было даже представить себе, с какого места это сделали: в боковой стене приёмки был этакий аппендикс — закуток вроде кладовки, метра полтора на полтора, с толстой, обитой жестью дверью, открывавшейся наружу; из этой кладовки, скорей всего, и нанесли удар. Я ещё заметил, что на клине и обухе топора есть следы побелки, и внимательно осмотрел стены и потолок кладовки. На потолке я нашёл свежую, довольно глубокую борозду, — видно, убийца чиркнул топором по потолку, доставая жертву.
В приёмку ворвался Абрек, за ним следом — его проводник Алимов. Наверное, они заканчивали круговой осмотр магазина. Абрек обежал комнату, наткнулся на какую-то тряпицу, взвыл и дёрнул Алимова на выход, в тоннельчик, дёрнул с такой силой, что проводник еле удержался на ногах.
— Свежий след взял! — крикнул он Жеглову. — Давай кого-нибудь со мной!..
Мне ещё не приходилось видеть, как собака работает по следу, и я, глянув на Жеглова, ткнул себя пальцем в грудь. Глеб кивнул, и я помчался следом за проводником, выскочил на улицу и увидел, что тот уже пересёк пустырь, пробежал мимо детской песочницы и устремляется к дровяным сараям в конце двора. Сделал я гвардейский рывок, как учил когда-то старшина Форманюк, и догнал Алимова у крайних сараев. Между ними был широкий проход в следующий двор, расположенный чуть ли не на два метра ниже первого, поэтому мы выскочили на крышу нового сарайчика с убогой голубятней на краю, и Абрек, бежавший на всю пятиметровую длину «вожжи», сделал гигантский прыжок, распластавшись в воздухе, как на картине. Алимов и я сиганули за ним, причём я чуть не свалился, зацепившись ногой за проволочную сетку голубятни. Так же резво пробежав двор, Абрек выскочил в тихий переулок, покрытый неровным булыжником, с земляными обочинами, заросшими грязной пожухлой травой. Оглядевшись, я сообразил, что это не переулок — это тупик, выходящий к товарному двору Ржевского вокзала. А собака, перебежав улочку, рванула снова во двор, застроенный всё теми же сараями, выросшими, как грибы, во время войны: кругом были кирпичные дома с паровым отоплением, и дрова потребовались только в войну, когда пришлось людям греться индивидуально — нескладными железными печурками, жравшими уйму дров, нещадно дымившими и уродовавшими комнаты суставчатыми рукавами труб, упёртых в форточки…
Снова песочница, откос, выходящий на крышу, снова голубятни — и всё это в таком немыслимом темпе, что я на ходу расстегнул воротничок гимнастёрки и с уважением посмотрел на Алимова, мчавшегося вперёд так же неутомимо, как его стремительный мускулистый Абрек. И снова покрытый жухлой осенней травой тупичок, и в конце его приземистая краснокирпичная трансформаторная будка с устрашающим черепом на двери и надписью: «Смертельно!» Около будки Абрек затормозил так же стремительно, как бежал; из-под передних лап его брызнула комьями земля. Прижав огромную голову прямо к земле — хвост торчком, — он быстро поводил носом налево-направо, а потом вдруг, поднявшись на задние лапы, упёрся передними в дверь будки — громадный, в человеческий рост, — и громко, радостно, басовито гавкнул, оглядываясь на Алимова и как бы приглашая его к немедленным действиям. Алимов погладил пса по голове, кивнул мне на дверь:
— Здесь!
Честно говоря, я с большим сомнением осмотрел здоровенный навесной замок, потом обошёл будку со всех сторон — дверь была одна, кроме неё, отверстий в кирпичной кладке не было. Я взял носовой платок, обернул им замок, потряс его, потянул за дужку, и мне показалось, что она поддаётся. Я потянул сильнее и, к моему великому удивлению, дужка вышла — замок открылся. Торопясь, я вытащил замок из петель, схватился за ручку, дёрнул дверь на себя, но меня остановил Алимов:
— Постой, Володя… А если там кто-нибудь…
Стоя сбоку от двери, мы осторожно открыли её, и Алимов на самом коротком поводке запустил в будку собаку. Радостный басовитый лай её, перемежавшийся неожиданным щенячьим каким-то повизгиванием, возвестил о том, что в будке никого нет, и мы вошли внутрь, широко распахнув дверь для света. Под запыленным трансформатором вдоль стен навалом лежали вещи: два рулона мануфактуры, несколько костюмов, пальто, коробки с обувью, два белых мешка с сахаром и ещё много всякого добра — впопыхах всё сразу и не разглядеть…
Я от души хлопнул по плечу Алимова, тот весело подмигнул, и мы разом захохотали, довольные собою, и друг другом, и распрекрасной нашей собачкой. Алимов с сожалением посмотрел на мешки с сахаром, вздохнул и достал из кармана кулёк, развернул его — там лежал серый неровный кусок рафинада. Ещё раз вздохнув, поглядел Алимов на мешки и бросил рафинад вверх. Абрек, кажется, только чуть-чуть повёл широченной своей башкой, лязгнул, словно пушечным затвором, челюстями, и негромкий хруст известил о том, что заслуженная награда принята с благодарностью.
Я заметил вожделенные взгляды Алимова на мешки и его вздохи.
— Угостил бы пса от души, — сказал я. — Честно заработал небось!
— Не-е, не дело, — отозвался Алимов. — Пёс должен без корысти работать, понимаешь? Ну, вроде на патриотизме, честно. А то забалуется. Думаешь, он не понимает? Он всё понимает… — И Алимов на мгновение прижал к себе голову Абрека, и столько было в коротком этом движении нежности и ласки, и столько было преданности во взгляде и тихом, еле слышном повизгивании пса, что я почувствовал что-то вроде зависти.
— Пошли дальше, однако, — сказал Алимов, и мы вышли из будки. Я снова аккуратно навесил и закрыл замок. Огляделись — было ещё раннее осеннее утро, пусто кругом, ни живой души, — и Алимов скомандовал Абреку: — Ищи!
И снова началась азартная и утомительная гонка по дворам, сараям, закоулкам и переулкам, пока не вывел тёплый ещё след на многолюдную Первую Мещанскую, где уже сотни рабочих торопились в этот ранний час на фабрики и заводы и каждый оставлял на сыром утреннем асфальте свой неповторимый и отвлекающий запах, где одинаково непереносимо ранили чуткий собачий нос ядовитый перегар автомобильных выхлопов, резкие ароматы простых женских одеколонов, острый смрад гуталина, щекочущий запах бесчисленных галош; и Абрек замедлил ход, стал оглядываться на хозяина, петлять, всем своим неуверенным видом демонстрируя сложность обстановки, а потом и вовсе остановился, недовольно фыркнул, будто чихнул по-собачьи, и широко, с хрустом зевнул, оскалив свои страшные, но пока совсем бесполезные клыки.
— Всё, кончилась работа, — сказал Алимов со вздохом. — Эх, в деревне бы…
— Сам ты деревня, — передразнил я. — Сколько вещей нашла собачка — и за то скажи ей спасибо… Знаешь, Алимов, сказать по-честному, не очень-то я надеялся, что она найдёт что-нибудь…
— Почему же это ты не надеялся? — всерьёз обиделся Алимов. — У нас собачки есть, которые добра людям возвратили побольше, чем некоторые оперативники за всю свою службу…
— Загибаешь? — спросил я.
— Да что с тобой говорить! — махнул рукой Алимов. — Ты про Эриха слыхал? Или про Гету?
— Не слыхал, — признался я.
— То-то! Ордена давать бы им полагалось. Их капитан Гетман дрессировал, у него только Эрих задержал восемь вооружённых бандитов. Убили пса в схватке. Это был такой пёс — уж на что мой Абрек хорош, а по совести если, то, конечно, ему против Эриха не сдюжить.
— А Гета?
— Та тоже была классная сыскарка. Не чистых кровей она, её Гетман где-то щенком подобрал. На два миллиона рубчиков отыскала похищенного, понял? Ты и не видал таких денег. А собаки плохо живут, — закончил он неожиданно.
— Почему? — удивился я.
— Да отношение к ним несознательное — вот вроде как у тебя. Ведь это сейчас стали немного расчухиваться, а раньше, когда было их всего четыре души, гоняли нас с места на место — жилья дать никак не могли. Потом дали пустой свинарник, мы его сами с Гетманом и Рубцовым чистили, ремонтировали, утепляли, для нормального собачьего житья приспосабливали. А нужен настоящий питомник и по всем правилам — они бы все расходы на себя оправдали…
— Я вижу, любишь ты собак, Алимов…
— А как же их не любить? Они ведь как люди! — горячо сказал Алимов и стал мне объяснять тысячелетнюю родословную отбора своего Абрека. Я узнал, что все овчарки — немецкая, английская, бриарская, боснийская и астурийская — имеют предком древнюю азиатскую овчарку, а та произошла от бронзовой собаки, а та является порождением волков и шакалов, общим родителем которых был первобытный томарктус. И как ни хорош английский полицейский пёс доберман-пинчер, он всё-таки в нашем климате против овчарки не сдюжит — теряет на морозе чутьё… И поскольку остановить Алимова было невозможно, я не спеша шагал рядом с ним и думал, что благодаря раннему времени нас около трансформаторной будки, скорее всего, никто не видел и если сейчас там не болтаться, а оставить в пределах зрительной связи засаду, то жулики непременно явятся за товаром — тут их и побрать с поличным. И ещё надо выяснить, кто из электриков за этой будкой надзирает, как часто там появляется и, наконец, не причастен ли сам электрик к этой краже.