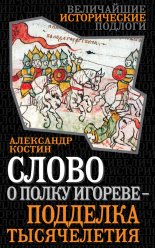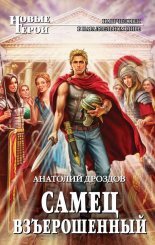Железный дождь Курочкин Виктор

Лет десять назад, когда я окончил филфак университета, я считал себя не только прирожденным журналистом, но и писателем. Впрочем, каждый журналист мнит себя писателем.
По распределению я попал в районный городок С. Поехал туда с самыми радужными надеждами.
С. — крохотный городишко в окружении болот, озер и сереньких деревень. Природа там и сейчас по-русски трогательная, климат сырой, а жизнь, как и везде, обычная.
Жил я в доме дородной Солдатихи — так звали соседи мою хозяйку Евлению Петровну Солдатову. В молодости она, говорят, была красавицей. Но к сорока пяти годам огрузла и рассолодела. Первый муж у нее не вернулся с войны. И не потому, что погиб или пропал без вести, — просто где-то заблудился по пути из Германии к дому.
Снимал я у Солдатовой комнатушку, светлую и чистую. Потолок был оклеен газетами, стены — полосатыми обоями с широченным бордюром, на котором был изображен коралловый остров с пышными пальмами.
В тот год в пятистенном просторном доме Солдатихи зимовало нас трое. Я, хозяйка и ее второй муж Богдан Аврамович Сократилин.
Мужем Солдатихи Сократилин стал не сразу. Сначала он был, так же как и я, постояльцем у Евлении Петровны. Поскольку Богдан Аврамович в городе был в некотором смысле личностью заметной, то мне приходилось слушать не раз, что примаком Сократилин стал не потому, что так сам захотел, а потому, что так захотелось хозяйке. Слухам этим я не верил, и до сих пор не хочется верить.
Богдан Аврамович и по внешности и по характеру с первого взгляда внушает если уж не трепет, то уважение наверняка. Росту он среднего, сложения крепкого, волосы седые, как иней. Глаза на редкость, как у вальдшнепа, маленькие, живые и посажены так глубоко, словно смотрят из бездны. Белый шрам от уха до подбородка и глубокие морщины придавали лицу Сократилина черты жестокосердия. Впрочем, никто таким уважением и любовью у городских ребятишек не пользовался, как Сократилин. Будучи директором кинотеатра, Богдан Аврамович позволял себе такую вольность: забивал пустые места в зрительном зале безбилетниками до шестнадцати лет.
Была ли у Евлении Петровны с Богданом Аврамовичем любовь — трудно сказать. Но жили они спокойно и уверенно. Я ни разу не слышал, чтобы Сократилин повысил голос. Достаточно ему было кинуть на жену свой бездонный взгляд и сказать протяжно: «Ну-у!» — и Евления Петровна умолкала и опускала глаза. Все это как-то не вязалось с тем, что Солдатиха сама на себе женила Сократилина. Когда я об этом осторожно спросил Евлению Петровну, она надменно вскинула голову:
— Сама! Еще когда он военным был и в военкомате служил.
Потом подошла к зеркалу, посмотрела на свое рыхлое, как саратовский калач, лицо, погладила свои могучие формы и вздохнула:
— Вот ведь как разнесло. А раньше-то я была тонюсенькая и складная, как стрелочка!…
Они уже прожили девять лет, когда я поселился в комнатке с полосатыми обоями. Мое появление не нарушило заведенного здесь порядка. Да и как оно могло нарушить? Постоялец я для них был удобный и за постой платил аккуратно. Хозяйке я, видимо, нравился, иначе бы Евления Петровна не пригласила меня столоваться вместе. Приглашение хозяйки меня очень обрадовало, но я не был уверен, что так же обрадуется и Богдан Аврамович. Когда я появился у них за столом, Сократилин посмотрел на меня очень холодно и едва кивнул головой.
Все попытки сблизиться с Богданом Аврамовичем ни к чему не привели. Он меня невзлюбил. Но почему? За что? Мне было и обидно и неприятно, и пребывание в их доме стало в тягость. Я решил подыскать себе другую квартиру. Узнав об этом, Евления Петровна возмутилась и стала горячо уверять, что ее Богдан только с виду такой грозный и молчун, а в сущности — мужик «что надо».
— Я за ним как за каменной стеной, — хвасталась Евления Петровна. — Мой Богдан не какой-нибудь там хухры-мухры, а заслуженный человек!
Она вынула из ящика комода деревянную шкатулку и высыпала на стол кучу медалей. Я насчитал одиннадцать: «За Победу», «За взятие Берлина», девять — «За отвагу» и орден Красного Знамени. Девять медалей «За отвагу» — вот что меня поразило! Половина из них имела вид поношенный, и одна до того стерлась, что с трудом можно было рассмотреть чеканку, у других трех ленточки засалились, и не поймешь, какого они были цвета, остальные пять сияли так, как будто они только что из-под молотка. Орден покоился в атласной коробочке и, видимо, ни разу из нее не вынимался. Меня очень все это заинтересовало. Вероятно, первые четыре медали были получены в начале войны. А получить их тогда было не так-то просто, не так, как в конце!
— Не носит он своих регалий. Узнает, что тебе показывала, рассердится, — сказала Евления Петровна.
— Почему?
— Кто его знает. Не носит и не любит говорить о них.
«Вот, может, где материал для моей книги зарыт», — подумал я и решил остаться и выведать у Сократилина о его медалях.
Ежедневно с пяти до десяти часов вечера Богдан Аврамович заседал в директорском кабинете кинотеатра «Сатурн». Дома он никакими делами не занимался. Всё: и свинья, и коза, и куры, и даже рыжая сука Шельма — в общем, всё хозяйство лежало на плечах Евлении Петровны. Если Сократилина вдруг начинала мучить совесть и он пытался как-то помочь супруге, хотя бы дров наколоть, Евления Петровна решительно отбирала у него топор.
— Сама управлюсь, — говорила она, — иди занимайся своим мужским делом.
Основным и главным занятием в свободное от службы время Сократилина было чтение. Читал он много и все, что попадет под руку. Однако любимыми были книги о войне и особенно военно-историческая и мемуарная литература.
Мой редактор тоже любил книги, но в отличие от Сократилина не читал их, а только собирал. Как-то, просматривая его библиотеку, я наткнулся на «Историю второй мировой войны» Типпельскирха. Книгу эту я выпросил у редактора для Богдана Аврамовича. В том, что она заинтересует Сократилина, я не сомневался. Но как предложить ее Богдану Аврамовичу, я не знал. К этому времени отношение его ко мне ничуть не смягчилось.
Утром, уходя на работу, я словно бы случайно положил книгу в кухне на подоконник. Возвращаясь во втором часу ночи, я заметил, что в нашем доме на кухне все еще горит свет. Когда открыл дверь и переступил через порог, Богдан Аврамович — он читал Типпельскирха — оторвал от книги глаза и, взглянув на меня, смущенно пробормотал:
— Я тут вашу книгу полистал. — Он захлопнул ее и положил на подоконник.
— Так и читайте сколько вам угодно, — сказал я и прошел в свою комнату.
Типпельскирха Сократилин проглотил буквально за двое суток и, возвращая мне, сказал:
— А этот генерал-то Типпельскирх в Демянском котле сидел. Да… — Он пощелкал пальцами, подбирая нужное слово, и, не найдя такового, очень хорошо улыбнулся. — Хватил он там шилом патоки…
Я стал регулярно снабжать Сократилина литературой. Книги для него я иногда выписывал через городскую библиотеку из Москвы и Ленинграда. Наши отношения теплели с каждым днем, и наконец, как говорят, лед окончательно растаял. Богдан Аврамович случайно прочитал в газете один мой фельетон о мытарствах старушки колхозницы, которая в течение десяти лет хлопотала пенсию за сына, пропавшего без вести на войне. Богдан Аврамович до боли сжал мне руку и сказал:
— Очень хорошо вы написали. Правильно написали. Хотя вас, журналистов, я терпеть не могу, а за старушку спасибо.
— Чем же перед вами так провинились журналисты? — спросил я.
— Было дело… — уклончиво ответил Богдан Аврамович…
Рассказал мне об этой истории начальник военкомата.
— Прикатил как-то к нам корреспондент областной газеты — написать очерк об интересном человеке. Этакий хлюст, все знающий, все умеющий. Долго искал он в городе интересного человека. Может быть, и совсем бы не нашел, да меня черт дернул рассказать про Сократилина. Переспросил кое-что, почеркал в своем блокноте. Послал я его к Сократилину — он рассказчик хороший, когда захочет… Потом появилась статья. Не приведи господь услышать такое о своих подвигах! Все-все переврал, даже фамилию с отчеством. Из-за него, из-за этой статьи, мы и рассорились. А когда Сократилин у меня в военкомате работал, друзьями были. Я написал опровержение в газету. Извинились, на корреспондента обещали наложить взыскание. Не знаю, что с ним сделали. Таких бы щелкоперов я на пушечный выстрел не подпускал к печати!…
Отношения мои с Богданом Аврамовичем стали такими хорошими, что пора было заводить разговор о медалях. И я ждал подходящего случая.
Евления Петровна очень любила праздники: и революционные и религиозные. Справлялись они торжественно, солидно и сытно.
День Советской Армии также отмечали торжественно, солидно и сытно, когда гости, нагрузившись всевозможными соленьями, вареньями, наливками, разошлись по домам, а Евления Петровна со словами: «О господи, кажись, объелась» — свалилась на диван, подсунув под голову подушку, за столом остались я и Сократилин.
Богдан Аврамович наполнил рюмки. Мы опрокинули. За окном угасал февральский день. Из-за скалистой горы облаков выглядывало солнце. И гора блестела, как стеклянная.
— Красиво, — сказал я, показывая на солнце.
Богдан Аврамович посмотрел и вздохнул:
— Нечувствительный я к природе. Читаю книжку: природа — я ее пропускаю. А вот философию люблю. Попадется философия — десять раз одно место прочту, а до самого корня доберусь. Военную литературу очень обожаю. Да и вообще люблю военное дело, службу.
Он надолго замолчал, а потом посмотрел на меня, как будто увидел впервые, и заговорил.
Богдан Сократилин о преимуществах армейской жизни
— Есть люди, которые всячески поносят армейскую службу за то, что она якобы тяжелая, грубая, оскорбляющая человеческое достоинство. Должен вам заметить, что это бред сивой кобылы, жалкие слова маменькиных сынков и разгильдяев. Воинская служба — дело легкое и даже приятное. Надо только выполнять устав и беспрекословно слушаться командиров. Тогда все пойдет как по маслу, и не заметишь, как служба пролетит, а потом и уходить не захочется.
В тридцать пятом меня призвали в армию и зачислили в пехоту. В районный центр на сборный пункт я прибыл во всем новом. В костюме, скроенном деревенским портным Тимохой Синицыным из новины цвета яичного желтка. На ногах были новые портянки и новые цибики, сшитые из яловых голенищ старых сапог. День был летний, солнечный, и костюм мой сиял, будто позолоченный крест. На меня глазели, как на заморское чудо. Потом нас, новобранцев, пересчитали, построили по росту и повели на вокзал, погрузили в товарный вагон и повезли. Через день выгрузили, опять пересчитали, опять построили и опять повели по улицам какого-то города, и здесь тоже все глазели и дивились на мой костюм.
Привели на пристань, посадили на пароход и повезли по Волге далеко-далеко. В конце концов очутился я в военном городке, в казарме, на втором ярусе деревянных нар.
Вот так и началась моя служба. И как же она мне понравилась! Обут, одет, три раза в день накормят, в кино сводят, спать уложат и поднимут. Чего ж еще надо?! У приемного отца я вдоволь наедался только по праздникам.
Армия любит толковых, старательных. И я старался! Прикажет командир — вдребезги разобьюсь, но выполню. Специально лез на глаза начальству, чтоб оно меня заметило и что-нибудь приказало. За это меня и хвалили и в пример другим ставили. Бывало, на вечерней поверке старшина Колупаев выстроит роту, скомандует:
— Смирно! Красноармеец Сократилин, выйти из строя!
Я два шага вперед и хрясь каблуками.
— Красноармейцу Сократилину за образцовое несение караульной службы объявляю благодарность! — рявкнет Колупаев.
А я еще громче:
— Служу советскому народу, то бишь Союзу!
Вот уж и забывать начал. За все годы службы ни разу не сидел на губе…
Здесь я получил образование и почувствовал себя человеком. До службы-то был совершенно темным. Я, двадцатилетний парень, искренне верил, что если баню поставить на колеса, то она поедет, как паровоз. А земля оттого сухая, что в ней мало червей. В школе-то я учился всего два месяца. Может быть, и год бы проучился, но… Глупейшая история вышла. Как-то на уроке загадал я учительнице загадку про зеленец. Учительница покраснела, зажала пальцами уши, закричала тонким, визгливым голосом: «Вон из школы, хулиган! И не смей без родителей возвращаться!» Не знаю, за что приняла учительница «зеленец» — обычный веник, только загадку я не считал охальной. Ее все, даже беспортошные ребятишки, знали в деревне. Родители, разумеется, в школу не пошли, наоборот, они обрадовались, что так неожиданно и без хлопот избавились от всеобуча. Мать сказала: «Ну и ладно. Нечего ему туда и шляться. И так чуней не напасешься». Она была права. Нас в семье было пятеро огарков, и отец не успевал готовить чуни, хотя и плел их не разгибаясь.
Зиму я просидел на печке. Этой же зимой у пастуха Колчака сдохла собака. Весной я был взят Колчаком на ее место. Правда, на сходке определил меня мир к нему в подпаски за три меры ржи, две меры овса, полмеры гречихи, пять мешков картофеля.
Пастух Колчак был росту огромаднейшего и осанки величественной. Морда вся в волосах, один только лоб блестит на ней, как плешь. Глядеть не наглядеться, когда он шел по деревне впереди стада в широченном армяке, которым можно было укрыть сразу и телегу и лошадь. Семиаршинный кнут висел у него на плече, как аксельбант, а на голове копной сидела лохматая папаха. Вылитый генерал! Единственно, что мне не нравилось у него: уж очень он плевался, словно рот у него был набит ржаной мякиной.
Говорил он так:
— Богдан, тьфу. Не выйдет из тебя дельного пастуху, тьфу!
— Почему же, дяденька Колчак?
— Потому что ты человек ума глупого, тьфу! За два года не научился кнутом хлопать, тьфу!
Что верно, то верно. С кнутом у меня не ладилось. Колчак же играл им как хотел. Бывало, раскрутит над головой да как рванет — лес вздрогнет и листья посыплются. А я возьмусь крутить — или по уху себе, или по ногам.
А все-таки добрый был мужик Колчак, человечный и пастух отменный. Правда, спуску он мне не давал, но и жалел тоже. Мы привыкли друг к другу, как родные. Жили вместе в крошечном, как скворечник, домике, в котором, кроме печи, двух табуреток, стола и деревянных нар, ничего не было. Зимой Колчак тоже не сидел без дела. Он резал скот. Рука для этой работы у него была крепкая. За работу с ним расплачивались натурой: мясом и самогоном. А выпить Колчак мог столько, сколько и поднять.
Как-то позвали Колчака зарезать двенадцатипудового борова. Борова закололи, осмолили. Хозяйка выставила на стол ведро самогонки, чугун картошки со шкварками и сковороду жареной печенки. Когда самогонку выпили, картошку с печенкой съели, хозяйка попросила перенести тушу борова из сеней в кладовую. Кроме нас с Колчаком угощались еще двое мужиков. Колчак пошевелил тушу и плюнул:
— Один сволоку.
Он присел. Мы с трудом затащили ему на спину борова. Колчак резко поднялся, громко охнул и крепко выругался. Он сделал шаг, и его бросило вправо, потом влево. Так его швыряло из стороны в сторону. Но тушу он не бросил, донес и даже сам до дому дошел. Лег на нары, попросил воды. Я подал ему кружку, он выпил и сказал:
— Хорошо. Будто пожар внутрях потушил.
А потом приказал поставить ведро воды к изголовью. Он пил воду, пока не скончался.
Перед смертью вспомнил обо мне. Поманил пальцем, положил мне на голову руку: «Эх, Богдан, Богдан», вздохнул, плюнул и умер.
Жить в нашем скворечнике я больше не мог. Вернулся в семью и пас скот до последнего дня, как идти на службу. В колхозе жалели, что я ухожу. Но мне уж очень надоела эта работа. С тех пор и природу не люблю. До того она мне тогда обрыдла.
Таких неучей, как я, набралось немало. Школу специально для нас организовали. Учился жадно. В двадцать один год садиться за букварь поздновато. Чтоб наверстать упущенное, я лез из кожи.
Выходной день. Рота разбредется кто куда. В казарме тихо. Сижу в красном уголке, задачки решаю. Подойдет старшина Колупаев, спросит:
— Все учишься, Сократилин? Молодец! Хорошенько учись! Чтоб потом не бегать и не стучать прямой кишкой.
Хоть я и не очень-то понимал эту афоризму, но догадывался, что стучать прямой кишкой — распоследнее дело. За год я узнал столько, сколько другой и за шесть лет не узнает.
На втором году службы меня определили в школу младших командиров. Потом направили продолжать службу в танковые войска. Выучили водить машину, стрелять из пушки, и в общем я стал технически грамотным человеком.
Совершенно неожиданно кончился срок моей службы. Демобилизоваться? Куда? Зачем? Решил подать на сверхсрочную. Меня оставили и назначили командиром танка Т-26.
Наш отдельный танковый батальон стоял тогда под Ленинградом. Нормальная военная жизнь мирного времени. Лето мы проводили в лагерях, в шестидесяти километрах от города. Хорошо помню тот день. Первая рота проводила на полигоне учебные стрельбы. Стрелял мой экипаж, и стрелял плохо. Пять снарядов — и ни одного попадания. Такого со мной еще не бывало. Командир роты капитан Окаемов обозвал меня «мазилой царя небесного», забрался в танк и тоже стал мазать. Ротный вылез из машины багровый от смущения и сказал: «Пушка барахлит». И чтоб у нас не возникло сомнения, что во всем виновата пушка, вынул часы и показал. На крышке было выгравировано: «Старшему лейтенанту Окаемову за отличную стрельбу. 1937 год». Окаемов взял часы за цепочку, поднял на уровень глаз, да так и замер.
Он смотрел не на часы, а на человека, бежавшего к нам по полигону.
— Кто же это? — спросил капитан. — Неужели цивильный? Как же он сюда попал? Охрана, что ль, там уснула?
Полигон огромный, километров на пять вытянулся. А человек все бежал и бежал, вдруг упал, вскочил, стал крутить над головой руку.
Это был сигнал: «Заводи».
— По машинам! — приказал ротный. — Сократилин, возьми флажки и дай сигнал: «Делай, как я».
Танк рванулся навстречу бежавшему. Водитель притормозил, тот вскочил на крыло машины. Это был вестовой. Он сообщил, что лагеря уже нет. Палатки свернуты, грузятся на машины. Вторая и третья роты час как ушли в город.
Водитель воткнул четвертую, и мы понеслись. За нами, соблюдая интервал, следовала рота. И только одна машина все еще стояла на месте. Окаемов не спускал с нее глаз и потихоньку ругался. Когда мы уже подъезжали к лесу, тронулась и она. Капитан сел на башню и вытер взмокший лоб.
От нашего лагеря остались одни песчаные дорожки, шест для флага, колышки от палаток и три деревянных сортира с распахнутыми дверьми. Дневальные сидели около сложенных в кучу солдатских пожитков. Тут был и помначштаба старший лейтенант Сиренский. Окаемов дал нам минуту на сбор вещей и подошел к Сиренскому. Тот посмотрел на часы и длинно протянул:
— Дэ-э-э!
Капитан поморщился и, не зная, на ком сорвать досаду, закричал:
— Копайся, копайся! Кончай копаться! По машинам!
К вечеру мы прибыли в свой городок. А на следующий день с утра мыли машины, драили пушки, чистили оружие. Прошла неделя, мы не отходили от танков: регулировали, проверяли, меняли. Сменили мне и пушку, которая действительно оказалась неисправной. В общем, нас ни на минуту не оставляли без дела. К любому заданию мы относились серьезно, будь это регулировка бортовых фрикционов или просто надраивание гусениц до блеска. «Все важно, все нужно», — думали мы в ожидании больших событий. Увольнение в город было запрещено, командиры взводов ночевали в казармах, отлучка из части хотя бы на пять минут жестоко каралась. Спали мы в одежде, с противогазами под подушкой. Только заснешь — тревога. Вскакиваешь, хватаешь вещмешок, бросаешься в оружейку за карабином, а из оружейки — в танковый парк. Раз пять выезжали, но, проехав километра три, возвращались. Тревоги были ложные. Не успеешь добежать до машины, как дадут отбой. Из-за этих тревог один экипаж нашей роты чуть было не угодил под трибунал.
В три часа прокричали боевую тревогу, вторую за эту ночь. Экипаж с командиром одеяла в охапку — и под койки. Тревога, как они и рассчитывали, оказалась ложной, и рота вернулась в казарму. Все прошло б, если бы не дежурный по роте. Уже под утро он заметил три пустые койки. Дневальный, облокотясь на тумбочку, дремал. Дежурный разбудил его и грозно спросил:
— Спишь?
Дневальный козырнул:
— Никак нет, задумался.
— А это что?! Почему не доложил?
Дневальный протер глаза, удивленно посмотрел, на пустые койки, потом на дежурного.
— Были. Сам видел, как ложились.
— Так куда же они делись? Херувимы с серафимами их унесли?
Дневальный заглянул под койку и засмеялся:
— Здесь. Никуда не делись.
Прямо из-под койки командир машины с экипажем отправился на гауптвахту. Вместе с ними туда же отправился и дневальный. Наверняка б ребят судил трибунал, если б сознались. Но они заявили, что забрались под койки от жары. И на этом упорно стояли. Конечно, никто не поверил, но и опровергнуть эту чепуху не смогли. В нашей казарме почему-то всегда было душно и жарко. Ребята отделались тремя сутками ареста.
Настоящую боевую тревогу прокричали не в два часа ночи, и даже не в одиннадцать, а утром, после завтрака. Мы выстроились около машин и долго ждали. Окаемов лично, не торопясь, проверял готовность своей роты к маршу. И только часам к двенадцати дня выехали на дорогу и построились в походную колонну. Наконец танки загромыхали по булыжной мостовой. «Неужели опять покуролесим — и назад?» — думал каждый из нас. Проехали центральную улицу города, миновали чугунную арку, мост через железную дорогу. Теперь уже никто не сомневался, что покидаем наш деревянный городишко надолго, а может быть, и навсегда. Так оно и было. Теперь мы думали: «Куда? На восток или на запад?» Мой водитель Костя Швыгин уверял, что к япошкам. Заряжающий Вася Колюшкин — на Кавказ. И не только уверял, но и предлагал любое пари. Уж очень ему хотелось на Кавказ. Наш командир взвода лейтенант Лесников по этому вопросу хранил глубокое молчание.
За мостом свернули с шоссе влево, поехали вдоль железной дороги мимо складов, пакгаузов, увидели погрузочную площадку и длинный состав платформ вперемежку с товарными вагонами. Колонна остановилась.
Водитель высунул голову из люка и подмигнул мне:
— Ну что? Я говорил, что к япошкам. Точно, к ним.
— Это еще бабушка надвое сказала, — возразил ему заряжающий.
Они наверное, вдрызг разругались бы, но помешала команда:
— Первый взвод — на погрузку!
Командирская машина поползла на платформу… Не прошло и часа, как эшелон был готов к отправке. Машины закреплены, укрыты брезентом. Личный состав роты разместился в двух товарных вагонах. Паровоз глухо заревел, мы замахали пилотками. Поехали! Куда? Да неважно, куда ехать солдату, лишь бы ехать. Новые места, новые впечатления. Но радость оказалась преждевременной. — Паровоз протащил нас километра полтора, остановился, а потом стал пятиться задом и загнал эшелон в тупик. В тупике мы простояли до ночи.
Проснулся и долго не мог понять: «Где я?» Темень непроглядная, стук, храп, лязг. Пошарил руками по сторонам. Левой нащупал сапог, правой — чей-то рот.
— Эй, кто тут есть? — крикнул я.
— Ну я, — раздалось внизу подо мной.
— Кто «ну»?
— Дневальный.
— А где мы? Почему ты подо мной торчишь?
— Потому что ты в телятнике на второй полке бесплатного плацкарта, — пояснил дневальный.
— А-а-а. Значит, уже едем. Давно?
— Не очень.
— Куда?
— Почем я знаю.
— На запад или на восток?
Дневальный усмехнулся:
— А ты слезь да посмотри, где восток, а где твой запад. Только все равно ничего не увидишь. Темно, и дождь хлобыщет.
— Как мы проехали от станции? Вправо или влево?
— Это смотря с какой стороны дороги глядеть. Весь вечер нас таскали то вперёд, то назад. Вот теперь и разберись, где право, а где лево. Тут сам командир роты не разберется.
Дневальному, видимо, было скучно, и он был рад случаю поговорить.
— Ну ладно. Заткнись, — сказал я, сполз с нар, споткнулся о чьи-то ноги и завалился на какую-то груду железа.
— Тихо ты, черт! Печку сломаешь, — сказал дневальный.
Это меня взбесило:
— Ты почему так со мной разговариваешь?
— Я дневальный и обязан за порядком смотреть.
Приказал дневальному открыть дверь.
— Смотри не вывались, — предупредил он.
Я высунул из вагона голову. Дождь моросил по-осеннему. Мимо проплыл низкорослый лесок, а потом потянулись поля.
Утром Вася Колюшкин объявил, что едем воевать с турками. Решил он так, видимо, потому, что поезд шел прямо на юг. Вопрос о том, куда и зачем едем, обсуждался всем вагоном. Большинство поддерживало Васю Колюшкина. О западной границе никто и не подумал. Совсем недавно с Германией был заключен договор о ненападении. Начальство строго хранило тайну и на все наши вопросы отвечало: «Скоро всё узнаете». И только один Костя Швыгин молчал. Он служил последний год и с нетерпением ждал демобилизации.
В Невеле эшелон повернул на запад. Мы посмотрели друг на друга, пожали плечами, кто-то протяжно свистнул, а Вася вздохнул и грустно сказал:
— Это еще ничего не значит. Нарочно так едем, чтоб шпионов сбить с панталыку. Потом опять повернем на Кавказ.
В глухую полночь прибыли в Полоцк, разгрузились и своим ходом двинулись в непроглядную темень по грязной ухабистой дороге. На рассвете остановились в лесу около озера с топкими берегами и сразу же принялись рыть капониры. Потом танки загнали в капониры и тщательно замаскировали. Приказ о маскировке был суровый: нам не разрешали выходить из леса. Впрочем, и ходить было некуда. За два дня мы отлично выспались. На третий день сразу после завтрака раздалась команда: «На митинг!» Мы собрались на полянке около штаба. Командир батальона зачитал приказ командующего Белорусским фронтом о переходе нашими войсками польской границы. Потом выступил комиссар батальона. Он говорил о том, что польское правительство бежало, бросив на произвол судьбы свой народ, что в стране царит произвол военных властей, помещиков, жандармов, которые, спасаясь от немецких войск, бегут к восточной границе и грабят мирное население Западной Белоруссии, что наш поход в Польшу является освободительным походом в защиту родственного нам народа, который обратился к Советскому Союзу за помощью. Мы, солдаты, приказ поняли по-своему и проще: идем навстречу немцам, чтоб приостановить их движение к нашей границе и заодно защитить западных белорусов от гитлеровских войск.
Приказ нас и огорошил и обрадовал. Мы, танкисты, давно ждали серьезных дел. Любой боец в душе считал себя героем, жаждал подвигов, славы. С митинга мы уходили довольные, веселые. Заряжающий Вася Колюшкин радовался, как мальчишка:
— Эх, и повоюем! Или грудь в крестах, или голова в кустах!
Водитель Швыгин не разделял общего воодушевления.
— Накрылась моя демобилизация, — мрачно заявил он.
В полдень привезли горючее с боепитанием. Полностью залили бензином баки, загрузили танки снарядами, пулеметными дисками. Еще раз все проверили, подрегулировали, подтянули, почистили. Окаемов собрал командиров машин и сообщил, что наш батальон в составе 22-й танковой бригады будет наступать в направлении Вильно. Поскольку карт командирам машин не полагалось, мы записали населенные пункты на пути нашего движения. До наступления полной темноты выехали на исходные позиции и остановились в километре от границы. Стали ждать, и ждали до пяти часов утра. От напряжения у меня разломило голову. Механик-водитель уснул, так и спал, не снимая рук с рычагов. Вася Колюшкин тоже уснул, как котенок, свернувшись на днище танка, подложив под голову пулеметный диск. Сигнала к атаке — зеленой ракеты — мы так и не увидели. Раздалась команда: «Заводи!»
Повзводно, колонной, соблюдая между машинами уставную дистанцию, без единого выстрела семнадцатого сентября наша рота пересекла государственную границу — широкую просеку в скверном ольховом лесу. Было сырое, серое утро. Висел густой, вязкий туман, и наши танки увязли в тумане, как в тесте. Около часа двигались на ощупь. Ничего не видно, не слышно, только рев моторов, лязг гусениц и шлепанье траков по мягкой земле. Наконец выглянуло огромное кровяное солнце. Туман заклубился, как пар, и стал расползаться, а когда солнце поднялось и накалилось до желтизны, тумана не стало.
Танки шли по заросшей густой отавой низине. Здесь паслись стреноженные кони. За ними приглядывал старик пастух.
Потом поднялись на гребень бугра и увидели большое зеленое село. Оно утонуло в садах. Сквозь листву проглядывали темные драночные крыши, среди них были и светло-серые, вероятно крытые оцинкованным железом. Кое-где дымили трубы. Колонна на минуту остановилась, а потом вошла в село.
Оно как будто спало непробудным сном, хотя для сельского жителя время было уже позднее. Правда, в одном окне мелькнул платок. Еще я заметил старуху. Она выглядывала из чуть приоткрытой двери. Даже собаки куда-то попрятались. Один только рыжий теленок в белых чулках не испугался. Широко расставив передние ноги и согнув голову, он смотрел на танки и облизывался. Все это очень походило не на войну, а на обычные маневры.
Двинулись дальше. За селом настигли польскую батарею на конной тяге. Артиллеристы разбежались. Мы обрубили постромки, разогнали лошадей, перевернули вверх колесами пушки и продолжали наступление.
Крестьяне убирали поля. Увидев наши танки, они прекращали работу и, проводив нас долгим взглядом, опять принимались за свое дело.
В местечке Поставы встретили стрелковый батальон при оружии и с командиром. Батальон давно ждал нас, чтоб сдаться в плен. Окаемов направил батальон при оружии с офицерами к нашей границе. И они, подняв белый флаг, пошли. А что им еще оставалось делать? В Поставах мы остановились на ночлег. Задача первого дня была выполнена. Мы продвинулись в глубь Польши почти на сто километров.
Второй день наступления походил на первый. Прошли Свенцяны. К вечеру должны были быть в Михалешках. Но за Свенцянами начался лес и сквернейшая дорога. Грязь, ухаб на ухабе. Моторы надрывались и глохли. Рота растянулась немыслимо. Голова ее уже выходила из леса, а хвост еще и половины не прошел. Одна машина поплавила подшипники. Ее только через месяц приволокли из этого леса в часть на буксире.
На другой день с рассветом пошли на Вильно. В километрах пятнадцати от Вильно, около хутора, у меня заклинило коробку скоростей.
— На этом и закончился мой первый боевой поход.
Сократилин грустно усмехнулся.
— На роду-то мне, видимо, было завещано генералом, а может, и самим маршалом быть. А жизнь судила иначе. Четверть века отдал армии, а выше старшины не дослужился.
Богдан Аврамович посмотрел на меня, горестно покачал головой и чмокнул губами.
— Вот так-то, брат!…
Потом он разлил водку. Выпили, помолчали. Когда молчание стало неудобным, а разговор как-то сам по себе не вязался, я напомнил Сократилину о медалях.
Богдан Аврамович прищурился:
— Откуда ты знаешь про мои медали? Евленька разболтала? Вот баба — дырявое существо!
Я долго его уговаривал и упрашивал. По глазам видел, что Сократилину и самому очень хочется рассказать и упрямится невесть почему. В конце концов, он согласился. Богдан Аврамович принес шкатулку и выложил на стол в один ряд медали. Долго смотрел на них, потом скомандовал:
— По порядку рассчитайсь!… Первая…
Он взял правофланговую, ту самую, которая стерлась до неузнаваемости.
— Это я получил еще в тридцать девятом.
Сократилин сжал в кулаке медаль и задумался, потом отложил ее в сторону.
— О ней потом, когда-нибудь, — пояснил он мне и взял вторую медаль, у которой ленточка засалилась так, что не поймешь, какого она была цвета…
Рассказ первый, записанный со слов Богдана Аврамовича
Батальон, в котором служил Богдан Сократилин, опять стал отдельным. Ходили слухи, что это ненадолго, так как создавались крупные танковые соединения. Но пока он был отдельным и подчинялся только штабу армии.
Батальон стоял на берегу реки Дубиссы в симпатичном литовском городишке. Личный состав располагался в кирпичных казармах на территории военного городка, который раньше занимал литовский артполк.
Капитан Окаемов стал начальником штаба батальона. Его место занял Лесников, теперь он был уже старший лейтенант. Сократилина тоже повысили. Ему прицепили четвертый треугольник и назначили старшиной роты.
Две роты вместе со штабом батальона находились в лагерях. Третья — старшего лейтенанта Лесникова — в связи с ремонтом танков была оставлена в городе. Танки ремонтировались так же медленно, как медленно текла жизнь в этом сытом и сонном литовском городишке. И солдаты мало-помалу приноравливались к такой жизни.
Поскольку танкисты с утра до вечера возились около машин. Богдану делать было совершенно нечего. Целыми днями он лежал в каптерке на койке, читал книжки или спал. А вечером отправлялся в город — в кино, в ресторанчик, выпить кружку пива, послушать музыку.
В ту последнюю мирную субботу Сократилин появился в ресторане в самое время, когда вовсю пьют, пляшут и дым коромыслом. Но на этот раз в ресторане было тихо и пусто. За двумя столиками сидело по парочке. За третьим спал какой-то пьяный шпак в сдвинутой на затылок шляпе и с потухшей папиросой во рту. Оркестр исполнял что-то уж очень грустное.
В дальнем углу ресторана Сократилин увидел своих: командиров взводов Бархатова и Витоху. Сократилин подошел к ним и попросил разрешения составить им компанию.
— Конечно, составляй, — сказал Витоха и махнул рукой.
Подошла официантка, поставила три кружки пива и села за соседний столик. Витоха взял кружку, хлебнул и поморщился:
— Пиво скверное. Может, водки?
— Да ну… Пей да пошли, — Бархатов покосился на официантку, — видишь — ждет не дождется.
Опорожнили кружки. Помолчали. Витоха стал закуривать.
— Неспроста и Гитлер-дьявол столько войска сюда нагнал. Газеты пишут — маневры. Неужели он другого места не мог выбрать для этих маневров? А что, если?…
— Не может. Не посмеет. Договор, — уверенно заявил Бархатов.
— Конечно, — согласился с ним Витоха. — Только вот танки мы распотрошили, а когда соберем — одному богу известно.
Бархатов глубоко затянулся и выпустил густую струю дыма в лицо Витохи.
— Ничего. Найдутся другие. Видел, каких нам красавцев прислали?
Неделю назад батальон получил десять тридцатьчетверок и три КВ. Их загнали в гараж, закрыли на замок и выставили часового.
Оркестр заиграл бойкий литовский танец. Гулко и неуютно звучал он в пустом, с высоченными потолками ресторане. Две пары поднялись и стали танцевать. Дирижер повернулся к оркестру, поднял вверх смычок, и танец оборвался.
Сунув под мышку скрипку, он ушел за эстраду. За ним поволокли свой инструмент музыканты.
Подошла официантка и объявила, что ресторан закрывается.
— Почему так рано? — спросил Бархатов.
Официантка передернула плечами и, не сказав ни слова, повернулась к ним спиной.
— Ну что ж, пошли, что ли? — спросил Витоха Сократилина.
— Пожалуй, — согласился с ним Сократилин.
Они вышли на улицу. Ночи совсем не чувствовалось, хотя шел уже двенадцатый час. Ни светло, ни темно, а что-то среднее между обычным хмурым днем и вечерними сумерками. Но город уже спал или притворялся, что спит. Улицы пустынны, лишь кое-где в домах мелькали огоньки. Сократилину стало малость жутковато. Вероятно, то же самое ощущали и Бархатов с Витохой. Но признаться в этом друг другу они стеснялись.
— А ведь завтра воскресенье, — прервал молчание Витоха.
Сократилин с лейтенантом Бархатовым громко подтвердили, что действительно завтра будет выходной.
— Странная какая-то нынче луна.
Сократилин взглянул на луну. Она была бледная, неровная и чем-то напоминала человеческий череп. Витоха с Бархатовым пожали Сократилину руку, пожелали ему доброй ночи и ушли к себе на квартиру, Богдану надо было в казарму. Когда затихли шаги лейтенантов, Сократилину стало до ужаса страшно. Он пошел быстрее, а потом побежал. Отряхнуться от этого непонятного страха ему удалось лишь тогда, когда он увидел трёхэтажное здание казармы, высокий дощатый забор и проходную.
Рота Сократилина занимала второй этаж. В одном конце длинного коридора находилась оружейка, в другом — каптерка старшины. Дневальный сидел на подоконнике и курил. Увидев Сократилина, он вскочил, спрятал папиросу в рукав и отрапортовал, что рота отошла ко сну и никаких происшествий за его дневальство не произошло. Сделав дневальному выговор за курение на посту, Сократилин прошел в каптерку, разделся и, взяв книгу, повалился на койку. Прочитал пару страниц и ничего не понял. Из головы не выходили пустой ресторан и пугающая тишина улиц. Обычно Сократилин спал крепко, по-солдатски. Лег — и как колом по затылку. А тут стоит перед глазами луна с оскалом черепа и лезут всякие мысли, одна другой глупее.
Потом Богдан увидел сон.
Болото — кочковатое, с низким полузасохшим березняком. Огромная черная с белыми пятнами корова лезет в болото, а Сократилин ее не пускает. Стоит перед ее слюнявой мордой и палкой машет. А корова, нагнув голову и выставив рог, лезет. Богдан хочет бежать от нее и не может. Ноги завязли в болоте, он пытается их вытащить, но болото все глубже и глубже его засасывает. И вот он уже по шею в грязи, чувствует, что захлебывается. И вдруг кто-то как дернет за ворот — и Сократилин на кочке. А перед ним волосатый Колчак. Смотрит зверем и говорит: «Хочешь, Богдашка, я тебе Москву покажу?» Хватает за уши, поднимает вверх, и вместо Москвы Богдан видит черную тучу.