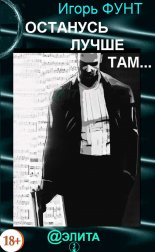Россия, кровью умытая (сборник) Веселый Артём
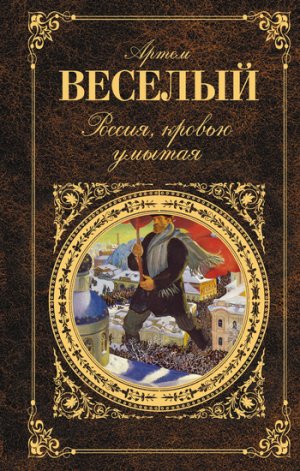
— Никак нет.
— Немедленно собрать людей.
— Слушаюсь.
Собрал старшой людей, выстроил — семерых не хватало.
— Семерых не досчитываюсь, товарищ начальник.
— Куда делись?
— Не могу знать.
— Ты был пьян, подлец?
— Никак нет.
— Подойди, дыхни.
Дыхнул старшой — изо рта у него несло табаком, портянками, навозом.
Русаков забегал перед строем, схватился за голову:
— Ничего не понимаю… Я спрашиваю, куда подевались винтовки, пулемет, люди?
— Не могу знать.
Правофланговый Косягин ухмыльнулся:
— Должно, с дезертирами убежали, товарищ начальник, окромя им деться некуда.
— С какими дезертирами?
— Дык все с теми же…
— С какими?
— Под боком-то у нас стоял отряд самых секретных дезертиров…
— Как дезертиров? Каких дезертиров?
— Так что не могем знать.
— Чушь какая-то!
— Никак нет, не чушь, а дезертиры.
— Чего же вы меня раньше не предупредили?
Тогда загалдели все разом:
— Я бы и сказал, да не знал.
— И нас уговаривали пристать к ним… Сколько разов подступались, да мы не дураки…
— Коневое дело.
— Мы против советской власти не согласны…
Русаков залепил в морду одному, другому и убежал в избу, бормоча:
— Пропал… За винтовки и пулемет придется под военный суд идти… Ни за что пропал!
Следом за ним вбежал десятник и вручил записку:
Командиру дезерционного отряда т. Русакову.
Доношу хозяин, где вы проживаете, Семен Кольцов, ходит по селу и ведет недоброжелательную агитацию, сиречь сожрали у меня годовалого бычка, две свиньи, овцу, казачье седло, и когда они провалятся в тартарары, ни дна им, ни покрышки вместе с революцией, а также означенный Семен Кольцов нахально не признает советскую власть и предает ее за тридцать серебреников. Мы за нее кровь пред чехами лили, а у него, стервеца, сын в дезертирах, а также сей недостойный гражданин контрреволюционных лошадей укрывает. Нижайше прошу вас и призываю, сделайте с Кольцовым Семеном чего-нибудь циркулирующее, а все имущество, начиная с собаки и возносясь до каурого мерина, передайте в сиротские руки бедноты, босой и голой, холодной и голодной.
Идейный милиционер рабочей, крестьянской гвардии и армии РСФСР, РКП товарищ Аким Собакин.
Русаков разбудил хозяина Семена Кольцова, за ногу сдернул его с полатей, поставил перед собой и запиской милицейской начал в зубы тыкать:
— Ты что же это, дядя, предаешь советскую власть за тридцать сребреников?… У меня пулемет пропал, тридцать четыре винтовочки Гра улыбнулись, а у тебя сын в дезертирах? А ты ходишь по всему селу и советскую власть подрываешь? Разве так честные граждане поступают?
— Господи Исусе, опять напасть, — протирал старик глаза спросонья. — Тебе, товарищ, чего? Молока? Самогону или, может, щей вчерашних разогреть?
— По твоему молоку — я проволоку… Почему контрреволюционных лошадей укрываешь? Почему…
— Свят, свят… По назлобью, сынок, на меня набрехали. Видит бог…
— Лучше сознайся да отопрись.
— Дозволь, сынок, слово молвить…
До слов ли тут? С дезертирами под одной крышей ночевал, свои люди разбегаются, пулемет и винтовки пропали, хоть и дрянь винтовки, не стреляла ни одна, а придется под военный суд идти…
— Я тебе покажу дезертиров скрывать. Из-за вас, чертей, весь саботаж проистекает. Для начала, согласно постановления губкомдезертир, конфискую я у тебя все хозяйское обзаведенье, начиная с собаки и до каурого мерина включительно, а самого на первых порах упрячу в острог вшей кормить.
И горько заплакал, затрясся старик Семен Кольцов:
— Не губи, сынок, душу крещену, всю правду как на духу поведаю.
— Согласно губкомдезертир…
— Не губи, кормилец, слова не совру.
— Давай похмелиться.
— Мы с хорошим человеком со всей нашей радостью! — Выхватил хозяин из-за божницы бутылку перегону, поставил на стол стаканы. — Кушайте, не стесняйтесь, у нас она не куплена.
И поведал старик Семен Кольцов:
— Секретный отряд вовсе будто и не секретный отряд, а самые секретные дезертиры из деревень Чукчеевки, Нижней Сахчи, Вознесенки и Втулкина. Наших среди них вроде и не было никого. Телка у меня годовалого сожрали, двух поросят, и ружьишки ваши они же, будь им неладно, заграбастовали, опричь некому. У пьяных, слышно, разговор был — собираются в степи лошадей у киргизов воровать, вот им и спонадобились ваши ружьишки… Ты пей, сынок, у нас она не куплена, у нас, слава тебе, господи… И верно, товарищ, это разве жизнь? Вчера теленка со двора увели, нынче свинью сожрали, ты вон грозишь по миру пустить, завтра самого к стене… Да-а. А на третий день рождества неизвестный татарин на кауром мерине соли астраханской мешок вез. Наша комбеда его поймала, соль арестовали и поделили члены, отчего в народе был огромадный ропот. На того спекулянта, несчастного татарина, за его же соль наложили контрибуцию в сто одну косую. Он с перепугу и умер в амбаре, а может быть, замерз, бог его знает. Жив был еще, говорил: «Холеру пережил, голодный год пережил, а свободу никак не переживешь». Да-а, остались от татарина сани с подрезами да меринок каурый. Сани бедному председателю достались, а меринок Акимке под верх пошел: скушно Акимке без лошадки — догнать там кого или воды, скажем, бочку, и ту на козе не вкатишь. Ладно. На рождественской неделе нагрянул в село самогонный отряд и прямком шасть ко мне с обыском. Донос, я так думаю. И в уме сроду не держал, какая такая самогонка, и нюхать ее не нюхал, не только что варить. Шарили они, шарили, ну, и… кхе… в чулане нашли будто кадушку с закваской. «Это что?» — спрашивает главный. «Закваска, говорю, ничего вредного, чистый хлеб; праздники на носу — раз, плотников хочу рядить — опять двадцать пять». Главный, ну мальчишка, у него на уме только в балалайку играть, меня за бороду: «Ах ты, такой-сякой, мы в городу собачины досыта не видим, а вы бражничать? Эй, солдаты, бей кадушку, лей барду на улицу». Я и говорю: «Зачем добру пропадать? Лей в корыто, свиньи скушают, а кадушка не виновата.'Разобьете у меня кадушку, где я возьму кадушку, сторона наша степная, лесу нет — в зубах нечем поковырять». Отдали мне кадушку. Гляжу, один сыновнюю гимнастерку в мешок сует. «Грабеж, кричу, сын родной Митька с австрейского фронта привез!» А он мне: «Прошу не оскорблять, теплы вещи Красной Армии нужны. Был такой декрет». — «Неправильный декрет, говорю, сын мой — раненый два раза и на гимнастерку документ может представить». А они свое: «Тепла вещь». Дернул я за рукав: «Хоть рукав да наш, годится бабам чугуны перетирать…»
Весь во власти горестных воспоминаний, старик морщился, плевался, воздымал трясущиеся руки к иконам, богов призывая в свидетели:
— Да-а, хорошо… Только мы с Митькой — он тогда дома проживал — в бане перемылись, попарились, только к самовару подсели, стук-стук в окошко десятник Петра Ворыпай: «Семен Саввич, бедный комитет тебя требует срочно». А до комитету больше версты, я только из бани. Куда я, горячий человек, выпча глаза, на ветер пойду? «Ну его, кричу, и комитет-то ваш к едрени матери». Ушел десятник. Выпил я чаю чашку, другую наливаю. Вот он летит, Акимка, и прямо с разбоем, как атаман Чуркин: «Ты властям не подчиняться? Кумышку гнать? Дезертиров разводить? Все до последнего кола леквизирую». Меня так и перепоясало: разорит, думаю, в корень разорит, чего со псом поделаешь? А Митька и виду не подает, да ему встречь: «Ты, Акимка, не задирайся, и тебя за машинку взять можно, я есть действительный солдат с австрейского фронта, два раза раненный и действительно дезертир, да кругом один, а у тебя, Акимка, не забудь, родной племянник Петька дезертир, шурин дезертир, свояк дезертир». Тут из-за сына и я осмелел: «Мы, кричу, налогу пятнадцать тысяч сдали, четыре воза хлеба за спасибо на элеватор отвезли, вся власть на нас держится, а вы, шаромыги, не только власти, собаке бездомной куска не бросите. У меня на двор каждая палка затащена, грош к грошу слезой приклеен, по соломине все снесено». Надолго бы нам разговору хватило, да Митька догадался, принес от свата горлодерки четверть. «Давай мириться?» — «Давай», — отвечает Акимка, а у самого глаза, как у базарного жулика, бегают. Хватили по ковшику, хватили по другому, нас и развезло…
Русакова тоже развезло, старика он слушал краем уха. Отчаявшаяся мысль вилась над событиями последней ночи: обыск, уха, пляска под гармошку, Аленка, винтовки… Как ни крутись, суда не миновать.
— Пособи моему горю, лукавый старик, я тебя озолочу… Но хозяин, навалившись грудью на стол, нес свое:
— Сынок, видишь ты, какое дело… Акимка с братом делится, лесу у него на избу не хватает, а у меня амбар на задах гниет. «Давай, говорит, на каурого мерина менять». Пораскинул я умишком: хлеба большого нет, а ежели и будет — в землю его топтать надо, так и так ни к чему мне амбаришка, да и амбариш-ка-то такой, что мышу там повернуться негде. «Меняю, говорю, где наше не пропадало». И поменяли, ухо на ухо. Рассыпал он мой амбар, я каурого меринка в укромное место спрятал. Ладно. Что ж ты, брат мой, думаешь? На другой день прибегает Акимка: «Где каурый меринок?» — «Амбар мой где?» — «За амбар я тебе по твердым ценам уплачу, а казенного меринка вынь да выложь». «Ищи, говорю, я у тебя никакого меринка не брал». Пошарил он по двору — нет, туда-сюда — нет, на нет и суда нет. Волостному председателю Акимка заявил: «Увели», — а мне пригрозил… И тебя, ангела, он, пес, назузыкал. Я не кулак, я средний житель: две лошадки, две коровы, работников не держу и не держал никогда, сами с сыном хрип гнем… живем ничего, пола полуприкрывает, а за большим не тянемся. Я смирный, как веник: положь меня к порогу, буду лежать, выброси в сени, буду лежать… Эх, товарищ, грех вам нашего брата, мужика, обижать… Хоть крест с шеи снимай, хоть исподники стаскивай — рук не отведем… Дограбите нас, станем все голые…
— Курвы, — бухнул простуженный голос из-за печки, — кишки из них на скалку выматывать будем…
— Кто там ворчит? — спросил Русаков.
— Тама?.. Кхе, так это ж, должно, сын мой Митька, в дезертирах который, больше там и быть некому… Митька!.. Сы-ын!..
Из-за печки вышел босой, заспанный Митька и, запустив левую руку в ширинку — не одна его тревожила! — правой отдал честь.
Так и так, давно он, Митька, дорывался в Красной Армии послужить, да все случая подходящего не подвертывалось: то хлеб молотили, то свадьба, то в банду его насильно мобилизовали… Теперь решил объявиться, никак в дезертирах невозможно — хозяйству расстройка, тятяше беспокойство и Акимка поедом ест.
Отец затрясся в кащеевом кашле:
— Пропадай он к лешему совсем с каурым меринком… Амбар пусть мне вернет, амбар…
Засунув руки в карман френча, Русаков пробежал по избе и круто остановился перед Митькой:
— Сволочь! — и кулаком сразу сшиб весь сон с его рожи. — Знаешь, чего с вашим братом, дезертиром, делаем?.. А?.. То-то… Тебе, как старому солдату, прощаю… Но ровно через трое суток пулемет и винтовки должны быть здесь! Понял?
— Так точно, понял.
— Всю твою родню оставляю заложниками. В случае чего — щелк, щелк, и дымок в облака. Понял?
— Так…
— Кругом арш!
Митька по-солдатски повернулся через левое плечо, дошел до двери и, заплакав, стал:
— Дозвольте, товарищ, хоть квасу напиться… Да обуться бы, что ли…
С перепугу глаза у Митьки ровно на лубке выбиты.
Ночь по селу — нигде ни гу-гу, не журкнет, не брякнет.
Лишь где-где спросонок собака тявкнет, вздохнет корова. Уткнувшись носами в закорклые сугробы, черной дремой дремали дремучие избы.
В темной горнице на широкой лавке сидел одетый и в рукавицах Семен Кольцов. По полу были раскиданы овчины, по овчинам в жарком сне разметались ребятишки. Молодуха храпела свирепо и жирно. Семен поглядывал в обметанное ледяной икрой окошко, вздыхал — был он скован бедами, ровно собака репьями. Уши на малахае и те дыбом стояли. Беспокоил храп снохи. Время какое, может, по миру пустят, а она, корова, дрыхнет, и горюшка ей мало. Сунул кулаком под мягкое, обвислое вымя:
— Черт неладный, вставай.
Молодуха как с печки упала:
— Батюшки… Пресвятая богородица… Сон-то на меня какой…
— Понесла без весла… Замолола, дура-надолба… Давай ключ от чулана! Живо!
Шагая через детишек, шлепая босами, тыкаясь сослепу, шарила по стенам:
— И куда его нечистая сила занесла? — Сползала с бела плеча рубаха, волосы путали глаза.
— Одевайся живей, поедешь.
— Куда?
— На кудыкину гору, закудыкала, черт неладный!
(Не спрашивай «куда», удачи не будет; спрашивай: «далеко ли?»)
Старик хлеснул дверью, загремел сенным болтом.
Сноха, ровно котят, таскала из чулана на двор пятиришные мешки. Сам укладывал мешки в кованый возок, застилал соломой, рассказывал, куда везти:
— Минуешь Дубовый ерик, и будет на дороге горелый осокорь, где Савку Микитина позапрошлый год грозой убило. Направо дорога, налево дорога, так ты ни по одной не езди, а снорови в развилку попасть, забирай огорком, Сакулиной гривой… Гляди, в дол не спускайся, жеребенка утопишь, мятика… Гривой упорешь сотельника два, тут тебе Лебяжье, Жукова пожня, тальник, гуга — само недоступно место. В ямину сперва соломы погуще натруси. Мешки ставь на-попа, плотнее. Сверху лубьями, дерюжкой прикрой, снежком запуши. Пожню-то Жукова помнишь? Тут тебе лывина, буерак, гуга…
— Помню, батюшка.
— Место заприметь, холера. Лошадь не упусти. Ну, с богом… Вожжи-то держи, дурье гнездо!
Мерзло взвизгнули полозья. Каурый меринок умчал с носом закутанную в тулуп молодайку.
Старик, заперев ворота, отлил, поплевал на пальцы и недовольно крякнул:
— Своему дерьму не хозяин… Свобода… Дожили.
Не раздеваясь, прилег на постель, и только было забылся, в окно тихо брякнули. Семен вскочил: в переплете рамы моталась папаха Антона Марычева. Семен узнал его, но все-таки спросил:
— Кто там?
— Сват, выдь-ка на минутку.
— Пошто?
— Дело есть.
Вышел боковушкой.
— Ты, Антон?
— Я, сват.
— Ты что?
— Да ничего.
Постояли.
— В избу айда, покурим, — пригласил хозяин.
— Некогда.
— Какие тебя дела крутят?
Антон помялся и досказал:
— Мужики у Максима Панкратова собрались, потайное собрание вроде, шут их дери.
— Ну, так что?
— Тебя, значит, зовут.
— Меня?
— Тебя.
— Что за собрание?
— А я не знаю.
— Ну их в прорву…
— А ты иди, сват, иди… — засуетился Антон. — Дело мирское, крепко сердятся которы, иди… Я еще Афанасьева да Поликарпа Лукича позову. — И он торопливо зашагал через улицу.
Максима Панкратова изба полным-полна.
В полушубках, в чапанах сидели по лавкам, по полу. Окна были наглухо занавешены, лампа привернута. Накурили, руки не пробьешь… Собрание еще не начиналось, поджидали кое-кого. Хозяйка качала зыбку; ребятенок, опурившись криком, затихал. Петр Часовня стоял на полу на коленках и вполголоса рассказывал:
— …Два звонка. Я мешок за ухо да в вагон — нельзя, делегатский; в другую дверь — штабной; я дальше — «Куда прешь, вагон особенного назначения». Три звонка, мое дело хило. Ладно, думаю, смерть, так смерть. Лезу на буфер, сел, ножки свеся. Откуда ни возьмись анчутка, цоп меня за лапоть: «Слазь». Я упираюсь. «Войди, товарищ, в положение, трое суток пресмыкаюсь на вокзале, обовшивел весь; не жулик, не спекулянт, а есть я ходок по деревенскому мытарству». Четвертную сулил, то, се, знать ничего не хочет: «Слазь без литеры и вся недолга». Стащил меня да еще в загривок сунул. Оно, понятно, не больно, а обидно. Нам зуботычины от урядников терпеть надоело. «Ладно, говорю, машина твоя, земля моя. Езди и езди, а на землю не слазь — моя земля. А как слезешь, тут тебе и башку отшибу на разно». Свистнул он, поехал, а я утерся, да и пошел пешечком полтораста верст. «Ладно, кричу, машина твоя…»
Мужики, поблескивая глубокими и темными, как соминые омуты, глазами, слушали молча.
На печке бабушка Анна трепала лохмотки молитв, баюкала блажного внучка и подорожником обклеивала его сочащиеся гноем болячки:
— Не стони, Ванюшка, не стони… Грех, Ванюшка, стонать… Не тешь дьявола, касатик, не стони… За муки-мученские подарит тебе боженька ризу золотую, в пресветлый рай тебя посадят, не стони, голубь сизый…
Побывавший в немецком плену солдат Федор Выгода, припав на корточки, курил перед пылающей пастью голландки и рваным, до дыр заношенным голосом расхваливал немецкое житье:
— …Знаменитые порядки. Дома один в один, как одного хозяина. Кругом шоссейки, молочные заводы, страхкассы и электричество. В Расеюшке нашей разнесчастной мужик на ногах ходить не умеет, а там, сделай милость, у каждого велосипед, а то и автомобиль. Ты тут целый месяц влачишься в поле на своей лошаденке, а там машина фрррр, в один час все сделает. Лошади у немцев, как печки, моют лошадей с мылом два раза в неделю. Обедают, будь то в городе или в деревне, по часам, по звонку. Свинью зарежет — капля не пропадет. Землю разделает, не земля — мука, работать весело. В праздник оденется мужик немецкий чище русского буржуя. Кругом телефоны эти самые и машины, машины, машины, а машина — выгода. С машиной Америка до того дошла, что и работать никому не надо: лежит, слышь, американец на печке, ногу отваля, нажмет одну кнопку — машина ему спашет, нажмет другую — посеет, нажмет еще — машина хлеб уберет, смолотит и в мешки ссыпет, нажмет…
— Да, — подсказал старик Колухан, — в совете нажмут кнопку, сразу все отберут.
Могучий хохот потряс избу изба закачалась на корню.
Федор, схватившись за чахоточную грудь, корчился в хриплом кашле. Удары кашля выбивали из него сверкающие лоскутки крови, которые он сплевывал в огонь, а мужики ржали, будто сотни телег катились с высокой горы…
— Прямая выгода…
— Нам раз в день жрать нечего, а все будем лежать да обедать по часам, никакая машина не наработает.
— Ну, кнопка…
— Смехи, пра, ей-богу…
— То-то ты, Федя, и разжирел на немецких хлебах… Гляди, какой стал сочень, зюзьга богатырь…
Колухан:
— Мы сыстари веков сохой землю ковыряли, а хлебом своим весь белый свет кормили. Будем работать машинами, кто нас кормить будет?.. Кобыла мне принесет жеребенка — хозяйству прибавление, навозом я землицу сдобряю, на лошадке своей и за дровишками съезжу, и на базар, и в степь. Она, лошадка, тварь божья, во всех делах мне помощница и из воли моей не выходит… А машина, она и есть машина: гарь да вонь от нее да увечье.
— Машина нам ни к чему, — подхватил кудрявый Тихоня, — разбогатеем на машинах, куда станем деньги девать? И еще спрошу, как нам тогда достигнуть царства социализма, ежели Христос заповедывал: при социализме все должны быть бедными?
— А по-моему, — сверкая в полутьме бельмом, как двугривенным, сказал Алеша Сысоев, — жить бы ровненько, не зарываться больно глубоко-то. Ну его, и социализм-то ваш к монаху в штаны.
В избе сидело много и чужих мужиков: то были ходоки из волостей Юрматовской, Белозерской, Санчелеевской, Абдрахманской и еще откуда-то издалека. Держались они сторожко, слова укладывали скупо и бережно, одно к одному.
— Что у вас слыхать?
— Одинаково… Щупают почем зря.
— Под метелку гребут?
— До зерна, до мышиного хвостика.
— Дела мокрее воды… Он, хлеб-то, раз в год родится.
— Куда пойдешь, кому скажешь?
— Народ ходит молчаливый, мученый, ровно с креста снятой. Скоро пахота, сев — ничего и на ум не идет… Руки есть, а ровно оборваны.
— Щель, куда иголку не подобьешь, они бревном распирают… На своем дворе мужик стал не хозяин, все сделались бесовыми работниками…
— Дело какое делают молча, ходят молча, все будто бы потеряли чего.
— Весна придет, с чем взяться?
— Не закон, мужики…
— До Ленина бы еще дойти, потолковать бы…
— Где там, и близко не подпустят.
— Возьми другие губернии, в других губерниях такого грабежа нет… По декрету, слышь, на каждый двор по три коровы выходит. А где у нас они?
— У нас по три кошки нет, не то что коровы.
— Скажи на милость…
— Опять и обмолот был неправильный.
— Жмуриться тут нечего, надо всем миром рявкнуть… Всем-то плюнуть по разу — озеро будет.
— Дда, плюнуть не хитро.
— Что и говорить…
— Так и так, пока сидит над нами эта власть постылая, не видать нам красных дней.
Пришли Семен Кольцов, Онуфрий Добросовестный, церковный староста Агафон Сухинин, Борис Павлович.
— Давай начинай, вся правленья в сборе.
— Жевать тут нечего.
— Верна, Акулина Пелагеевна… Мартьяна разбудите.
Борис Павлович Казанцев облазил за зиму весь уезд, выявил на местах своих единомысленников и сочувствующих, наладил связь между волостями. Почва для работы была благодарная: революция ударила по брюху собственника, проживало по селам немало и толстосумов — горожан, выкуренных из своих нор советской властью, там и сям отсиживались по углам колчаковцы, не успевшие почему-либо отступить с армией. Безобразия, творимые на местах липовыми коммунистами и органами власти, засоренными чуждым элементом, еще более облегчали деятельность Бориса Павловича.
Проговорили всю ночь.
Было решено хлеб попридерживать и начать подготовку восстания.
Под утро, еще затемно, ходоки уехали.
Семен Кольцов заложил жеребца — на хутора погнал, сына Митьку разыскивать.
Сгибли все сроки, отмеренные Ванякиным, доброго не виделось. В хлебе отказывать не отказывали и давать не торопились. Села оглядывались одно на другое и с надеждой посматривали на февральское солнце, которое день ото дня наливалось жаром, грозило вот-вот размыть снега и распустить дороги. Правда, кое-откуда и подвозили хлебишко, то затхлый, то в ямах сгноенный, то с песком подмешанный, да и подвозили-то десятками пудов, когда большие тысячи спрашивались. Не выколотив разверстки с Хомутова, нечего было и думать насшибать ее с окружающих сел. До распутицы времени оставалось мало, это понимали и мужики, поглядывающие на солнышко, понимал и город, истекающий призывами.
По волости был пущен слух о новом декрете, которым каждый крестьянский двор обязывался поймать и доставить в райпродком по живому волку.
Мужики взвыли:
— Кум, слыхал?
— Знаю.
— По живому, слышь?
— Шутки-баламутки… Блоху, скажем, поймать, и то не вдруг, а это, эка махнули.
Не унывали одни охотники.
Танёк-Пронёк сказал набившимся в комбед мужикам:
— Провокация… Спрашивал я и Ванякина, то же самое, никаких, говорит, волков не надо… А за распространение позорящих советскую власть сплетен с нынешнего дня в пользу культпросвета будем взимать по двадцать пять рублей с каждого сучьего языка.
Из гнезд разоренных монастырей, как черные тараканы, на все стороны расползались монахи и монашки, сея в темных умах пророчество о царстве антихриста и чудовищные россказни о новоявленных иконах, видениях схимников, о втором пришествии сына божия.
Земля накалялась село гудело:
— Хле-е-еб… Разве-е-ерстка…
По ночам кто скакал целые воза перепрятывать, а кто засыпал в квашню последнюю затевку, пока не отняли. Шатались улицей, сбивались в кучки:
— Начисто гребут.
— Без милости.
— Скажи ты, под метелку, до скретинки.
— Амбары охолостят, по дворам пойдут.
— Как хочешь, так и клохчешь.
— Припасли, наработали.
— Мы, гыт, голодны…
— Дармоеды, сукины дети.
— Рабочих мы бы прокормили, рабочих мало… Пожирает наш труд всякая городская саранча, до сладкого куска избалованная, вот что обидно.
— Ни тебе рта разинуть, ни тебе шага шагнуть.
— Это не жизнь, а одна болезнь.
— Так и так подыхать.
Село было похоже на муравейник, в который сунули горячую головню.
На воротах, где жил Ванякин, повесили удавленную на мочалке курицу, в клюв ее была засунута записка: «Не суди меня, Бешеный комиссар, удавилась я по причине агромадной яичной разверстки».
В лютое февральское утро, когда снег визжал под ногой, Ванякин повел свой отряд на гумна, в наступление на хлебные крепости. Похлопывая по набитому инструкциями портфелю, Ванякин подбодрял отрядников:
— Не робей, ребята… Так или иначе, но мы должны довести свое дело до победного конца. В своем декрете товарищ Ленин со слезами негодования призывает нас: «Вперед, вперед и вперед с помощью вооруженной силы».
Отрядники — сборная городская молодежь — коротко поддакивали и бодро шагали за Ванякиным с берданками на плечах. За ними, повыбитой корытом дороге, в притруску бежал Танёк-Пронёк и широко, деловито шагал волостной председатель Курбатов.