Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах Ледяев Валерий
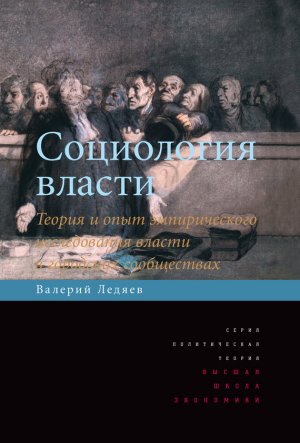
Третья задача исследования – определение наличия или отсутствия клик и степени солидарности наиболее влиятельных акторов. Это самая сложная задача, стоящая перед исследователями власти в городских сообществах; наиболее адекватным способом получения информации для ее решения Миллер считает использование открытых вопросов, которые он задавал квалифицированным информантам. В итоге во всех городах лидеры были ранжированы по уровню их знакомства друг с другом[350].
Четвертая задача – анализ институциональных связей. Миллер предположил, что институциональные связи играют особую роль в латиноамериканских городах в силу пересечения интересов церкви, военного и экономического секторов. Кроме того, он счел необходимым проанализировать паттерны семейных связей и цепочки «отцы – сыновья».
Пятая задача – определение модели власти в сообществе. На основе анализа сравнительного влияния различных институциональных секторов, уровня солидарности лидеров сообщества и характера институциональных связей Миллер определяет, какая из пяти предложенных им моделей власти наиболее соответствует структуре власти в каждом городе.
Шестая задача – выявление установок, норм и ценностей, которые влияют на принятие решений. В их числе: ценность демократии, степень консенсуса относительно общих целей развития общества, классовое самосознание, отношение к экономической и социальной системе, гражданскому участию, частной и общественной собственности и др.
Наконец, седьмая задача – характеристика социальной системы, в которой формируется структура власти в локальном сообществе. При изучении власти в четырех городах Миллер акцентировал внимание на различиях экономических, социальных и культурных оснований структур власти, обусловливающих специфику власти в каждом городе [Miller, 1970: 17–21].
Результаты исследования, изложенные Миллером в 3-15 главах книги, представлены им в два этапа. Вначале он последовательно излагает результаты сравнительного анализа структуры власти в а) Сиэтле и Бристоле и б) Кордобе и Лиме; затем делает общий сравнительный анализ всех четырех городов. Мы сразу перейдем ко второй части.
Сравнительный анализ Миллер начинает с рассмотрения институциональной структуры власти в четырех городах, в частности, с ранжирования различных институтов по степени их влияния на социальные процессы. Как показывает таблица 1, в числе пяти наиболее влиятельных институтов во всех городах обязательно присутствовали бизнес-сектор, местные власти (local government) и рабочее движение (labor).
Таблица 1
Сравнительные ранги влияния наиболее влиятельных институтов в Сиэтле, Бристоле, Кордобе и Лиме [Miller, 1970: 205]*
* Ранжирование (по убыванию) было сделано на основе использования репутационной техники.
В Сиэтле основания городского сообщества имеют глубокие корни в институте свободного предпринимательства. Сильный бизнес-сектор, оказывающий значительное влияние на структуры местной власти, это определяющий фактор городской политики, в которой приоритет отдается экономическому развитию; профсоюзы интегрированы в систему, принимая ее основные приоритеты и поддерживая стремление бизнеса избежать роста государственного вмешательства в свои дела; СМИ и партии полностью разделяют основные ценности сложившейся системы.
В Бристоле обнаружено явное доминирование публичных политических институтов. В центре структуры власти – Лейбористская партия; городской совет проводит умеренную социал-демократическую политику, развивая общественные услуги. Бизнес остается сильным актором, поскольку в экономике преобладают частные предприятия, а его лидеры занимают высокие места в социальной иерархии.
В Кордобе особую роль играет религиозный сектор: католическая церковь имеет влияние во всех институтах города и активно участвует в деятельности политических партий, образовательной политике, общественной жизни города. Другой важной политической силой являются военные, что весьма характерно для городов Латинской Америки. В целом лидеры основных секторов города – руководители местной власти, бизнеса и церкви – разделяют ценности частной собственности и видят угрозу благосостоянию общности в «коммунизме» и «перонизме».
Важная роль военных было обнаружена Миллером и в Лиме. В обеих странах военные обладали возможностью непосредственно прийти к власти в случае, если экономическая или политическая нестабильность поставит под угрозу нормальное функционирование общества; население рассматривает военных как легитимную, но преходящую силу Будучи у власти, они опираются на гражданских лиц и весьма чувствительны к требованиям восстановления представительного правления. После возвращения власти гражданскому правительству они сохраняют за собой роль «сторожевой собаки»; при этом подразумевается, что деятельность гражданской администрации должна получить одобрение военных. В последнем случае гражданские имеют широкий диапазон самостоятельности, который сохраняется при успешном выполнении ими своих функций. Однако в отличие от Кордобы, где в момент исследования правили военные, в Лиме политическая система оставалась демократической с высокой ролью политических партий в принятии важнейших решений. Именно партийные лидеры признавались самыми влиятельными в городе. Бизнес и военные стремились ограничить инфляцию и «коммунизм»; их главная цель состояла в развитии частного предпринимательства. Потенциал влияния рабочих был обусловлен их главным ресурсом – возможностью прибегнуть к забастовке; проводником их интересов была партия Американский народный революционный альянс (APRA, American Popular Revolutionary Alliance), имевшая наибольшее число место в высшем законодательном органе страны [Miller, 1970: 205–207].
Сравнивая все четыре города, Миллер приходит к выводу, что наиболее важной общей характеристикой городов является приверженность частному предпринимательству. Сохранение и развитие свободного предпринимательства способствовало развитию городов, обеспечивало рост рабочих мест с высокой оплатой труда и стимулировало увеличение доли среднего класса. Государственные предприятия оставались в меньшинстве не только вследствие экономического и политического давления со стороны могущественных групп интересов, но и в силу ряда проблем, с которыми они сталкивались во всех городах (коррупция, низкая эффективность, слабая трудовая мотивация, рост налогов и др.) и которые хорошо осознавались населением.
Во всех городах значительным потенциалом власти обладали рабочий класс и поддерживаемые им политические партии; они являлись главным противовесом экономической элите. Когда рабочие партии оказывались у власти, влияние рабочих существенно возрастало и обычно результировалось в расширении социальных услуг.
Наиболее существенная разница между городами была обусловлена различной ролью военных: если в Сиэтле и Бристоле правление военных не рассматривалось даже как эвентуальная возможность, то в Кордобе и Лиме их влияние постоянно ощущалось, а в периоды дезорганизации социальной жизни непосредственный приход военных к власти оказывался ожидаемым[351]. Другие различия между городами Миллер связывает со спецификой социальной стратификации и разными конфигурациями ресурсов акторов, в силу которых политическое влияние «по-разному фильтруется через традиционные установки и ценности» [Ibid.: 207–208].
Следующим шагом в сравнении властных отношений в четырех городах стал анализ комплекса власти (the community power complex) в каждом из городских сообществ, представляющего собой конфигурацию организаций, ассоциаций и неформальных групп, участвующих в решении тех или иных проблем. Для этого Миллером выделяются 1) наиболее влиятельные организации и 2) набор важнейших городских проблем, ставших предметом политических дискуссий.
В Сиэтле наиболее влиятельными оказались организации бизнеса и СМИ (Торговая палата, Муниципальная лига, «Боинг», Первый национальный банк Сиэтла, «Таймс Сиэтла» и др.). Практически все представители Торговой палаты и Муниципальной лиги являлись выходцами из бизнеса или независимых профессионалов; «Боинг», Первый национальный банк Сиэтла, две наиболее влиятельные газеты оказывали материальную, организационную и информационную поддержку многим проектам и активно участвовали в формировании общественного мнения, определяя, что является благом для городского сообщества. Оппозицию бизнесу составляли профсоюзы, Демократическая партия и католическая церковь – особенно в вопросах, касающихся права на труд, забастовок, налогообложения и т. п.
В Бристоле значительным политическим влиянием обладали лейбористы и организации рабочих; при этом степень их доминирования, по оценкам Миллера, была как минимум сопоставима с доминированием бизнеса в Сиэтле. Им оппонировали организации бизнеса и некоторые городские организации. Однако в целом общественно-политические организации в Бристоле играли менее важную роль в формировании общественного мнения, чем в Сиэтле, поскольку центром власти в городе был городской совет, в котором решающую роль играл партийный фактор; именно партийные организации обладали наибольшим потенциалом власти и влияния на важнейшие решения в городе.
Еще менее значимую роль играли общественно-политические организации в Кордобе. Фактически городом управлял человек, назначенный правящей военной хунтой, захватившей власть в стране в 1963 г. При этом сохранялись внешние атрибуты гражданской власти, функционировал городской совет, политические партии пропагандировали свои программы, в СМИ обсуждались текущие политические события. Однако уровень участия граждан в деятельности добровольных организаций и муниципальных органов власти был крайне низким, что существенно отличало городские сообщества аргентинских и североатлантических городов. Ответственность за решение городских проблем население связывало главным образом с деятельностью городских или провинциальных органов власти.
Характеризуя комплекс власти Кордобы, Миллер постоянно подчеркивает, что он манифестирует себя несколько иначе, чем в стабильных демократических режимах. В центре общественно-политической жизни – органы публичной власти и политические партии, в которых наибольшее влияние имеют церковь и бизнес. Однако за кадром остаются военные, которые влияют, но напрямую не вмешиваются в городские дела[352].
В отличие от Кордобы в Лиме имело место полностью гражданское (демократическое) правление. При этом комплекс власти представляли две примерно одинаковые по влиянию политические силы – Альянс и Коалиция. Альянс имел поддержку в лице католической церкви и ряда бизнес-групп, а также (негласно) военных. Коалиция опиралась на профсоюзы и партию Американский народный революционный альянс. Остальные организации могли оказывать некоторое влияние только через эти партии и государственных чиновников [Miller, 1970: 208–210].
Второй аспект комплекса власти – совокупность основных проблем и политических решений, вокруг которых выстраивается городская политика. В Сиэтле таковыми были экологические (загрязнение озера) и транспортные проблемы (строительство магистралей), а также некоторые решения в сфере услуг (строительство новой публичной библиотеки, гражданского центра, субсидирование университетского футбола). В Бристоле в центре внимания оказались вопросы управления муниципальным жильем и арендными отношениями, а также проблемы реконструкции города и обновления промышленных и торговых сооружений. В Кордобе основные городские политические проблемы унаследованы от правления Перона и времен вмешательства военных. Индустриализация и рост города обострили транспортные проблемы, а приход крупных международных концернов («Кайзер», «Фиат») привнес и дополнительные производственные конфликты и забастовки. В Лиме центральной проблемой была ликвидация трущоб, а также невысокое качество основных услуг (водоснабжение, транспорт, телефонизация, общественные рынки и др.). В целом, заключает Миллер, во всех исследуемых городах социальные проблемы были обусловлены наличием групп с невысоким уровнем дохода и быстрым ростом населения [Ibid.: 211–212].
Таблица 2
Институциональная идентичность наиболее влиятельных людей в четырех городах [Miller, 1970: 211–212]*
* Наиболее влиятельные люди были определены отобранными экспертами и оценены (признаны) ими самими. В случае, если институциональная принадлежность человека была связана с двумя и более институтами, выбиралась та институциональная принадлежность, которая наиболее адекватно соответствовала структуре ресурсов власти данного человека.
Следующий элемент сравнительного анализа – сравнение конфигураций влиятельных людей (top influentials) в четырех городских сообществах (см. табл. 2). Во всех городах наибольшее число влиятельных людей связано с бизнесом и финансами; довольно высокий процент влиятельных людей дают религиозный сектор, образование и государственное управление. В каждом из этих секторов формируются лидеры, обладающие хорошим образованием и широким спектром интересов; они часто занимают позиции, которые стимулируют их участие в политике, и у них есть для этого достаточно времени. В других секторах число влиятельных людей крайне незначительно, причем во всех городах.
Наиболее существенное различие между городами заключалось в том, что в западных городах значительно выше доля влиятельных лидеров рабочего движения, тогда как в латиноамериканских городах в число влиятельных людей попали лидеры политических партий. Миллер отмечает, что эти различия обусловлены тем, что в западных локальных сообществах ассоциации играют более значимую роль, тогда как в Латинской Америке их опорой являются структуры городского управления, что, соответственно, усиливает значимость партийного фактора. При этом многие партийные лидеры имеют существенное влияние, даже не занимая никаких постов в городских органах публичной власти. Это объяснение отчасти относится и к различной доле представителей независимых профессий: в западных странах они могут приобрести влияние, участвуя в деятельности добровольных организаций, а в Латинской Америке им необходимо обязательно быть включенными в государственные или партийные структуры [Miller, 1970: 212–213].
Что касается самых влиятельных членов городских общностей (key influentials) – лидеров среди наиболее влиятельных, то их распределение по институциональным секторам во многом совпадает с распределением «просто влиятельных» (см. табл. 3).
Таблица 3
Институциональная идентичность самых влиятельных людей в четырех городах [Miller, 1970: 215]
Миллер также приводит полный перечень позиций, занимаемых самыми влиятельными лидерами четырех городов. В Сиэтле первые пять позиций принадлежали лидерам бизнеса и финансов; в Кордобе в первой шестерке наряду с бизнесменами оказался владелец и редактор влиятельной газеты, поддерживаемой католической церковью. В других городах бизнес не имел такого преимущества над другими секторами в плане рекрутирования самых влиятельных лидеров: в Бристоле самыми влиятельными оказались лидер Лейбористской партии и Президент университета, а бизнесмены заняли 3, 5 и 8-е места. В Лиме бизнесменов не оказалось даже в первой десятке, а первые места заняли лидеры партий (1, 2, 5, 10 и 13-е места) и владельцы газет (3 и 6-е места) [Ibid.: 214].
Данные исследования показывают, что возможности рабочих выдвигать из своей среды самых влиятельных лидеров оказались значительно ниже их возможностей выдвигать «просто влиятельных», а большинство секторов практически не имеют реальных возможностей участвовать в формировании топ-лидеров городского сообщества11. Некоторое исключение составляет сектор образования, который дает немало лидеров, но сам по себе, как уже отмечалось ранее, имеет невысокий рейтинг влияния. Миллер объясняет этот парадокс тем, что лидеры образования могут представлять различные сектора и выступать посредниками между ними; при этом многие из них идентифицируют себя и с политической партией, и с органом публичной власти, что дает им дополнительные ресурсы влияния, особенно в Латинской Америке [Miller, 1970: 216].
Итогом изучения структуры власти в четырех городах стал анализ взаимоотношений между ее различными компонентами. Данные исследования подтвердили гипотезу о том, что все пять компонентов структуры власти тесно взаимосвязаны. Миллер обнаружил высокую степень корреляции при сопоставлении уровня влияния 13 институциональных секторов четырех стран с уровнем влияния данных секторов соответствующих городов – 0,87 (Сиэтл), 0,9 (Бристоль), 0,84 (Кордоба), 0,93 (Лима)[353] [354]. Высокий уровень связи был зафиксирован и между властными комплексами (конфигурациями наиболее влиятельных организаций) и наиболее влиятельными секторами городских сообществ: подавляющее большинство наиболее влиятельных организаций (в Сиэтле – 100 %, в Бристоле – 80 %, в Лиме – 90 %, в Кордобе – 60 %) относились к пяти наиболее влиятельным городским институтам [Miller, 1970: 217][355]. Данные исследования подтвердили и наличие связи между институциональной структурой городского сообщества и конфигурацией наиболее влиятельных людей в каждом городе: большинство их сосредоточилось в пяти институциональных секторах – бизнесе, государственном управлении, рабочем движении, СМИ, образовании[356]. Самые влиятельные лидеры города обычно представляют ведущие институциональные сектора данного сообщества[357], однако в некоторых влиятельных секторах топ-лидеров нет вообще[358].
Одной из важнейших задач исследования было выявление модели власти в каждом городе. Миллер приходит к выводу, что во всех четырех городах имеет место конусная (кольцевая) структура власти. Он считает, что распространение данной модели является естественным следствием развития современного общества, результатом растущей гетерогенности интересов в экономическом секторе, появления новых влиятельных акторов, расширения разнообразия и степени автономии групп интересов во всех секторах, возрастания роли специализации и профессионализации. Хотя экономический сектор остается очень влиятельным, он уже не обладает монопольным контролем над городской политикой. Мощным противовесом бизнесу выступают независимые партийные и рабочие организации. Вопреки распространенному стереотипу, военные не были «подручными» олигархии, а нередко занимали довольно жесткую позицию по отношению к бизнесу и ограничивали возможности его влияния. Военные в Перу и Аргентине развивали свои
социальные организации и независимые структуры влияния, действуя аналогично другим организациям, защищающим свои (корпоративные) интересы[359]. Сегментированный характер имело и влияние религиозного сектора; даже в Кордобе, где данный сектор был в числе самых влиятельных, общественно-политическая активность и влияние церкви касались в основном ограниченного набора проблем (контроль за рождаемостью, религиозные праздники и др.) [Ibid.: 224]. Таким образом, не только в западных, но и в латиноамериканских городах структура власти в целом соответствовала конусной модели: несмотря на сильное влияние военных и католической церкви, политическая арена оставалась достаточно свободной для участия различных акторов (партии, организации бизнеса, образования, представители государственного управления и др.), а структура лидерства – фрагментарной.
Как складывается и функционирует конусная модель власти? Хотя в каждом городе сложное взаимодействие топ-лидеров, влиятельных акторов, организаций и институтов обусловливает различные паттерны принятия решений, в структуре власти всех городов есть ряд общих моментов. Во-первых, особую роль играют топ-лидеры, на которых ориентируются остальные акторы при решении важнейших проблем[360]. Во-вторых, имеется определенный набор организаций и институтов, участвующих в инициации и реализации решений[361]. В-третьих, значительная группа влиятельных людей и лидеров второго уровня осуществляют поддержку инициатив топ-лидеров и активно участвуют в различных сферах городской жизни. Все это в единстве и образует конус, верхнюю часть которого образуют топ-лидеры (см. рис. 2).
Рис. 2. Кольцевая, или конусная, модель [Miller, 1970: 16]
Изменения в институциональной принадлежности лидеров и в конфигурации наиболее влиятельных организаций могут произойти лишь в случае, если изменится институциональная структура власти в сообществе (распределение власти и влияния между его различными институциональными секторами); последняя, в свою очередь, зависит от институциональной структуры общества. Поэтому можно говорить о наличии определенных закономерностей в развитии власти на городском уровне [Miller, 1970: 223–225].
Наиболее важным фактором, определяющим характер и специфику структуры власти в городских сообществах, является социальная стратификация, которая, как уже отмечалось ранее, определяет сравнительные возможности разных классов и социальных групп, их электоральный потенциал, ресурсы политического влияния, систему ценностей, основания партийно-политического кливиджа, состав различных организаций общности и др. Рассмотрение властных отношений во взаимосвязи с основными социальными расколами дает возможность Миллеру вписать их в общий контекст функционирования общественно-политической жизни города, в которой осуществляется сложное взаимодействие экономических, политико-государственных и социальных факторов с властной структурой.
Рис. 3. Распределение высшего, среднего и низшего классов в четырех городах [Miller, 1970: 226]
Важнейшим индикатором социальной стратификации для Миллера является соотношение долей высшего, среднего и низшего классов (см. рис. 3). Если во всех городах высший класс составляет очень незначительную часть населения, то пропорции среднего и низшего класса существенно различаются. В Сиэтле имела место высокая доля среднего класса и относительно невысокая (в сравнении с другими городами) доля низшего класса. В Лиме ситуация прямо противоположная, а показатели Бристоля и Кордобы оказались где-то посередине. Миллер подчеркивает, что именно средний класс обеспечивает основную поддержку центристской или левоцентристской политике при одновременном уважении к демократическим институтам, в то же время левая политика опирается на низший класс и отражается в требованиях земельной и налоговой реформ, национализации, повышения роли профсоюзов и т. п. или в призывах к революции. В целом же «паттерны стратификации дают ключ к объяснению многих политических и экономических движений и природы социального контроля, осуществляемого для поддержания закона и порядка» [Ibid.: 225].
В Сиэтле сложилась «цивилизация бизнеса»: у каждого жителя города есть неплохие шансы стать собственником и иметь хорошую работу, много «белых воротничков», большинство населения разделяет ценности индивидуальной инициативы и предпринимательства. В Бристоле все категории населения, за исключением самых богатых, беднее соответствующих групп населения в Сиэтле, а распространение социал-демократической идеологии, популярность Лейбористской партии, политика национализации многих коммунальных услуг во многом явились следствием «стратификационного давления». Особая роль Лейбористской партии и ее влияние на городскую политику обусловлены наличием более многочисленного (по сравнению с Сиэтлом) низшего класса и меньшей обеспеченностью среднего класса. В Кордобе доля среднего класса еще ниже, а давление снизу – более артикулированное. Стремление к «сильной руке» было характерно для многих представителей рабочего класса, желавших возвращения Перона; марксистская идеология имела многочисленных сторонников, в политической борьбе четко прослеживалось стремление определенных групп расширить контроль над собственниками. В Лиме давление бедности на государство в период исследования постоянно усиливалось. Национализация промышленности, рост государственных услуг, возрастание влияния профсоюзов, левый терроризм – эти и другие тенденции были обусловлены высоким уровнем стратификационного неравенства в городе. Политические партии и институты государственного управления представляли собой центр власти до тех пор, пока им удавалось поддерживать порядок; если им это не удавалось, то вмешивались военные [Miller, 1970: 226–227].
Целый ряд выводов Миллера заслуживает специального рассмотрения, особенно в контексте изучения власти в российских городах и регионах. В их числе важнейшими, на наш взгляд, являются 1) характер и механизмы политического влияния военных и церкви и 2) наличие/ отсутствие «клик» в процессе принятия политических решений, уровень и характер взаимодействия различных акторов городской политики.
Ранее уже отмечалось, что наиболее существенные различия между городами были обусловлены различной ролью военных. Это вполне естественно: первым в числе факторов, обусловливающих специфику власти в Кордобе и в Аргентине в целом, Миллер назвал именно сильную «аварийную» (emergency) власть военных [Ibid.: 124–125]. Военные часто непосредственно брали власть в свои руки, но и в тех случаях, когда у власти была гражданская администрация, роль военных, по свидетельству практически всех экспертов, всегда была высокой. Однако традиционные способы измерения влияния определенных групп с помощью учета их доли среди наиболее влиятельных лидеров города, а также анализа роли политических и гражданских организаций, представляющих данную группу в городской политической системе, оказывались не вполне показательными. В данном исследовании Миллер продемонстрировал наличие разрыва между степенью влияния отдельных институциональных секторов, в том числе военного, и их представленностью во властном комплексе (конфигурации наиболее влиятельных организаций города) и лидерском корпусе городского сообщества. В частности, в Кордобе среди 37 влиятельных людей города оказалось всего двое военных, а в числе самых влиятельных их не оказалось вовсе [Ibid.: 120–121]. В Лиме в числе 33 влиятельных людей города был указан всего один военный; среди самых влиятельных военных также не оказалось [Ibid.: 154–157]; во властном комплексе Кордобы и Лимы отсутствовали организации, представляющие интересы военных [Ibid.: 119, 161]. Аналогичная ситуация имела место и в религиозном секторе Кордобы[362], и в рабочем движении обоих городов.
Данный разрыв обусловлен в основном двумя факторами. Во-первых, косвенным образом сказывался сравнительно невысокий уровень участия граждан в деятельности добровольных организаций и, соответственно, их слабые возможности влияния на принятие важнейших политических решений. Во-вторых, институциональные особенности указанных секторов не способствуют формированию сильного персонализированного лидерства; их значительный потенциал влияния поддерживается мощными коллективными ресурсами даже при отсутствии сильных лидеров. «Рабочие, военные и католическая церковь чтут установленные институты и рассматривают их потребности как более важные, чем потребности индивидуальных лидеров»; «коллективные структуры иногда осуществляют влияние в своей институциональной форме без помощи со стороны ассоциаций и признанных лидеров сообщества» [Ibid.: 162; 223]. Вместо создания организаций для участия в решении конкретных проблем и инициации проектов эти сектора «используют свою коллективную власть в своих интересах: рабочие – забастовку, военные – силу или угрозу использования силы, католическая церковь – моральное убеждение и санкции» [Ibid.: 162]. Кроме того, они могут влиять через другие организации и институты: рабочие – через политические партии, военные поддерживают и (или) оказывают давление на правительство, церковь действует через государственные организации, свои школы и другие структуры влияния. При этом и военные, и религиозные лидеры часто предпочитают не афишировать свою деятельность: «…в Лиме военные представляют собой “практически обезличенный институт”; поэтому даже многие влиятельные информанты не знают, кто будет командовать в городе в случае прихода к власти военной хунты» [Miller, 1970: 162]. В Кордобе влияние церкви осуществляется в основном через низовых лидеров, предпочитающих действовать по свои каналам [Ibid.: 123], а сила рабочих – в организации и возможности прибегнуть к забастовке[363].
Наличие разрыва между влиянием того или иного сектора и его представленностью в конфигурации лидеров и влиятельных организаций города полностью подтверждает правомерность изучения структуры власти не только через анализ персонального состава наиболее влиятельных людей и организаций и их участия в принятии решений, но и требует учета иных факторов, в частности, потенциала влияния сектора, его коллективных ресурсов, институциональных возможностей и т. п. [Ibid.: 123][364].
Стремление выявить наличие или отсутствие «клик» в процессе принятия политических решений и в целом характер и степень взаимодействия различных акторов городской политики было присуще практически всем исследователям власти в городских сообществах, поскольку именно вокруг данной проблемы разворачивались дискуссии между плюралистическими и элитистскими интерпретациями власти. У Миллера проблема также оказалась в центре внимания; при этом наиболее обстоятельно была изучена ситуация в Лиме, описанию которой он посвятил отдельную главу [Ibid.: 177–203].
Изначальная гипотеза Миллера состояла в том, что влиятельные политические лидеры, лидеры бизнеса, религиозного и военного секторов действуют вместе как единая солидарная группа при принятии наиболее важных решений. Эта гипотеза опиралась на распространенное среди исследователей мнение о том, что в Перу доминирует олигархия [Ibid.: 178–179]. Идеальным методом тестирования данной гипотезы Миллер считает наблюдение за процессом принятия решений. Но поскольку многие решения принимаются частным образом и не обязательно все участники находятся в одном месте (возможен вариант участия по телефону или через письменное уведомление), исследователю приходится полагаться на массу косвенных свидетельств[365].
Однако результаты исследования показали, что структура взаимодействия лидеров в значительной степени фрагментарна; поэтому гипотеза о том, что лидеры военного, государственного, религиозного и бизнес-секторов образуют единую группу («клику»), Миллером была отвергнута [Ibid.: 202]. Во-первых, частота контактов между лидерами оказалась сравнительно низкой. Наиболее влиятельные бизнес-лидеры города довольно плохо знали политических лидеров и, по сути, только слышали о лидерах из других секторов [Ibid.: 181]. Во-вторых, оценивая основания власти лидеров, Миллер пришел к выводу, что «экономическая власть и политическое влияние не находятся в одних и тех же руках» [Ibid.: 190]. Данные исследования свидетельствуют о том, что «экономическая и политическая власть не являются тесно взаимосвязанными в качестве оснований власти политических лидеров»: политические лидеры не черпают свое влияние из экономических источников; среди них не было богатых людей, и им приходилось использовать в основном свои политические ресурсы, лидерские качества и (кроме двух партийных функционеров) государственные должности [Ibid.: 186]. По сравнению с политическими лидерами власть лидеров банковского сектора оказалась «более сбалансированной», и ее основу обеспечивали «сравнительно высокие показатели экономической власти, политического влияния и социального престижа» [Ibid.: 183]. Таким образом, власть лидеров городского сообщества поддерживалась институциональными ресурсами, связанными с их профессиональной деятельностью: политические лидеры опирались на руководящие позиции в партии, банкиры и бизнесмены – на свое место экономической структуре, служители церкви – на свое положение в церковной иерархии и т. д.[366]
В-третьих, исследование не подтвердило наличия стабильного совместного участия всех основных акторов городской политики в принятии решений. Определенный минимум коллективного действия имел место, у лидеров были площадки для формальных и неформальных контактов, но в целом экономическая и политическая власть осуществлялись по разным каналам. Церковь участвовала в принятии решений только по определенным проблемам, где затрагивались ее интересы (контроль за рождаемостью, собственность церкви и др.); военные оставались, как правило, инертными за исключением ситуаций, связанных с коммунистической угрозой, растущей инфляцией или возможностью сокращения военных расходов. Опрашивая наиболее влиятельных людей Лимы о том, действительно ли лидеры города действуют вместе при принятии решений, Миллер получил 9 отрицательных ответов и 12 положительных ответов с такими оговорками[367], которые не позволяют считать группу лидеров «кликой».
Разумеется, критики указали на целый ряд проблем в исследовании Миллера. Дж. Уолтон справедливо посчитал, что Миллеру не удалось представить четкой концептуальной схемы своего исследования. В частности, Миллер предложил классификацию «десяти взаимоисключающих форм власти, которые легко различимы» (экономическая власть, политическое влияние, государственный авторитет, моральное и религиозное убеждение, социальный престиж, средства коммуникации, специализированные знания и умения, военная поддержка и др.), но никак не прокомментировал ее. Поэтому у читателя остались серьезные сомнения в том, что эти формы власти не пересекаются. Далее Миллер выделил три смежных уровня власти – позиционный, репутационный и проблемно-решенческий, но не прояснил их связи и соотношения с вышеуказанными формами власти. Таким образом, «книга начинается с концептуальной путаницы, которая негативно сказалась на четкости полученных результатов» [Walton, 1971: 1141–1142][368].
Другое существенное замечание заключалось в том, что Миллеру не удалось выдержать одинаковые стандарты процедуры исследования во всех четырех изучаемых городах [Walton, 1971: 1142–1143; Daland, 1971: 1252–1253]. Действительно, дизайн исследования был разный в разных городах, хотя имело место очевидное сходство в изучении Сиэтла и Бристоля, а также Кордобы и Лимы. Хотя во всех городах выделялись наиболее влиятельные акторы и институты и описывались отношения между ними, процедуры их выявления заметно различались в том, как составлялся конечный список наиболее влиятельных лиц и выбиралась панель экспертов, сколько людей интервьюировалось, какие вопросы им задавались и др.
Недостатком исследования Миллера следует считать и отсутствие достаточного внимания к изучению отдельных проблем городской политики и участия в их решении различных акторов. В книге, разумеется, упоминаются проекты, по которым велись политические дискуссии. Однако выводы Миллера в основном опирались на мнения людей об этих проектах, а не на наблюдения за конкретными событиями или их реконструкцию.
Наконец, не все аналитики убеждены, что результаты исследования не были предопределены самим методом. Если исследование начинается с выявления сравнительного влияния различных секторов, то «не будет ничего удивительного в том, что обнаруженная структура власти окажется конусной. Если бы Миллер изучал Атланту, то смог бы он обнаружить «стратифицированную пирамидальную структуру власти, как Хантер? Скорее всего, нет», считает Р. Даланд [Daland, 1971: 1253]. С этим суждением, по-видимому, следует согласиться и признать, что акцент на секторах может способствовать более «плюралистическим» интерпретациям власти, поскольку вряд ли в современном (демократическом) обществе можно найти город с явной концентрацией влияния в одном секторе.
Есть и другие претензии к Миллеру[369]. Однако в целом исследование Миллера получило широкое признание научной общественности, которая квалифицировала его как первую и в целом весьма успешную попытку сравнительного изучения власти в городских сообществах на международном уровне. Многие идеи Миллера – о роли институциональных секторов в структуре власти, специфике влияния отдельных акторов и институтов, возможностях комплексного использования методов выявления субъектов власти и влияния и др. – бесспорно способствовали совершенствованию методологии изучения власти и получили развитие в дальнейших эмпирических исследованиях.
XIV. Сравнительные исследования власти Джона Уолтона и Терри Кларка
Исследование Джона Уолтона стало первой серьезной попыткой обобщить результаты большого количества уже проведенных исследований в различных локальных сообществах; до него сравнительный анализ ограничивался несколькими городами и не мог претендовать на серьезные генерализации [Walton, 1966: 430–438; 1970:443–464]*. Поскольку проведение обстоятельных исследований одновременно в большом количестве городов практически не представлялось возможным даже в США в силу того, что подобные исследования потребовали бы гигантских финансовых затрат и очень большого количества участников[370] [371], Уолтон поставил более реальную задачу: изучить основной пласт уже имеющейся эмпирической литературы и выяснить, какого рода обобщения могут быть сделаны относительно методологических и содержательных факторов, определяющих характер структуры власти. Он полагал, что это позволит выработать основные направления и схемы сравнительного анализа власти в городских сообществах.
К моменту исследования ситуация в данной отрасли политической социологии характеризовалась тем, что единство между исследователями было достигнуто только в понимании важности изучения власти в локальных сообществах, а объяснения распределения власти и их интерпретации существенно различались. Основные линии размежевания формировались в жесткой полемике между «плюралистами» и «элитистами», которые были обусловлены идеологическими предпочтениями, концептуальными разногласиями и различиями в используемых методах исследования. Анализируя данные эмпирических исследований, Уолтон стремился, во-первых, систематизировать факторы, обусловливающие различия их результатов, и, во-вторых, определить эвристический потенциал уже имеющейся литературы и возможности обобщения знания о структуре власти в различных городах [Walton, 1970: 443].
Предметом анализа Уолтона стали результаты 39 исследований в 61 городе (в изначальной статье – 33 исследования в 55 городах)[372], опубликованные в академических изданиях[373]. Поскольку все они посвящены структуре власти, то единственной зависимой переменной стал «тип властной структуры». Кроме того, на основе анализа имеющейся в его распоряжении литературы он выделил 21 независимую переменную, по которым имелось достаточное количество информации. Для объяснения специфики структуры власти Уолтон использовал классификацию, включающую четыре ее базовых типа: 1) пирамидальномонолитный (наличие единственной связанной группы лидеров); 2) фракционный (имеют место по крайней мере две постоянные фракции); 3) коалиционный (неустойчивые коалиции групп интересов, обычно меняющиеся от проблемы к проблеме) и 4) аморфный (отсутствие какого-либо стабильного паттерна лидерства)[374]. Независимые переменные отражают важнейшие территориально-демографические, экономические и политико-институциональные характеристики городов, а также институциональную принадлежность исследователей и используемые ими методы выявления структуры власти. Территориально-демографические переменные-, регион, размер и рост населения, состав населения (гомогенный – гетерогенный), уровень его интеграции (интегрированное – разделенное), тип города (независимый – сателлит). Социально-экономические переменные: уровень индустриализации, наличие – отсутствие существенных экономических ресурсов, экономическая основа (диверсифицированная – узкоспециализированная), наличие – отсутствие значительной доли экономического потенциала, принадлежащего нечленам данного сообщества (absentee ownership). Институционально-политические переменные: тип местного самоуправления (мэр – городские менеджеры – городской совет), уровень партийного соревнования, сфера влияния (публичная – частная), численность группы лидеров, пропорция бизнесменов и представителей публичных органов власти в группе лидеров. Теоретико-методологические: используемая концепция власти, метод выявления субъектов власти, дисциплинарная принадлежность исследователя (социолог – политолог). В соответствии с наличием 21 независимой переменной было высказана 21 гипотеза относительно влияния соответствующих факторов на структуру власти в сообществе, которые Уолтон разбил на две группы: методологические и содержательные.
Основные гипотезы методологического порядка можно суммировать следующим образом:
Обнаружение пирамидальной структуры власти более свойственно социологам, исследователям, использующим репутационный метод, концептуализирующим власть как контроль и доминирование и фокусирующимся на частных проблемах. Соответственно, политологи, исследователи, использующие решенческий метод, определяющие власть как влияние и фокусирующиеся на публичных проблемах, более склонны обнаруживать фракционную или коалиционную структуру власти.
Гипотезы содержательного порядка:
Менее концентрированные структуры власти возникают в более крупных и промышленно развитых городах, со значительными экономическими ресурсами и высокой долей экономического потенциала, принадлежащего нечленам данного сообщества, с быстро растущим социально интегрированным гетерогенным населением, в которых наблюдается высокий уровень партийной конкуренции, а система местного самоуправления не предусматривает ключевую роль городских менеджеров. Изменения в структуре власти имеют место, и они действуют в направлении большей дисперсии власти и, соответственно, ее меньшей концентрации. В каждом случае Уолтон ссылается на выводы, сделанные на основе результатов отдельных исследований [Walton, 1970: 444–445,455].
Какие гипотезы подтвердились, а какие нет?
Гипотезы методологического порядка в целом подтвердились. В частности, подтвердилось предположение о зависимости результатов исследования от избранного метода. По мнению Уолтона, репутационный метод действительно имеет тенденцию значительно чаще обнаруживать пирамидальную элитистскую структуру власти, чем другие [Ibid.: 452][375]. Также подтвердились и гипотезы, касающиеся зависимости результатов исследования от концептуализации власти и фокуса в выборе проблемных сфер для выявления ее субъектов. Исследования, в которых изучение власти находилось в основном в сфере публично обсуждаемых проблем, как правило, обнаруживали плюралистическую (фракционную или аморфную) структуру власти. При этом данные, на мой взгляд, оказались более убедительным, чем в отношении предыдущей гипотезы: если исследователи фокусировались только на публичных или частных проблемах, то они обнаруживали, соответственно, плюралистическую (11 случаев против 0) или элитистскую (5 случаев против 0) картину властных отношений; при равномерном внимании публичным и частным проблемам результаты исследования оказывались сравнительно сопоставимыми (11 случаев элитизма и 17 случаев плюрализма).
Несколько менее очевидным представляется подтверждение гипотезы о том, что использование концепции власти как контроля (доминирования) способствует обнаружению пирамидальной структуры власти, тогда как определение власти как влияния коррелирует с плюралистическими моделями власти: применение первого подхода привело к обнаружению 10 случаев пирамидальной структуры власти и 11 случаев коалиционной или аморфной структуры власти; при втором подходе разница более заметна: 1 случай пирамидальной структуры власти и 7 случаев плюралистической. Наконец, поскольку выбор концепции власти, фокуса исследования и метода определения наиболее влиятельных акторов в 1950-1960-х годах был во многом обусловлен профессиональной (дисциплинарной) принадлежностью исследователя, вполне закономерно, что политологи чаще обнаруживали фракционную или аморфную структуры власти, чем социологи. Но и в этом случае жесткой зависимости не наблюдалось: если политологи зафиксировали только 8 случаев пирамидальной структуры власти из 30, то социологи даже чаще выявляли плюралистическую структуру власти, чем пирамидальную (16 случаев против 15) [Walton, 1970: 446, 452].
Эмпирическая проверка гипотез содержательного порядка дала большую вариативность результатов. Не подтвердились гипотезы о том, что структура власти существенно зависит от пропорции бизнесменов и (или) политических лидеров в группе лидеров: и пирамидальная, и плюралистическая структуры власти возникали и при лидерстве политиков, и при доминировании бизнес-элиты. Численность группы лидеров весьма незначительно сказалась на структуре власти, хотя пирамидальные структуры власти несколько чаще возникали в сообществах с небольшим количеством лидеров. Размер городского сообщества существенно не влияет на структуру власти, а гипотеза о том, что рост населения положительно коррелирует с плюралистической структурой власти, не только не подтвердилась, но и было обнаружено, что в городах с быстрорастущим населением чаще возникает пирамидальная структура власти. Не получили подтверждение и гипотезы о том, что менее централизованные системы возникают в интегрированных сообществах с гетерогенным населением [Ibid.: 446–448, 453][376], а также о влиянии региональных различий[377], индустриализации и экономического потенциала. Из экономических показателей существенным фактором стала значительная доля собственности, принадлежащая лицам, не проживающим в данном сообществе, наличие которой ассоциируется с менее концентрированной структурой власти. Уолтон подчеркнул, что данная зависимость неожиданно оказалась очень сильной: только в двух случаях имели место пирамидальные структуры власти, тогда как в 18 случаях были обнаружены плюралистические паттерны власти [Ibid.: 449–450, 452].
Что касается гипотез о влиянии институционально-политических факторов на структуру власти, то они подтвердились наполовину. Роль фактора партийного соревнования оказалась очень значимой: чем больше соревнования между партийными организациями, тем менее концентрированной оказывается структура власти. Ни в одном городе с сильной партийной конкуренцией не было обнаружено пирамидальной структуры власти. В то же время форма организации местного самоуправления оказалась несущественным фактором; предполагавшаяся позитивная корреляция между менеджерской формой организации местной власти и пирамидальной структурой власти не только не подтвердилась, но и оказалось, что в этом случае чаще возникает плюралистическая структура [Ibid.: 449–448,452-453].
Наконец, подтвердилось предположение о том, что городские сообщества развиваются в направлении большей дисперсии власти.
Прежде чем интерпретировать полученные результаты, Уолтон высказывает предположение, что «некоторые результаты могли стать следствием системных дисциплинарных или методологических предвзятостей (biases)» [Ibid.: 450]. Поскольку данные исследователя ясно продемонстрировали связь между обнаруживаемым типом структуры власти и методом исследования, Уолтон попытался выяснить, в какой степени результаты обусловлены влиянием самого метода, пересматривая результаты выявленных зависимостей, контролируя фактор метода исследования с помощью многомерной техники. Если статистически значимые отношения воспроизводятся и в условиях контроля фактора метода исследования, то данное отношение можно считать валидным; если же в последнем случае данные не подтверждаются, то можно заключить, что на независимую переменную изначально повлиял фактор метода или дисциплинарной принадлежности исследователя [Walton, 1970: 452–453]. В числе факторов, которые не получили подтверждение в ходе данной проверки, – тип города, регион, экономические ресурсы, форма местного самоуправления и др.
Таким образом, если результаты исследования Уолтона разделить на две группы – результаты влияния методологии и содержательные результаты, то оказывается, что первая группа перевешивает вторую и многие гипотезы содержательного порядка не подтверждаются. Исходя из этого Уолтон делает достаточно пессимистический вывод о том, что состояние исследований в данной области «не позволяет делать каких-либо окончательных генерализаций в отношении распределения власти в локальных сообществах» [Ibid.: 453]. Но это, по его мнению, не означает, что изученная им литература, как и его собственный анализ, не имеют смысла: результаты исследования, в том числе и неподтверждение гипотез, позволяют сделать ряд предложений и рекомендаций для будущих исследований власти[378].
Главная рекомендация Уолтона, которая впоследствии неоднократно воспроизводилась многими аналитиками и уже была отмечена нами ранее, состоит в том, что в исследованиях необходимо одновременно использовать различные методы, а сами исследователи должны хорошо понимать, что их дисциплинарная принадлежность может сказаться на результатах исследований. Другие рекомендации Уолтона касаются необходимости продолжения исследования роли таких факторов, как доля экономического потенциала лиц, проживающих за пределами города, и уровень партийной конкуренции, значимость которых была полностью подтверждена его собственным анализом. Уолтон также обратил внимание на важность более систематического изучения динамических (временных) параметров структуры власти, а также взаимосвязи местных публичных структур с государственными институтами более высокого порядка, на что впоследствии также постоянно указывалось в научной литературе. В то же время Уолтон высказал серьезные сомнения в возможности построения надежных генерализаций, связанных с экономическими и демографическими факторами [Walton, 1970: 453–454].
Исследование Терри Кларка интересно тем, что в нем была предпринята попытка выявить структуру власти в разных сообществах и влияние на нее различных факторов по единой методике [Clark, 1968b: 576–593]. Исследование было проведено в 22 штатах США, в 51 городе, различавшихся по своим размерам (от 50 тыс. до 750 тыс. человек), по уровню доходов населения, образованию, институциональной структуре публичной власти, активности гражданских организаций и др. При этом в выборку не включались крупные города, обладающие какими-то уникальными характеристиками. В исследовании участвовали работники Национального центра исследования общественного мнения при Чикагском университете[379]. Использовались как данные официальной статистики, так и материалы, полученные в ходе интервью. В каждом городе было опрошено по 11 человек, которые не всегда были наиболее активными участниками, но обязательно были знающими информаторами. В их число входили: мэр, руководители городских отделений Демократической и Республиканской партий, президент наиболее крупного банка, главный редактор газеты, имеющей наибольший тираж, президент Торговой палаты, президент ассоциации адвокатов, руководитель крупнейшего профсоюза, руководитель департамента здравоохранения, директор программы обновления города и директор фонда поддержки госпиталя [Ibid.: 579].
Информация группировалась вокруг четырех тем: обновление города, выборы мэра, загрязнение воздуха и программа борьбы с бедностью. Их выбор был обусловлен тем, что в данных сферах жизнедеятельности города участвовали разные конфигурации акторов, между которыми возникали разнообразные отношения[380]. Непосредственная цель исследования – выявить структуру принятия решений в локальных сообществах путем сравнения паттернов влияния в четырех различных сферах городской политики[381].
Для этого Кларк использует «эрзац-решенческий метод». Суть его состоит в том, что выясняется количество основных акторов в каждой из четырех сфер принятия решений и степень их пересечения. При этом принимается во внимание их роль на пяти различных стадиях процесса принятия решений на основе информации, полученной по следующему кругу вопросов:
1. Кто инициировал действия по данной проблеме?
2. Кто поддерживал эти действия?
3. Кто этому противодействовал?
4. Как протекал процесс торга, кто с кем договаривался?
5. Каков был результат, чья позиция в итоге победила?
Накладывая классификацию проблемных сфер на классификацию стадий процесса принятия решений, Кларк получает состоящую 20 ячеек матрицу и на основе соответствующих данных выводит индекс централизации для каждого изучаемого города.
Как и в ряде других работ, в основе индекса централизации оказываются два важнейших измерения принятия решений – участие (чем больше количество акторов, участвующих в принятии решений, тем выше степень децентрализации структуры принятия решений, и наоборот) и пересечение (чем меньше совпадают кластеры акторов в разных сферах принятия решений, тем выше уровень децентрализации). Индекс централизации представляет собой результат деления общего количества акторов, участвующих в решениях в разных сферах, на число сфер принятия решений в сообществе[383]. Применив данную процедуру ко всем изучаемым сообществам (51 город), Кларк получил показатели централизации в диапазоне от 3,25 до 9,38 [Clark, 1968b: 580].
Кларк приводит следующий пример, проясняющий суть процедуры. Типичная ситуация, описываемая исследователями как высоко централизованная или монолитная структура: решение инициируется мэром и поддерживается городским бизнесом, в оппозиции профсоюзы и местная газета; превалирует коалиция мэра и бизнеса. Общее количество акторов в данной сфере принятия решений – 4. Если эти четыре актора играют аналогичные роли в других трех проблемных сферах, то в этом случае общее количество акторов остается 4, которое делится на число сфер принятия решений. Получается, что в данном городе показатель централизации будет 1, и он окажется внизу шкалы децентрализации. Другой пример: в каждой из проблемных сфер городской политики в принятии решения участвует 5 разных конфигураций акторов. Общее число акторов получается 20 и при делении на 4 проблемные сферы уровень централизации оказывается равным 5 [Ibid.: 580].
Естественные трудности возникли при учете динамики процесса принятия решений. Как соотнести различные стадии принятия решений? Можно ли считать, что инициация решения более существенна, чем его поддержка, а наличие многочисленной и влиятельной оппозиции подразумевает более децентрализованную систему принятия решений? Кларк в целом склонен утвердительно ответить на эти вопросы. Однако он не решается дифференцировать вес участия на разных этапах принятия решений в силу отсутствия более-менее строгой теории, обосновывающей соотношение значимости стадий принятия решений [Ibid.].
Результаты исследования Кларк анализирует в контексте тестирования основных пропозиций, сформулированных им ранее [Clark, 1968d: 91-126]. Основное внимание было уделено тем переменным, которые составляли эти теоретические пропозиции. В силу высокой корреляции переменных между собой была проведена серия процедур фактеризации кластеров переменных и из каждого кластера взяли одну или две наиболее значимые переменные. Далее с помощью регрессионного анализа число переменных было еще более сокращено. В итоге осталось восемь независимых переменных, влияющих на структуру принятия решений (многомерный коэффициент корреляции от 0,705 до 0,840) и две переменные, влияющие на результаты политического процесса. В их числе оказались численность населения, уровень бедности (доля населения с доходом менее 3 тыс. долл.)[384], производственная активность (доля предприятий, на которых работало более 20 человек), экономическая диверсификация (диверсифицированные – недиверсифицированные), доля высокообразованного населения (медиана числа лет, затраченных на учебу), доля католиков в структуре городского населения, активность добровольных гражданских организаций (в основе лежали данные по доле членов в Лиге женщин-избирателей в каждом городе), индекс реформирования системы городского управления[385], расходы бюджета (общая величина расходов местных властей на душу населения) и траты на программы обновления города (сумма, выделяемая из местного и федерального бюджетов на обновление города на душу населения). В результате была получена первичная матрица корреляции этих двенадцати переменных [Clark, 1968b: 582–583].
В целях тестирования пропозиций и оценки сравнительной значимости каждой переменной Кларк описывает отношения между переменными с помощью путевого анализа[386]. В рамках данного анализа он рассматривает 6 переменных, относящихся к демографическому составу и экономической базе городского сообщества (численность населения, уровень бедности, производственная активность, экономическая диверсификация, уровень образования и процент католиков), как константы и последовательно рассматривает влияние этих независимых переменных на 5 зависимых переменных, т. е. на уровень активности добровольных гражданских организаций, форму городского управления, структуру принятия решений, общие расходы бюджета и траты на программы обновления города.
Наиболее значимыми в контексте сравнительных исследований представляются данные о структуре принятия решений, причинах и факторах, ее обусловливающих, а также о ее влиянии на эффективность управления в городе (см. табл. 1).
Таблица 1
Корреляция и путевые коэффициенты для зависимой переменной: децентрализованная структура принятия решений (Y) [Clark, 1968b: 585]
* Нестандартизированные коэффициенты регрессии; в скобках – стандартная ошибка.
В целом результаты исследования подтвердили основную общую пропозицию Кларка, описанную и обоснованную им в ряде работ: чем больше горизонтальная и вертикальная дифференциация в социальной системе, тем сильнее дифференциация между потенциальными элитами, и тем более децентрализованной является структура принятия решений, которая без установления интегративных механизмов приводит к менее координированным отношениям между секторами и более низкому уровню результатов управления [Clark, 1968d: 92; 1968b: 581–582, 591]. Данная общая формула складывается из нескольких составляющих, которые также были представлены в виде отдельных пропозиций и протестированы. Горизонтальная дифференциация основных структур городского сообщества выражается у Кларка в показателях экономической диверсификации и индексе реформирования системы управления, а также ассоциируется с численностью населения. Дифференциация между элитами, хотя и не была замерена непосредственно, получила отражение в показателях активности добровольных гражданских организаций, которая характеризует степень развития потенциальных элитных групп за пределами партийных и бюрократических структур; эти потенциальные элитные группы в определенный момент могут быть активно вовлечены в процесс принятия политических решений [Clark, 1968b: 591].
Все указанные выше переменные используются Кларком для формулирования набора конкретных пропозиций в отношении их связи с характером принятия решений в городском сообществе. Относительно размера города Кларк, как и ряд других исследователей, обосновал следующую гипотезу: чем больше число жителей города, тем более децентрализованная структура принятия решений [Ibid.: 585][387]. Не все эмпирические исследования обнаруживали наличие этой зависимости, особенно, если изучалось сравнительно немного городов. Но у Кларка данная пропозиция была уверенно подтверждена. Как и другие исследователи, Кларк не переоценивает значимость фактора численности как таковой, а подчеркивает, что рост населения усиливает дифференциацию всего спектра институтов городского сообщества – экономических, политических, культурных и др.
Более значимой для Кларка представляется степень дифференциации в экономической сфере. Соответствующую пропозицию Кларк формулирует следующим образом: чем более диверсифицированы экономические структуры сообщества, тем более децентрализована структура принятия решений. Предположение о зависимости структуры принятия решений от степени диверсификации экономической структуры высказывали многие исследователи[388], но в большинстве случаев эмпирического подтверждения данной пропозиции не было, в том числе и в сравнительных исследованиях Дж. Уолтона (см. выше) и Клэр Гилберт [Gilbert, 1968: 152–153]. Однако в исследовании самого Кларка пропозиция полностью подтвердилась [Clark, 1968b: 586].
Дифференциация в сфере публичных (политических) институтов представляется менее очевидной, чем экономическая диверсификация. Оценивая ее с помощью индекса реформирования системы городского управления, Кларк тем самым тестирует ряд отдельных пропозиций, связанных с институциональным устройством местной власти и характером муниципальных выборов. Кларк считает, что более реформированная система управления должна способствовать установлению более централизованной системы принятия решений. Он объясняет это тем, что она менее дифференцирована, в большей степени способствует интеграции сообщества и фактически представляет собой единую подсистему. В частности, выборы, в которых кандидаты не ассоциируются с политическими партиями (nonpartisan elections), способствуют формированию элитистской структуры власти, поскольку они в целом выгодны более организованным и обеспеченным сегментам городского сообщества по сравнению с менее обеспеченными и экономически успешными группами[389]; поддерживает элитистские тенденции и структура местного самоуправления, в которой ключевую роль играют назначенные менеджеры. Была подтверждена и связь между уровнем реформированности институтов управления и степенью его централизации; при этом индекс реформированности оказался наиболее сильным фактором централизации из всех факторов, представленных в его модели [Ibid.: 586].
Реформированность институтов городского управления, в свою очередь, сильно коррелирует с образовательным уровнем населения: более реформированная система имеет место в городах с более высоким уровнем образования. Между тем одна из пропозиций Кларка гласит: чем выше образовательный уровень населения, тем более плюралистичной является структура принятия решений [Clark, 1968d: 119][390]. Негативная корреляция между уровнем образования и децентрализацией, наблюдаемая в первичной матрице корреляции, исчезает, когда начинают учитываться другие переменные модели (путевой коэффициент). Тем не менее результаты исследования не подтверждают данную пропозицию.
Другая переменная, тесно связанная с образованием населения, – уровень активности гражданских добровольных организаций. Соответствующая пропозиция Кларка – чем выше представленность (density) добровольных организаций, тем более децентрализованная структура принятия решений [Ibid.: 115][391] – также не была подтверждена результатами исследования[392]. В целом оказалось, что высокий уровень образования позитивно коррелирует как с реформированием системы управления, так и с уровнем гражданской активности. Но если первый фактор стимулирует централизацию системы принятия решений, то второй – скорее способствует формированию плюралистической структуры власти [Clark, 1968b: 586].
Наконец, не была подтверждена и пропозиция относительно связи между уровнем промышленного развития города и децентрализацией – чем выше степень промышленного развития общности, тем более децентрализованная структура принятия решений[393]. Скорее, как
показывает путевой коэффициент, имеет место обратная связь. Однако Кларк не считает, что есть основания для таких выводов. Он отмечает, что, с одной стороны, по международным стандартам США представляют собой высокоразвитую индустриальную державу. С другой стороны, более важными являются следствия индустриализации – уровень благосостояния, возможности и условия отдыха, образование, более гармоничные социальные отношения, а не индустриализация как таковая; поэтому если возникает какой-то разрыв между индустриализацией и ее последствиями, то и связь, постулируемая в данной пропозиции, не видна. Одним из возможных решений проблемы является переформулирование пропозиции таким образом, чтобы она касалась не отдельных городов, а более крупных регионов или целых стран. Другой стратегией может стать развитие сравнительных исследований, включающих городские сообщества менее развитых стран [Clark, 1968b: 586–587; 1968е: 463–478].
Наряду с тестированием пропозиций, касающихся влияния различных факторов на структуру принятия решений, Кларк рассматривает и ряд других гипотез. Наибольший интерес в этой связи представляют результаты его исследования управленческой эффективности принятия решений. Одна из пяти общих пропозиций Кларка (пропозиция 2)[394]гласит: чем более централизованной является структура принятия решений, тем более предсказуемы результаты принятия решений, и тем больше они выражают ценности и интересы данного сектора. Если структура принятия решений децентрализована, то вероятно наличие значительного количества коалиций, которые могут инициировать и добиваться принятия различных решений. В этом случае значительно труднее предвидеть результаты процесса принятия решений, чем в сообществах с более централизованной системой принятия решений, где сравнительно небольшое количество акторов определяет большинство основных решений. Естественно, что в последнем случае выше вероятность того, что решения будут непосредственно отражать интересы доминирующих акторов и сектора, который они представляют [Clark, 1968d: 94].
Однако, как и по ряду других пропозиций, результаты исследования не подтвердили наличие положительной связи между степенью централизации принятия решений и его эффективностью. Наоборот, в обеих сферах принятия решений (общие расходы бюджета и траты на программы обновления города) результаты оказались прямо противоположными сформулированной пропозиции. Но поскольку некоторые другие исследования [Hawley, 1968: 393–406; Gamson, 1966а: 71–81; Rosenthal, Crain, 1968: 215–242] ее подтверждали, Кларк посчитал, что пропозиция не является ложной; скорее она «не является законченной» и «может относиться к определенным типам решений» [Clark, 1968b: 587]. Принятие решений по вопросам фторидизации воды, десегрегации школ и обновления города, на исследование которых ссылается Кларк, отличались от решений, изучаемых самим Кларком, своей хрупкостью (fragility): во всех этих сферах возникали очень большие трудности в осуществлении принятых решений, поскольку для многих жителей проблемы были новыми, а некоторые группы продолжали бороться против уже принятых решений. Кларк считает, что в децентрализованных сообществах небольшая группа недовольных быстрее привлечет на свою сторону лидеров или потенциальных лидеров, чем в более централизованных, где лидеры настолько сильны, что могут проигнорировать мягкую оппозицию. В неустоявшихся вопросах активная оппозиция даже небольшой группы недовольных может отложить или даже остановить реализацию решения, и слабая власть (или власть, которая вынуждена опираться на поддержку многих групп) будет иметь больше проблем с выполнением решения, чем сильная. Поэтому Кларк несколько корректирует свою пропозицию: эффективность принятия решений по хрупким (неустоявшимся) проблемам будет выше в более централизованной системе принятия решений [Ibid.: 588].
Однако с течением времени происходит привыкание к новым программам и темам; последние становятся менее хрупкими, что отражается на эффективности принятых решений. В более определенных (традиционных) проблемах, таких как формирование бюджета или принятие программы обновления города, компромисс обычно ведет не к патовым ситуациям (как в неустоявшихся проблемах), а к модификации и дальнейшему развитию принятых программ. Многие группы стремятся использовать решения в данных сферах в своих интересах, и в более децентрализованных системах их влияние выше. Поэтому Кларк формулирует и вторую модификацию данной пропозиции: эффективность принятия решений по устоявшимся проблемам в более централизованной системе принятия решений будет ниже [Ibid.].
Как видно из вышесказанного, результаты сравнительных исследований Уолтона и Кларка, как и результаты исследований других представителей политической науки и социологии, оказались неоднозначными: какие-то пропозиции были подтверждены, какие-то нет. Что делать в тех случаях, когда пропозиции не подтверждаются? Кларк посчитал возможным скорректировать некоторые пропозиции, а в отношении ряда других призвал к более активной проверке. В этой связи интерес представляют попытки обобщения уже проведенных (обобщающих) сравнительных исследований по наиболее значимым факторам. Сам Кларк представил сравнительные данные по четырем исследованиям, в числе которых кроме рассмотренных выше исследований самого Кларка и Уолтона были исследования Клэр Гилберт и Майкла Айкена (см. табл. 2).
Таблица 2
Связь между характеристиками общности и децентрализацией власти [Clark, 1972: 23]
Обозначения:
+ – позитивная связь,
– негативная связь,
0 – отсутствие значимой связи,
± – смешанные результаты, зависящие от выбора модели,
Пропуск – связь не устанавливалась.
Как видно из таблицы, не только многие пропозиции оказались неподтвержденными, но и результаты разных обобщающих (!) исследований оказались весьма различными. Поэтому вполне резонно согласиться с приведенным выше утверждением Уолтона о том, что состояние исследований в данной области не позволяет делать каких-либо окончательных выводов [Walton, 1970: 453]. При этом следует признать, что, несмотря на неопределенность результатов, попытки поиска и систематизации факторов, определяющих структуру власти в городских сообществах, имеют смысл.
XV. Опыт использования многомерных моделей власти: исследования Мэтью Кренсона в Гэри и Восточном Чикаго и Джона Гэвенты в Клеар Фолк Уэлли
В эмпирической социологии власти исследование американского социолога Мэтью Кренсона [Crenson, 1971] претендует на первенство в использовании так называемой двухмерной (в терминах С. Льюкса) концепции власти, сформулированной в статьях американских политологов П. Бахраха и М. Бараца [Bachrach, Baratz, 1962:947–952; 1963: 641–651]. Последние указали на необходимость выхода за пределы традиционного ограничения власти процессом принятия политических решений и учета «второго лица власти», выражающего собой способность субъекта ограничить сферу принятия решений «безопасными» проблемами («непринятие решений»). Данная концепция (вместе с «трехмерной» концепцией С. Льюкса) стала предметом острых дискуссий, что стимулировало стремление применить новые модели в эмпирическом исследовании. Сами создатели «двухмерной» концепции власти Бахрах и Барац во второй половине 1960-х годов предприняли попытку выявить и продемонстрировать некоторые формы «непринятия решений» в г. Балтиморе (США) [Bachrach, Baratz, 1970]; однако она не вызвала заметного интереса научной общественности. Поэтому именно исследование Кренсона по праву считается наиболее обстоятельным и фундаментальным эмпирическим исследованием, в котором фактически тестировалась валидность новой концептуальной схемы.
Кренсон был убежден, что плюралистический подход оказался «нечувствительным к проявлениям непроницаемости (impenetrability) политической системы»; несмотря на наличие политических организаций и групп, политическая система на самом деле остается более «упорядоченной», чем ее представляли Р. Даль и другие плюралисты, в том смысле, что не все группы обладают возможностью иметь каналы выражения своих интересов и представителей, которые могли бы озвучить их претензии к социальному устройству и (или) политическому курсу [Crenson, 1971: 20]. Поэтому Кренсон предлагает расширить традиционные способы изучения политической власти путем включения в ее сферу определенных «несобытий» (non-events). Не все обсуждаемые проблемы, подчеркивает он, являются самыми важными; во многих случаях «действительным предметом исследования является не политическая активность, а политическая неактивность» [Ibid.: vii, 26]. Теоретико-методологическое основание исследования Кренсона строится непосредственно на концепции «непринятия решений» Бахраха и Бараца, а также на идеях Э. Шетшнейдера, указавшего на наличие «предрасположенности» (bias) политических институтов к воспроизводству одних политических конфликтов и подавлению других, поскольку «организация есть мобилизация предрасположенности» [Schattschneider, 1960: 71].
Предметом исследования М. Кренсона стала экологическая сфера городской политики, решение проблем загрязнения воздуха. Изучая ситуацию, сложившуюся в ряде американских городов, Кренсон обнаружил, что вопросы охраны окружающей среды решаются в них по-разному: в одних городах достаточно быстро и эффективно были приняты законодательные меры по ограничению загрязнения среды, в других ситуация оказалась иной, несмотря на то что уровень загрязнения оставался очень высоким. Чем обусловлены различия между городами относительно решения данной проблемы? Почему в ряде городов проблема загрязнения воздуха была поднята с большим опозданием и (или) не получила достаточного внимания со стороны тех, кто принимает политические решения, т. е. не стала политической проблемой? Такова сформулированная Кренсоном цель его эмпирического исследования [Crenson, 1971: vii].
Кренсон предположил, что различия между городами по отношению к указанной проблеме обусловлены не (только) социальными характеристиками населения, но и уровнем загрязненности атмосферы. Он исходил из убеждения (по его признанию, ценностно-нагруженного, но не утрачивающего в силу этого валидности) о том, что загрязнение окружающей среды в целом заслуживает значительно большего внимания общественности, чем наблюдаемое в ряде американских городов. Гипотеза Кренсона заключалась в том, что относительное бездействие в сфере принятия политических решений по данным проблемам стало результатом скрытого политического влияния (власти). Поэтому его исследование сфокусировалось на поиске проявлений этих скрытых механизмов власти, установлении каузальной связи между ними и степенью эффективности решения проблем загрязнения воздуха. При этом Кренсон, разумеется, допускает, что причиной невнимания к проблемам окружающей среды может быть апатия, никак не связанная с политическим влиянием каких-то групп или институтов.
В отличие от исследования проблем, включенных в повестку дня и ставших объектом публичной политики, изучение «несобытий» – проблем, не включенных в повестку и (или) не ставших предметом интенсивных политических дискуссий, не могло быть осуществлено на основе анализа различных видов активности в сфере принятия решений. Обязательным условием выявления данной формы политической власти Кренсон считает сопоставление влияния факторов, воздействующих на политическую ситуацию в различных городах. В соответствии с этим Кренсон вырабатывает общий дизайн исследования и определяет спектр эмпирических данных, по которым можно судить о наличии или отсутствии «второго лица власти».
Исследование опирается на 1) данные, полученные в результате изучения ситуации в двух американских городах штата Индиана – Гэри и Восточном Чикаго, и на 2) результаты исследования, проведенного Национальным центром по изучению общественного мнения в 1966-1967-х годах[395].
В ходе своего исследования Кренсон обнаружил, что в Восточном Чикаго действия по улучшению качества воздуха стали предприниматься значительно раньше, а принятые меры оказались гораздо эффективнее, чем в Гэри; между тем уровень загрязнения, а также основные параметры социальной, этнической и демографической структур в городах были примерно одинаковыми. В частности, в Восточном Чикаго действия по очищению атмосферы начались еще в 1919 г., тогда как в Гэри – только после 1962 г. Различие между городами Кренсон объяснил не «естественной инерцией», как тогда считали многие, а политическим влиянием высокоресурсного актора, который не принимал активного участия в публичной политике по данному вопросу, но сумел реализовать свои интересы с помощью ряда структурных преимуществ, заложенных в социально-политической системе, и в силу действия «правления предвиденных реакций»[396], повлиявших на политическую активность других субъектов городской политики.
Таким актором стала крупная сталелитейная корпорация «Ю.С. Стил», полностью доминировавшая в экономике Гэри; она фактически создала этот город и во многом определяла уровень благосостояния граждан. Компания, естественно, была заинтересована в блокировании попыток эффективного политического решения проблемы, поскольку принятие законов, ограничивающих уровень загрязнения воздуха, неизбежно вызывает дополнительные траты. Но ей удавалось обходиться без каких-либо действий и активного участия в публичной политике по данным вопросам. Кренсон показывает, что тактика корпорации заключалась в том, чтобы не обозначать своей позиции по проблемам загрязнения воздуха; тем самым ее трудно было упрекнуть в том, что она препятствовала принятию соответствующего законодательства или вмешивалась в решение городских проблем. «Правление предвиденных реакций» проявлялось в том, что многие акторы, участвовавшие или заинтересованные в их решении (мэры Гэри, руководители коммерческих организаций, исследовательский институт, устанавливавший уровнь и источники загрязнения воздуха в городе, и др.), «держали в уме» интересы корпорации, считали невозможным и (или) нецелесообразным выступать против них. Вследствие «репутационной власти» компании многие городские политики и лидеры бизнеса не хотели занимать четкие позиции в отношении способов решения проблемы загрязнения воздуха, предлагаемые резолюции и решения в итоге оказывались «более слабыми», чем хотелось бы их авторам[397], а само обсуждение проблемы началось значительно позднее, чем во многих аналогичных городах [Crenson, 1971: 77–78]. Кренсон подробно описывает трудности, с которыми столкнулись инициаторы принятия законодательства по ограничению загрязнения воздуха, попытки всячески затянуть процедуру обсуждения проблемы, снять с компании основную ответственность за загрязнение воздуха путем пропаганды идеи о преимущественно бытовом загрязнении (угольные печи в домах), сделать проект «реальным» (т. е. фактически отложить возможность серьезного ограничения промышленного загрязнения воздуха на будущее) и т. д.
Другим фактором, существенно затруднявшим борьбу против загрязнения воздуха, Кренсон посчитал наличие в Гэри сильной партийной организации. Как это ни покажется странным сегодня, партии в то время не ставили экологические проблемы во главу угла, поскольку те не вписывались в традиционную «машинную» стратегию: реализация экологических проектов не давала партиям каких-то ощутимых выгод в борьбе за власть, поскольку это было выгодно всей общности или, по крайней мере, ее большинству, что не соответствовало партикуляристским ориентациям партий [Ibid.: 17].
В Восточном Чикаго ситуация была существенно иной, что Кренсон объяснил отсутствием влиятельного актора, аналогичного «Ю.С. Стил». В нем «репутационная власть» промышленных компаний была слабее, поскольку город в отличие от Гэри не был созданием одной компании, а находящиеся в нем индустриальные фирмы отнюдь не всегда действовали как единое целое. Потенциал «правления предвиденных реакций» ограничивался и тем обстоятельством, что возможности расширения промышленного производства в городе были практически исчерпаны, что, в свою очередь, позволяло не беспокоиться по поводу возможной утраты рабочих мест. Партийное влияние на политику в Восточном Чикаго также было существенно слабее; в то же время граждане имели больше возможностей выражать свои претензии по поводу загрязнения атмосферы, а их лидеры оказались более активными и умелыми в решении политических вопросов. Сказалась и несколько различная роль федерального правительства и правительства штата в решении проблемы загрязнения воздуха в сравниваемых городах [Ibid.: 80–81].
Вместе с тем Кренсон обнаружил и общие моменты в городской политике, касающиеся решения вопросов загрязнения среды. В частности, в обоих городах тему поднимали в основном «политические аутсайдеры», действовавшие отдельно от Демократической партии – «мотора городской политики»; продвижение проблемы в публичном пространстве не имело серьезной организационной поддержки, а инициаторы оказались не (достаточно) мобилизованными для ее решения. При этом наиболее влиятельная оппозиция экологическим проектам концентрировалась в индустриальных организациях [Ibid.: 83].
Во второй части исследования, основанной на интервью с политическими лидерами, Кренсон сосредоточил внимание на тестировании гипотез, сформировавшихся в результате изучения ситуации в Гэри и Восточном Чикаго. По результатом опроса политических лидеров Кренсон составил общую картину отношения различных акторов к проблемам защиты окружающей среды, сравнивая его с отношением этих акторов к другим городским проблемам, в частности к проблемам бедности. Оказалось, что интерес к проблемам защиты окружающей среды в целом значительно ниже, чем к проблемам бедности; при этом поддержка экологических проектов по сравнению с поддержкой программ по преодолению бедности оказалась «сравнительно распыленной». Это подтвердило высказанную им ранее гипотезу о том, что «распыленность» выгод от реализации программ против загрязнения воздуха в городском социуме снижает мотивацию отдельных акторов (например, партий) по их активному продвижению. Конфигурация оппозиции в отношении ужесточения контроля за загрязнением окружающей среды также оказалась существенно иной в сравнении с оппозицией к проектам по снижению бедности: последняя была значительно менее концентрированной, тогда как оппозиция экологическим проектам сосредоточилась в двух центрах – среди промышленников и в Торговой палате. Таким образом, «распыленная» поддержка и концентрированная оппозиция экологическим проектам отражают характер выгод и издержек, сопутствующих их реализации [Crenson, 1971: 88–89], что во многом объясняет трудности, возникшие у инициаторов движения.
В ходе анализа данных был подтвержден и другой вывод, сделанный Кренсоном на основе сравнения роли индустриальных акторов в Гэри и Восточном Чикаго: в тех городах, где доминирующие позиции занимают акторы, несущие потери от реализации экологических проектов (это прежде всего владельцы и управляющие промышленными предприятиями), «проблематизация» темы будет невысокой, а многие заинтересованные акторы их не инициируют и даже не поддерживают. Кроме того, Кренсон выявил зависимость между решением проблемы и степенью приоритетности экономического развития в городе: «там, где развитие бизнеса и индустрии является центром местной политики, проблема грязного воздуха обычно игнорируется» [Ibid.: 165]. Была выявлена и связь между степенью влияния промышленных групп и уровнем загрязнения атмосферы в городе: в городах с относительно невысоким уровнем загрязнения воздуха их (негативное) влияние обычно обнаруживается на более поздних стадиях, тогда как в сильно загазованных городах, где издержки на очистку воздуха для промышленников изначально очевидны, тихое сопротивление проектам начинает формироваться с самого начала их инициации [Ibid.: 120–121].
Результаты опроса подтвердили наличие негативной связи (ранее обнаруженной в Гэри и Восточном Чикаго) между сильной партийной организацией и степенью поддержки экологических проектов во многих американских городах, обусловленной стремлением партий монополизировать политические инициативы [Ibid.: 91–92]. Другой важный факт, выявившийся в ходе интервью, заключался в том, что если в городах принимались постановления по защите воздуха от загрязнения, то оппозиции уже не удавалось отменить или изменить их. Поэтому главный шанс оппозиции заключался в недопущении включения проблемы в политическую повестку дня [Ibid.: 90].
Касаясь способов определения политического влияния тех или иных групп, Кренсон признал, что репутационный метод имеет известные недостатки, на которые вполне резонно указали оппоненты (трудности в достижении единого понимания ключевых понятий, используемых исследователями и респондентами, определение влияния на основе субъективных суждений, а не объективных фактов, и др.), однако для данного случая, в котором именно репутационная власть выступает основным предметом исследования, эти трудности не являются непреодолимым препятствием [Ibid.: 112].
Характеризуя исследование Кренсона в целом, С. Льюке определяет его как вполне успешную попытку применить на практике многомерную модель политической власти, которая «находится на границе между двухмерной и трехмерной концепциями». С одной стороны, это двухмерное исследование в духе Бахраха и Бараца, с другой – оно начинает выходить за пределы двухмерной модели в трех основных аспектах. Во-первых, непринятие решений не ограничивается поведением акторов; во-вторых, методология исследования не является «индивидуалистической», а учитывает и «институциональную власть»; в-третьих, Кренсон обращает внимание на фактор «неартикулируемой идеологии в политических институтах» – даже в тех, которые выглядят вполне нейтральными. Главное достоинство анализа Кренсона заключается в том, что оно построено на вполне валидной идее о том, что люди, при прочих одинаковых обстоятельствах (подразумевая, что контроль за загрязнением воздуха не обязательно ведет к росту безработицы), предпочтут жить в чистой среде, даже если они и не артикулируют это предпочтение [Lukes, 1974: 42].
Исследование Джона Гэвенты по праву считается одним из лучших в ряду исследований власти в городских сообществах: в нем не только собран богатый эмпирический материал, но и использована интересная модель власти, созданная им на основе «трехмерной» концепции Стивена Льюкса. Выбор темы и модели исследования был не случаен: Гэвента был учеником Льюкса и не понаслышке знал район Клеар Фолк Уэлли, ставший предметом изучения.
Этот район в Аппалачах представляет собой «часто упускаемый из виду сегмент “другой Америки” – преимущественно белой и сельской, низшего и рабочего класса» [Gaventa, 1980: 34]. Это место, богатое полезными ископаемыми, однако люди живут бедно: уровень безработицы высок, а доходы населения существенно ниже, чем в среднем по стране. Но бедность населения не сопровождается активным выражением недовольства, хотя значительную часть населения составляют шахтеры, которые во многих других местах активно выступают против сложившейся системы распределения экономических и социальных благ.
Почему люди не пытаются открыто защищать свои интересы? Ведь именно бедные и обездоленные, казалось бы, должны более активно бороться за изменение существующей системы. Однако реальная политическая практика свидетельствует о том, что отсутствие образования, низкий профессиональный статус и скромные доходы препятствуют участию, тогда как более успешные группы оказываются и более вовлеченными в различные виды политической деятельности [Gaventa, 1980: 39–40].
Предыдущие исследования ситуации в данной местности опирались главным образом на плюралистические интерпретации проблемы. Отделяя изучение абсентеизма от исследования власти, его сторонники объясняли низкий уровень участия спецификой политической культуры и соответствующими качествами, присущими жителям данной территории. Отмечалось «отсутствие гражданской ответственности» как «логическое следствие традиционной социальной организации в Аппалачах, опирающейся на семью и культуру индивидуализма как ценности». Исследователи видели проблему не в степени открытости и восприимчивости политических институтов, а в неспособности людей принять и поддерживать фундаментальные основания демократического общества. Поэтому в качестве рекомендаций преобладали суждения о необходимости «развивать не столько регион, сколько проживающих в нем людей» [Ibid.: 40].
Данные выводы показались Гэвенте неубедительными, что стимулировало поиск более адекватного объяснения. Суть его состоит в следующем: покорность населения, его неготовность активно бороться за свои интересы есть результат осуществления власти. «Власть развивает и поддерживает покорность объекта власти; выступления против власти возможны (только) при изменении властных отношений» [Ibid.: vii], Гэвента хочет понять, каким образом в ситуациях явного социального неравенства достигается покорность бедных и обездоленных [Ibid.: 4]. Принимая и развивая «трехмерную» концепцию власти, он уделяет специальное внимание взаимодействию «измерений» власти[398], фокусируя внимание на «третьем лице власти», связанном с формированием ценностей и убеждений людей.
Так же как и Кренсон, Гэвента начинает исследование с изучения истории формирования властных отношений в регионе. Это позволило ему показать преемственность власти, процесс воспроизводства властных отношений на протяжении длительного времени и зависимость политических установок и поведения людей от функционирования власти. До XIX в. общественная жизнь в Центральных Аппалачах развивалась сравнительно медленно, а регион оставался относительно изолированным. В конце века он привлек внимание людей, разглядевших его большой экономический потенциал и возможности успешного вложения денег. Главным фактором развития Клеар Фолк Уэлли стало создание «Американской ассоциации» – компании, собственниками которой была группа бизнесменов из Лондона. Компании удалось быстро приобрести основные ресурсы территории – земли и ее природные богатства[399], что существенно изменило общественные отношения в регионе. Гэвента подробно описывает «колонизацию» региона, появление городов и структурирование социального неравенства. Высший класс Клеар Фолк Уэлли составили собственники компании, проживавшие главным образом в Англии; их интересы представляли в основном управляющие предприятиями. К концу XIX в. сформировался и небольшой средний класс (профессионалы, предприниматели и торговцы), а основную массу жителей составлял низший класс, в который входили рабочие, строители и шахтеры, пришедшие в основном из сел или других рабочих городов; при этом вертикальная мобильность была крайне низкой [Ibid.: 57]. Практически неограниченная экономическая власть компании помогла ей создать и политический класс, который ее всячески поддерживал.
Гэвенту интересуют прежде всего источники и проявления каждого из трех «измерений» власти и их взаимодействие в Клеар Фолк Уэлли. Он достаточно убедительно показывает, что первое измерение власти – способность правящего класса навязать свою волю в условиях открытого конфликта интересов – имело место, главным образом, на начальных этапах формирования властных отношений. Например, на первых выборах в 1890-х годах, во время судебных процессов, при принятии решений по установлению определенных процедур и т. д. Хотя в этот период и были приняты некоторые законы, защищающие экономические права бедных (которые, однако, нередко оставались на бумаге), политика в целом осуществлялась в интересах собственников [Ibid.: 60–61].
Позднее социальный конфликт все чаще разрешался с помощью второго и третьего «лиц» власти [Gaventa, 1980: 253]. В частности, «второе измерение власти» проявлялось в том, что недовольство бедных существующей ситуацией так и не достигало сферы публичного обсуждения и принятия решений. Гэвента объясняет это прежде всего результатом предвидения потенциальными оппозиционерами своего возможного (наиболее вероятного) поражения в случае открытого противостояния с власть имущими. Он не считает данную ситуацию следствием «фатализма традиционной культуры» или проявлением иррациональности людей, а связывает с усвоением людьми определенного исторического и социального опыта.
Кроме того, элита умело использует преимущества, заложенные в институциональной структуре. В числе таких институциональных практик, препятствующих формированию активной оппозиции власти и тем самым обеспечивающих осуществление власти в форме непринятия решений, Гэвента называет «секретность и сложность организации компании, административный уклон контролирующих властных структур, ограниченные возможности профсоюзов» и др. [Ibid.: 254]. В случае необходимости «мобилизация предрасположенности» (mobilization of bias) дополняется открытым использованием силы или угрозы ее применения со стороны элиты. Это имело место в периоды волнений 1930-х и 1970-х годов, когда выступавшим непосредственно угрожали серьезными санкциями (попадание в «черный список», отказ в найме жилья, выдаче талонов на еду, получении медицинской помощи, пенсионных льгот).
Экономическая и политическая гегемония правящей элиты сопровождалась внедрением соответствующей идеологии. На это «измерение» власти Гэвента обращает специальное внимание в своем исследовании. Он выделяет четыре важных момента в «новой идеологии», утвердившейся в регионе: 1) «общая цель», заключающаяся в росте Мидлсборо (город в местечке Клеар Фолк Уэлли). Идея служила средством отвлечения внимания населения от социального неравенства, которое все более усиливалось; 2) «выгоды от индустриального развития могут получить все, но для этого необходимо усердно работать»; 3) «прогресс» и «преимущества цивилизации». Подобно африканским колонизаторам, власть имущие в Аппалачах внушали мысль о том, что только «цивилизованный» образ жизни обеспечивает высокий уровень благосостояния; 4) «величие человека» и «завоевание природы». Если раньше люди жили в гармонии с природой, подчиняясь ее законам, то новая идеология стимулировала ее активное преобразование и формировала корпоративную (а не семейную) солидарность [Ibid.: 61–62].
Каким образом эти идеи были реализованы на практике? Гэвента не удовлетворен объяснением ситуации ссылками на ограниченность выбора для жителя Аппалач (аналогия с положением раба) или рациональность принятия новой идеологии (аналогия с действием свободного человека), считая их явно упрощенными и подчеркивая, что в некоторых ситуациях принуждение «может дать обратный эффект», а «рациональность сама по себе имеет социальную составляющую». По его мнению, здесь имеет место осуществление власти, которое детерминирует результат «выбора», но при этом оставляет возможность «выбирающему» верить в то, что он действительно осуществляет выбор [Ibid.: 63].
«Навязывание выбора» происходило разными путями. Во-первых, явно преувеличивались выгоды нового порядка. Разумеется, «плоды цивилизации» (в городе появились приличные отели и места отдыха, возможности создать красивый интерьер и т. д.) предназначались главным образом обеспеченным слоям населения, однако некоторые моменты нового стиля жизни (алкогольные напитки, бары, приобретение ранее недоступных товаров и др.) оказались доступными и неэлитным группам [Ibid.: 65].
Во-вторых, имела место дискредитация национальных традиций и культуры жителей гор. Людям внушали, что традиционная культура не соответствует стандартам нового времени, а ее приверженцев (их презрительно называли «дикими жителями гор») представляли как людей «непривлекательных», много пьющих и употребляющих грубую пищу.
Противопоставление старой и новой культур сопровождалось активным формированием мифа об «открытых возможностях» и «перспективах благосостояния» в случае «правильного выбора». В сознание людей внедрялась идея о том, что если в настоящее время они еще и не могут иметь уровень жизни, сопоставимый с уровнем жизни некоторых других категорий населения в силу недостатка ресурсов, то в будущем это станет вполне реальным, если усердно трудиться [Ibid.: 65–66].
В-третьих, осуществлялось целенаправленное отторжение символов традиционной культуры путем, например, замены старых названий городов и улиц новыми. При этом, как подчеркивает Гэвента, если в промышленной зоне сохранились аппалачские названия, то в остальных районах названия были заимствованы из других культур (чаще всего воспроизводились названия городов и улиц Англии). Хотя данный процесс и не был полностью осознанным, он имел весьма существенные последствия, поскольку в данном случае названия – это не просто слова, а инструменты формирования идентичности [Ibid.: 66–67].
В-четвертых, новые ценности прививались в результате контроля компании за деятельностью институтов социализации, в том числе соответствующих государственных структур, школы и церкви. Был основан университет с целью «дать образование местным жителям», но фактически ориентированный на то, чтобы вырастить молодежь с иной ментальностью, чем их родители [Gaventa, 1980: 67–68].
В-пятых, процесс формирования нового сознания поддерживался тем обстоятельством, что состояние безвластия обусловливало интернализацию роли подчиненного в результате адаптации к новому порядку, принятие соответствующих ценностей, подавление чувства самодостаточности и уверенности в собственных силах. Проявлением адаптации к новому порядку стало и отсутствие понятия участия и его ценности в сознании людей: если нет реального участия, то нет и самого понятия [Ibid.: 93][400].
Наконец, власть имущие периодически инспирировали кампании по восхвалению «Американской ассоциации», ее роли в развитии территории (например, «митинги благодарности»), а в периоды идеологической конфронтации активно выступали против «коммунизма»[401] и других альтернативных идей. Описывая пропагандистскую практику властей, Гэвента убедительно демонстрирует роль прессы в процессе формирования определенных политических установок. Интересным представляется сделанное им сравнение материалов по ситуации в регионе, опубликованных в местной прессе (которая была зависимой от власть имущих) и в иных изданиях: в периоды эскалации конфликта местная пресса переключала внимание аудитории с проблем безработицы и организации протеста на эмоциональные призывы к патриотизму, моральному поведению и религии, а также пугала население «коммунистической угрозой» [Ibid.: 105–109].
Все это, как считает Гэвента, привело к формированию консенсуса между властью и населением, который не был «естественным» консенсусом, принятым населением в результате свободного выбора, а стал результатом эффективного осуществления элитой своей власти. В качестве подтверждения данного тезиса Гэвента приводит следующие аргументы: 1) присутствие новой экономической элиты не было следствием собственного выбора жителей гор; скорее здесь имел место латентный конфликт; 2) представители мелкого бизнеса и специалисты были полностью экономически зависимыми от экономической элиты, их лояльность была вызвана их бессилием; 3) в отличие от среднего класса рабочие и шахтеры публично не высказывали своей приверженности новому порядку, хотя и не бросали ему вызов. В данном случае, пишет Гэвента, «молчание нельзя считать консенсусом». Сравнение с соседними городами региона[402] показало наличие возможностей осуществления коллективного действия и осознания классовых интересов. То, что этого не было в Мидлсборо (хотя условия жизни шахтеров в нем были хуже, чем в любом другом месте), позволяет утверждать, что «многомерная» власть в городе была эффективной и обеспечила подчинение шахтеров новому социальному порядку [Ibid.: 81].
О том, что консенсус образовался в результате осуществления власти, свидетельствует, по мнению Гэвенты, и тот факт, что в период сильного кризиса 1931–1932 гг., существенно ослабившего позиции властвующей элиты, средний класс продолжал выражать свою лояльность и делал это даже более «пылко», чем обычно. Рассматривая данную ситуацию, Гэвента высказывает гипотезу о том, что «наиболее коварной (insidious)[403]является власть, которая препятствует появлению вызовов правящей элите со стороны объекта власти даже в тех ситуациях, когда элита существенно ослабла» [Ibid.: 82]. В качестве другого примера действия «третьего измерения власти» Гэвента описывает ситуацию, когда после убийства одного из лидеров шахтеров последние не поддержали его преемника, а отдали победу оппоненту [Ibid.: 194].
Не все аналитики приняли модели исследования Кренсона и Гэвенты и согласились с их выводами. При этом речь идет не только о «ранних» критиках «многомерных» концепций власти (Р. Даль, Н. Полсби, Р. Волфинджер, А. Брэдшоу и др.), но и о более поздних авторах, ставящих под сомнение теоретическую валидность моделей исследования и (некоторых) полученных на их основе результатов (К. Доудинг, К. Хейвард). В последние десятилетия явный критический настрой в отношении «расширенных» концепций власти содержится в теории рационального выбора, которая в дискурсе власти наиболее основательно представлена К. Доудингом [Dowding, 1991; Dowding et al., 1995].
Доудинг считает, что в дебатах по поводу власти справедливая критика «простых» моделей нередко приводила к формированию концепций, далеких от возможностей эмпирической демонстрации. При этом «расширение сферы власти снимало с видимых субъектов власти ответственность за свои действия» [Dowding et al., 1995:265–266]. Доудинг согласен с тем, что одномерный (плюралистический) подход был неадекватным в силу того, что при выявлении мотивации субъекта учитывалось лишь его действие и не принималась во внимание структура ситуации выбора между имеющимися альтернативами. В то же время их критики нередко совершали «ошибку обвинения» (blame fallacy), которая состояла в том, что, по сути, любые действия (или недействия) объекта, направленные против своих интересов, квалифицировались как результат (скрытого) осуществления власти. На самом деле, подчеркивает Доудинг, такие действия могли быть вызваны структурой ситуации и нехваткой соответствующих ресурсов. Доудинг поясняет это, используя различение между «властью результата» (outcome power) (способность актора достигнуть определенного результата или способствовать достижению результата) и «социальной властью» (способность актора целенаправленно изменить структуру стимулов другого актора или акторов для достижения результата): «группы могут не иметь власти результата и без влияния на них других акторов, обладающих социальной властью» [Dowding et al., 1995: 267; Dowding, 1991: 84-114].
На наш взгляд, Доудинг отчасти прав. Ранее[404] уже отмечалось, что отсутствие внешнего фактора (власти) не обязательно подразумевает соответствие действий объекта его интересам, поскольку преференции могут блокироваться структурными факторами. По мнению Доудинга, обоснованная критика плюралистических подходов не обязательно требует оперирования «сомнительными», с его точки зрения, понятиями, типа «реальные интересы» и «непринятие решений»: можно просто сослаться на проблемы коллективного действия, которые трудно преодолеть, особенно большим группам [Dowding, 1991: 94, 96]. Что касается эмпирических исследований Кренсона и Гэвенты, то он убежден, что взятые исследователями ситуации можно объяснить и без дополнительных «лиц власти», а именно – через рассмотрение соответствующей структуры стимулов. Бессилие группы может быть обусловлено какими-то свойствами самой группы, независимо от того, имел место внешний фактор или нет. Совсем не обязательно, чтобы на группу оказывалось сильное давление для того, чтобы ее члены не предпринимали активных действий, поскольку ей нужно прежде всего преодолеть проблему коллективного действия.
Рассматривая аргументы Кренсона, Доудинг указывает, что Кренсон на самом деле не показал наличие власти у «Ю.С. Стил», поскольку он не ответил на вопрос о причинах отсутствия политической мобилизации людей, страдавших от загрязнения окружающей среды. Поэтому совсем не обязательно приписывать все проблемы с законодательством «Ю.С. Стил», совершая тем самым «ошибку обвинения». Сказанное не означает, что «Ю.С. Стил» совсем не имела влияния; просто степень этого влияния (в контексте проблемы мобилизации) Кренсоном не была показана [Dowding, 1991: 92–95].
Что касается приведенных Гэвентой примеров «третьего измерения власти», то многие из них Доудинг также не находит убедительными. В частности, он уверен в том, что источником пассивности шахтеров было не отсутствие классового сознания, как полагает Гэвента, а вполне осознанное понимание недостаточности ресурсов для борьбы с всесильной компанией [Ibid.: 92–95].
Мне представляется, что в некоторых аспектах критика Доудинга не вполне справедлива. На мой взгляд, второе и третье «лица власти» действительно существуют, но их обнаружение и эмпирическая фиксация требуют, возможно, большей четкости, в частности, в отношении определения роли субъекта в формировании невыгодной для объекта ситуации. Гэвента недостаточно ясно обозначил соотношение структурных и деятельностных аспектов во втором и, особенно, в третьем «измерениях» власти, что было необходимо для отделения власти от влияния структурных факторов. Однако неспособность объекта преодолеть проблему коллективного действия, возникающую в результате целенаправленного формирования его сознания и установок со стороны субъекта, вполне резонно считать осуществлением власти, что, в принципе, Гэвента и продемонстрировал. Не всегда безвластие и покорность имеют корни в самих акторах, иначе мы обвиняем жертв власти, воздействия которой они (полностью) не осознают. И Кренсон, и Гэвента показали наличие у власть имущих определенных стратегий, умение использовать структурные преимущества, свидетельствующие о том, что властные отношения имели место, несмотря на отсутствие открытого конфликта. В целом оба исследования подтвердили необходимость изучения власти как многомерного явления, отражающего комплексный характер социального взаимодействия и многообразие форм господства и подчинения.
Насколько все вышеизложенное имеет отношение к исследованию политических процессов в современной России? Льюке и его последователи разрабатывали свою «трехмерную» концепцию политической власти, разумеется, не только для изучения политики в США, полагая, что в любом социуме имеет место определенная конфигурация властных отношений, включающих как открытый публичный конфликт сторон, так и скрытое (осознанное и неосознанное) подавление преференций и интересов объекта. В российской политической практике, как и в любой другой, присутствует и «правление предвиденных реакций» (наглядными примерами являются самоцензура в СМИ, «добровольное спонсорство» бизнеса, существенное ослабление политических амбиций корпоративного капитала после «дела Ходорковского», готовность поддерживать власть в обмен на налоговые льготы и др.), и целенаправленное формирование сознания населения в интересах господствующего класса. По мере усиления административно-политической элиты необходимость в открытых акциях по устрашению снижается, что косвенно отражается в очевидном уменьшении количества открытых столкновений (конфликтов) с властью со стороны (потенциальных или актуальных) оппозиционеров (бизнес-групп, политической оппозиции, региональных элит и др.).
Усиление позиций федеральной административной элиты и рост ее независимости от других социальных групп и организаций проявляется и в ее способности не реагировать (адекватно) на многие запросы, идущие из общества, ограничивая спектр проблем, подлежащих обсуждению («непринятие решений»). Сегодня в российской политической практике наиболее важные (с точки зрения сохранения и воспроизводства господства политико-административного класса) и вполне очевидные формы непринятия решений и «правления предвиденных реакций» имеют место в сфере контроля за медиапотоками, где фактически осуществляется легитимация «повестки дня». Они также проявляются в «сертификации» Кремлем участников переговорных процессов, в выстраивании мощных барьеров на пути инициатив, направленных на ограничение бюрократического контроля в экономике, выравнивание доходов различных групп населения и т. д. В последние годы отчетливо обозначилась тенденция к усилению роли правящей элиты в процессе формирования политического сознания населения, которое ориентируют на имперские государственнические ценности, управляемость, иерархию и «особый путь». Это проявляется прежде всего в том, что государственные телевизионные каналы (а именно они остаются главным источником получения информации для основной массы граждан и наиболее эффективным средством формирования политического сознания населения) строго выдерживают идеологическую линию, заданную правящей элитой, практически не предоставляя эфир политическим оппонентам. Критики нынешнего режима могут высказываться в некоторых печатных СМИ и Интернете, однако это не может компенсировать их отсутствия на телевидении. В содержании новостей практически отсутствует объективный анализ нынешнего курса, его недостатков; явно приукрашиваются ситуация в экономике и перспективы ее развития.
Особенно сильное пропагандистское воздействие имеет место в период избирательных кампаний, когда использование государственного телевидения для поддержки определенных партий и кандидатов выходит далеко за пределы формальных и моральных ограничений.
Разумеется, все это требует специального и обстоятельного изучения, в котором имеющийся опыт эмпирических исследований власти должен быть непременно востребован.
XVI. Марксистские исследования власти в 1960-1980-х годах
Марксистские исследования власти в городских сообществах получили наибольшее распространение в 1960-1980-х годах, когда стали очевидными недостатки ранних подходов, отразивших соперничество элитистских и плюралистических исследовательских проектов. Рост интереса к марксистским моделям объяснения власти был обусловлен и рядом новых тенденций в развитии городской политики: исход среднего класса из центра и соответствующее снижение налоговой базы, усиление расовых и социальных конфликтов, активизация городских общественных движений – эти темы, традиционно находившиеся в поле зрения исследователей марксистской ориентации, стали интересовать исследователей других направлений.
Марксисты считали, что «конвенциональная» политическая наука оказалась не в состоянии комплексно исследовать городскую политику, поскольку, как правило, уделяла внимание вторичным факторам (например, технологическим изменениям, миграции населения), не затрагивая ее фундаментальных оснований, связанных с потребностями капитализма в воспроизводстве дешевой и легко контролируемой рабочей силы и возрастанием капиталистического производства. Другая проблема в исследовании городской политики, на которую указали неомарксисты, заключалась в том, что источники конфликтов в городском политическом пространстве ограничивались сферой взаимоотношений между отдельными акторами городской политики, группами и организациям и анализировались вне контекста фундаментальных противоречий капиталистического способа производства. При этом отсутствовал анализ связи между социальной структурой города и классовыми отношениями в обществе [Jaret, 1983: 499–500; Mingione, 1996b: 218; Castells, 1978: 6-11].
Проблемное поле и дизайн марксистских исследований выстраивались в соответствии со следующими базовыми идеями. Возможности проведения демократической политики – как на городском уровне, так и в обществе в целом – изначально ограничены императивами экономической системы, ориентированной на извлечение прибыли. Городские политические институты представляют собой часть государственной структуры, обеспечивающей поддержание существующих капиталистических отношений. Государственные институты – как на местном, так и на национальном уровне – выполняют преимущественно две функции[405]. Во-первых, они обеспечивают воспроизводство капиталистической системы – его правовой, финансовой и производственной подсистем, коммуникаций, транспорта, рабочей силы. Во-вторых, государство осуществляет поддержание социального порядка путем регулирования и сглаживания социального (классового) конфликта, неизбежного в условиях эксплуатации наемного труда. Последнее достигается с помощью нейтрализации «опасных» ценностей и установок, уступок угнетенным классам и укрепления репрессивных институтов [Pickvance, 1995: 253–254]. Таким образом, в местной политике отражаются проблемы и противоречия, возникающие в процессе реализации базовых функций капиталистического государства; при этом властные отношения закрепляют преимущества господствующего класса. Соответственно, кризисные тенденции в развитии в городской сферы, трудности и проблемы, с которыми сталкивается городская политическая система, представляют собой не случайные явления, обусловленные несовершенством управленческой деятельности и ошибками его субъектов, а отражают общий кризис капиталистического социума, обусловленного противоречиями между производительными силами и производственными отношениями; их преодоление связано с изменениями в самой системе общественных отношений и «отменой капитализма» [Tabb, Sawers, 1978: 17], а «изучение социальных отношений на определенных территориях возможно только на основе более общей социальной теории» [Mingione, 1996а: 111].
Эти идеи являются основными маркерами марксистской традиции и в том или ином сочетании используются для ее выделения из общего спектра подходов к изучению городской политики. Например, М. Геддес относит к марксистским те теории, которые «помещают “город” и “политику” в марксистское теоретизирование по поводу капитализма». Последнее, по его мнению, подразумевает три базовых принципа: 1) город рассматривается как место противоречивого и обусловливающего кризисы накопления капитала, 2) капиталистические классовые отношения определяют фундаментальные перспективы развития городской политики[406], 3) наполнение идеологическим содержанием таких категорий, как «городской», и признание «буржуазным» отделение «политического», «социального» и «экономического» [Geddes, 2009: 55].
Вышесказанное разделяется практически всеми исследователями неомарксистской ориентации. Основные различия между ними обусловлены главным образом расхождениями в понимании степени автономии государства и его частей, которая необходима для успешного выполнения им своих основных функций. Исследователи, тяготеющие к инструменталистским объяснениям политики и власти (С. Кокберн, Дж. Лоджкин, Э. Хэйес), подчеркивали единство институтов капиталистического государства, действующего как единое целое. Городская политика и местные политические институты обладают ограниченной автономией и, по сути, задаются сверху; они скорее создают «видимость участия», но, не имея реальной власти, фактически реализуют интересы тех слоев, которые доминируют в обществе в целом. Поэтому изучение собственно городской политики имеет ограниченную значимость, так как ее динамика формируется главным образом за пределами городского пространства.
Несколько иное объяснение было предложено сторонниками структуралистского подхода (С. Дункан, М. Гудвин, М. Кастельс, Р. Хилл). По их мнению, для успешного выполнения государством функций аккумуляции и легитимации нужна существенная автономия в отношениях между а) государством и господствующим классом и б) между различными частями государства, в том числе между центральными органами власти и структурами городского управления. Данный подход уделяет существенное внимание взаимодействию различных групп господствующего класса, уступкам, которые они вынуждены делать для сохранения стабильности, и другим способам сглаживания классового конфликта. В нем городская политика становится более значимым объектом исследования, чем в инструменталистском подходе[407].
Инструменталистский подход был реализован Синтией Кокберн в исследовании местной политики в Ламбете (административный округ Лондона, Великобритания). Центральная идея исследования выстраивается вокруг понятия «местное государство» (local state), которое по своему объему шире понятия «местное самоуправление» (local government), охватывая все государственные (управленческие) функции на местном уровне и символизируя «фундаментальное единство всех частей государства» [Cockburn, 1977: 47]. Кокберн отмечает, что местную власть принято рассматривать как механизм помощи людям, средство защиты от жизненных неудач, бедности; и если органы местного самоуправления не обеспечивают реализацию интересов граждан, то они считаются плохо работающим или неэффективным. При этом не учитывается, что она является «частью структуры, которая в целом и в долгосрочной перспективе имеет иные интересы» [Ibid.: 41].
Кокберн непосредственно отталкивается от идеи Маркса о том, что государство при капитализме – это инструмент классового господства буржуазии [Ibid.: 42], и указывает на необходимость отказаться от сведения местной власти к деятельности муниципальных органов. Она подчеркивает, что многие важные вопросы решаются на других уровнях государственного управления, и чтобы увидеть классовый конфликт, необходимо выйти за границы отдельно взятой территории[408]. При этом не стоит полагаться на формальную независимость муниципальной власти от государства: при капитализме она фактически подчинена центральному правительству [Ibid.: 46]. Как и ожидала Кокберн, местный городской совет в Ламбете в ряде ситуаций действовал не как защитник людей, проживающих на его территории, а как выразитель интересов иных социальных групп.
Между фракциями господствующего класса неизбежно возникают противоречия: хотя их перспективы объективно зависят от процветания капиталистической системы в целом, краткосрочные интересы, например финансового сектора города, могут отличаться от интересов промышленников. В таких ситуациях государство ориентируется на общие интересы класса капиталистов и стремится поддерживать их культурное и политическое господство над рабочим классом, необходимое для воспроизводства капитализма [Ibid.: 47]; именно в этом контексте оно действует как единое целое. В Ламбете бездомные обнаружили, что различные государственные институты – полиция, местный совет, структуры и службы управления энергетикой, отоплением и др. – демонстрируют «практическое единство в попытках положить конец скваттированию». Единство деятельности государственных структур отражается и в идеологических практиках государства: оно создает впечатление, что ориентируется не на частные интересы отдельных групп, а выражает общий интерес и политическое единство «народа и нации», боссов и рабочих [Cockburn, 1977: 47–48].
Другой вывод, который естественно вытекает из общей концепции Кокберн и подтверждается результатами ее исследования, состоит в том, что наиболее важные интересы правящего класса реализуются через центральные институты государства. Кокберн приходит к выводу, что в Ламбете интересы господствующего класса (к которым она относит собственников земли, девелоперов, руководителей бизнес-организаций, профессионалов) реализуются прежде всего через аппарат центрального правительства, который «редко замечает местный совет» [Ibid.: 45][409]. При этом место проживания не имеет принципиального значения: большинство представителей господствующего класса живет за пределами округа, но реализует в нем свои деловые интересы. Таким образом, местная арена политики имеет для этих групп маргинальное значение.
Главная роль, которую выполняет «местное государство» – это поддержание воспроизводства рабочей силы через обеспечение населения различными услугами (жилье, образование, здравоохранение): «нас обслуживают ради нашей рабочей силы» [Ibid.: 2]. Она вполне соответствует логике распределения функций капиталистического государства, ориентированного на «воспроизводство условий, которые поддерживают накопление капитала» [Ibid.: 51]. В связи с этим Кокберн подчеркивает, что «государство благосостояния» нельзя считать более выгодным для рабочих, чем для капиталистов: «То, что нам нужны услуги, не означает, что капиталистам не нужна рабочая силы. То, что нам нужны рабочие места, не означает, что капитализм не эксплуатирует рабочих. Здесь нельзя считать чистые потери и выгоды» [Ibid.: 55–56].
Местные муниципальные структуры также выполняют важные функции сглаживания конфликтов между властью и населением и координации интересов различных фракций правящего класса. По мнению Кокберн, стремление повысить эффективность данной функции государства стало одной из причин внедрения системы «корпоративного управления» (corporate management) на местном уровне и стратегии «развития сообщества» (community development) [Ibid.: 51]. Эти стратегии были направлены на создание более интегрированной системы управления: с одной стороны, реформы были ориентированы на укрепление контроля над финансами совета и рабочей силой, с другой – объявлялся курс на «демократизацию» через «участие», «открытие дверей совета» и развитие общественных организаций.
Вместе с тем необходимость осуществления данной функции дает некоторые шансы рабочему классу и позволяет ему «добиваться уступок». Кокберн отмечает, что степень господства зависит и от степени сопротивления со стороны рабочего класса, особенно в тех случаях, когда капитал и государство утрачивают инициативу [Ibid.: 50–51]. Но шансов добиться существенных выгод крайне мало, а в случае серьезного вызова государство может продемонстрировать свое «репрессивное лицо». Классовая природа власти наиболее наглядно проявила себя в ситуациях с ликвидацией дешевого жилья и мерах против скваттеров. В Ламбете было снесено много еще вполне пригодного жилья, в то время как возможности строительства нового жилья были ограничены. Это привело к тому, что многие территории длительное время оставались неиспользуемыми; при этом новые дома долго не заселялись. Описывая эти и другие ситуации, Кокберн пыталась «развеять миф о местной власти как честном посреднике», который стремится исключительно к гармонизации интересов жителей территории.
Однако важность участия в коллективных действиях обусловлена не только возможностью влиять на местную политику, которая в любом случае остается, но и тем, что оно стимулирует рост классового сознания: «Необходимо понять, что мы вовлечены в борьбу в сфере капиталистического воспроизводства. Наряду с борьбой в производственной сфере – в шахтах и на фабриках, есть и борьба в сфере воспроизводства – в школах, в сфере обеспечения жильем, на улице, в семье». Жилищная проблема, социальные льготы и выплаты, школьное образование являются объектами не только экономической, но и политической борьбы, и в этом их значение [Ibid.: 163].
Инструменталистский подход был реализован и американским исследователем Эдвардом Хэйесом в исследовании в Окленде [Hayes, 1972]. Кто правит в Окленде? Ответить на этот вопрос, содержащийся в названии его книги, Хэйес пытается с помощью двух ракурсов анализа городской политики: кто оказывает на нее наибольшее влияние и кто извлекает наибольшую выгоду[410]. При этом Хэйес не ограничивает пространство власти ареной принятия решений, предполагая возможность ее существования в виде структурных преимуществ (benefit structure), и акцентирует внимание на роли идеологии как фактора, обусловливающего поддержание «правил игры» и институциональных преимуществ господствующих групп [Ibid.: 4]. Тем самым Хэйес фактически использует «многомерную» концепцию власти, что вполне естественно для исследователей марксистской ориентации.
Общий вывод, к которому приходит Хэйес по результатам своего исследования, состоит в том, что в Окленде правит бизнес. Хэйес прослеживает основные этапы эволюции политической системы Окленда и показывает, что доминирование бизнеса имело место на протяжении многих десятилетий. Оно проявлялось в том, что в городской политике реализовывались основные интересы местного бизнеса – поддержание низкого уровня налогообложения и ограничение политического влияния социалистов и профсоюзов; процесс принятия решений был ориентирован на извлечение максимальной прибыли, а не на удовлетворение нужд населения; требования широких масс населения города часто игнорировались [Hayes, 1972: 17, 198]. В частности, местные власти не были склонны существенно расширять сферу услуг, в чем были заинтересованы многие жители города; постоянно откладывались проекты по борьбе с бедностью [Ibid.: 46]. Так и не была реализована потребность в воспроизводстве социального жилья и дешевых рабочих мест; бедные платили высокие налоги, а система социальной поддержки и пособия оставались минимальными. В специальной главе, посвященной жилищной политике в городе, Хэйес показывает, что действия местных властей в этой сфере фактически не только не были направлены на решение жилищной проблемы как таковой, а прямо вели к сокращению жилищного фонда[411] ради поддержания выгодных местному бизнесу коммерческих проектов [Ibid.: 75][412]. Хэйес отмечает, что местные власти, по сути, противодействовали правительственным программам строительства нового жилья, поскольку эти программы увеличивали издержки корпораций через рост налогов и (или) создавали конкуренцию частному сектору [Ibid.: 68].
Оценивая ресурсы и влияние бизнеса в Окленде, Хэйес обращает внимание на то, что бизнесмены всегда численно преобладали в институтах местной власти [Ibid.: 33, 45–36, 40], а силовые структуры часто непосредственно использовались в борьбе против оппонентов бизнеса[413]. Бизнес оказывает и наибольшее влияние на процесс принятия решений. Оценивая его, Хэйес различает «систематическое» (systematic) влияние бизнеса и «специфические интервенции» (specific interventions) бизнеса. Первое включает в себя и формирование структур, которые благоприятствуют реализации интересов бизнеса. К их числу он относит создание автономного Совета по контролю за территорией порта, выгодную для продвижения интересов бизнеса систему выборов и организацию местной власти. Рассматривая системное влияние бизнеса на городскую политику в Окленде, Хэйес отмечает, что его эффективность была обусловлена тремя факторами: 1) бизнесмены имели значительный интерес к местной политике, 2) обладали набором общих целей и 3) контролировали ресурсы, которые высоко ценились политиками, и тем самым контролировали самих политиков. Местные власти находились в зависимости от бизнеса, без которого они не могли реализовать многие программы развития; фактически регрессивная шкала налогообложения благоприятствовала бизнесу и существенно ограничивала финансовые возможности местных властей; в целом налоговая система функционировала в интересах имущих классов [Ibid.: 192–193].
Специфические интервенции бизнеса проявлялись в его влиянии на выбор тех или иных решений в определенных сферах городской жизни; они результировались в налоговых послаблениях, практически полном отсутствии общественного жилья, контроля за рентой и участия бизнеса в программах защиты бедности. Проекты обновления города были реализованы в интересах бизнеса и банков [Ibid.: 120–122]. Тем самым политические процессы в Окленде не подтверждают распространенную в американской (плюралистической) политологической традиции идею об автономии политической и экономической сфер, а демонстрируют их тесное переплетение [Ibid.: 10]. Хэйес считает, что сам по себе высокий уровень бедности в городе был в значительной степени обусловлен политикой местных корпораций, ориентированной исключительно на извлечение прибыли и обусловливающей высокий уровень безработицы [Ibid.: 68]. Корпорации нередко участвовали в различных программах, где сосредоточивались значительные общественные ресурсы, и даже инициировали их. Но эти программы не угрожали интересам бизнеса, а наоборот, могли давать дополнительные доходы, например, через подготовку рабочей силы. Что касается федеральных программ борьбы с безработицей, то их Хэйес оценил скромно: по его мнению, они не столько увеличивали занятость, сколько создавали видимость деятельности [Ibid.: 178, 195].
Хэйес не утверждает, что только бизнес оказывает влияние на городскую политику; определенную роль в ней играли рабочие и этнические организации. При этом не всегда усилия бизнеса оказывались успешными. Он приводит ряд примеров, когда бизнесу не удавалось навязывать свою волю, а некоторые решения местных властей были приняты под влиянием рабочих и бедных слоев. Однако Хэйес подчеркивает, что наличие правящей или доминирующей группы в городской политике проявляется не в том, что группа всегда выигрывает: «ни одна из правящих групп в истории не соответствовала этому требованию». По его мнению, показателем власти в данном случае выступает тот факт, что в большинстве случаев «интересы бизнеса реализовывались в городской политике, тогда как пожелания других групп не артикулировались, игнорировались или успешно блокировались». Так или иначе, «Окленд демонстрирует паттерны элитизма и классового правления, а не плюрализм». И хотя Хэйес не склонен считать политическую систему Окленда «правлением бизнеса», он отмечает, что термин «правящий класс» вполне подходит для обозначения места бизнеса в городской политике [Hayes, 1972: 40, 160–196].
Примером исследовательского проекта, выполненного в русле структуралистского подхода, является исследование Мануэля Кастель-с а в Париже. Оно имело две цели: 1) анализ городской политики на основе марксистской методологии с ее классовым подходом, акцентом на воспроизводстве рабочей силы и коллективном потреблении и 2) выявление способности разных социальных классов использовать власть для достижения своих целей через изучение деятельности социальных движений и групп давления. В центре внимания Кастельса находится развитие городского пространства как места борьбы между трудом и капиталом, которая, возникнув на рабочем месте, все более перемещается в сферу проживания и воспроизводства рабочей силы. Исходный пункт рассуждений Кастельса заключается в том, что «городской кризис представляет собой определенную форму более общего кризиса, обусловленного противоречием между производительными силами и производственными отношениями». Экономическая, технологическая, социальная и пространственная концентрация средств производства и потребления обусловлена логикой концентрации капитала и политического управления. Из этого вытекают два вывода: 1) «структурно и исторически городские и экологические проблемы тесно связаны между собой и с фундаментальными противоречиями капиталистического способа производства на его монополистической стадии»; 2) эти противоречия обусловливают существующие формы городской социальной организации [Castells, 1978: 5].
Развитие капитализма сопровождается существенным расширением «коллективного потребления» (жилье, транспорт, образование, социально-культурные блага и т. п.). Отчасти это обусловлено тем, что господствующим классам значительно легче пойти на уступки в сфере потребления, чем в сфере производства или в вопросах распределения политической власти, а технологический прогресс расширяет возможности реагировать на требования в этой области и одновременно обеспечивать воспроизводство рабочей силы. В этом проявляется значимость феномена коллективного потребления – как в контексте его использования для аккумулирования капитала, так и в плане смягчения напряженности в социальных отношениях [Ibid.: 17–18].
Но несмотря на расширение коллективного потребления, в котором заинтересована основная масса населения, частнокапиталистические формы производства ресурсов коллективного потребления оказываются недостаточными, что стимулирует государство принять активное участие в данном процессе. Государство все более активно вовлекается в поддержку тех секторов, которые менее выгодны (с точки зрения капитала и извлечения прибыли), но необходимы для функционирования экономики; теперь именно оно становится главным поставщиком услуг, поддерживающих воспроизводство рабочей силы.
Однако вторжение государства в сферу формирования городского пространства, по мнению Кастельса, не столько решает проблему, сколько усугубляет ее. Перекладывая издержки производства и воспроизводства рабочей силы на общество, но при этом оставляя прибыль в частных руках и обеспечивая накопление капитала, государство способствует росту городских бюджетов и, соответственно, аккумулированию налоговых сборов [Ibid.: 42]. Вмешательство государства в процессы воспроизводства рабочей силы не только максимизирует регулятивную роль государства, но и существенно политизирует данный процесс, превращая государство в объект политических требований со стороны различных социальных групп, которые ранее были направлены против экономических акторов, например работодателей. Кроме того, данная тенденция оказывает существенное влияние на процессы интернационализации капитала: для транснациональных кампаний фактическая поддержка скрытых аспектов производства крайне выгодна и позволяет переложить ответственность за инфраструктуру на местную власть и национальное государство [Ibid.: 19–20].
Исследуя процессы трансформации городского пространства в Париже, Кастельс обнаружил отмеченную им и другими исследователями закономерность неравномерного развития городской территории. Обновление практически не затронуло центр города, где были наихудшие жилищные условия; оно имело место прежде всего в тех районах, которые были заселены иммигрантами и другими низкостатусными группами, и этот фактор играл более значимую роль, чем физическое состояние сооружений.
Кастельс убежден, что программа обновления города изначально не была направлена на расширение общественных благ (школы, свободное пространство и т. д.) [Ibid.: 95–96]. Он считает, что результатом городского обновления стала еще большая сегрегация населения города, вытеснение низших страт за пределы Парижа в менее благоустроенные пригороды и расширение площадей, занятых офисами [Castells, 1978: 107]. Тем самым программа обновления не просто стимулировала процесс специализации производственного пространства, но фактически обусловливала его. При этом рост офисов следует рассматривать и как проявление разделения труда и создания больших организаций монополистического капитала. Эта тенденция непосредственно поддерживалась теми структурами, которые осуществляли программу обновления, отражая пространственную логику наиболее динамично развивающихся секторов международного монополистического капитализма [Ibid.: 99].
Зачем государству нужно тратить усилия на поддержание этих тенденций? Кастельс считает, что ответ на этот вопрос лежит в сфере политики: государство обеспечивает электоральную стабильность для действующей власти и снижает вероятность протеста. Программа обновления города разрушала зоны, где были сильны позиции левых; поэтому замена рабочих на офисных работников положительно (с точки зрения власть имущих) сказывалась на электоральном поведении [Ibid.: 104]. Электоральный контроль над Парижем имел для голлистов особое значение, – ив контексте событий 1968 г., когда город стал центром народных выступлений, и в плане идеологической демонстрации Парижа как центра бизнеса и культуры. Кастельс не был склонен считать это результатом осуществления конкретных интенций правящего класса; по его мнению, здесь скорее реализовалась вполне очевидная «логика интересов правящего класса», которая имеет тенденцию ограничивать все то, что ему мешает [Ibid.: 107].
Однако господствующие социальные тенденции не реализуются автоматически, а проявляют себя через борьбу, конфликт, конфронтацию целей и коллективную мобилизацию. Поэтому Кастельс рассматривает деятельность различных групп, акцентируя внимание на том, какое влияние на нее оказала программа обновления города [Ibid.: 107]. Хотя он и выделяет классовые отношения как основу социального конфликта в городском политическом пространстве[414], он отнюдь не считает их единственным источником социальных изменений, а указывает на необходимость учета других факторов городской политики – автономную роль государства, гендерные отношения, этнические и национальные движения и, наконец, специфические городские движения [Castells, 1983:291].
Особое внимание Кастельс уделяет городским социальным движениям, которые возникают в ответ на неспособность государства решить проблемы коллективного потребления и объединяют различные классы и социальные страты против доминирующих интересов капитала. Для большинства жителей города многие формы коллективного потребления – жилье, инфраструктура, транспорт, здравоохранение, образование – являются неотъемлемой частью городского пространства и должны быть гарантированы; для них эти услуги важны сами по себе, и они не воспринимаются в терминах рыночной стоимости. Тем самым городские движения символизируют ориентацию на непосредственные интересы жителей города, а не на достижение экономической выгоды отдельными субъектами городской политики и (или) структурами местного самоуправления. Однако эти движения не гомогенны и внутри них неизбежны «кливиджи»: родителей интересуют школы, квартиросъемщиков – стоимость аренды, домовладельцев – решения о застройке; соответственно, политические позиции участников движений также существенно различаются и обусловлены в большей степени непосредственной заинтересованностью в определенных услугах, чем «классовыми интересами». Поэтому их роль в качестве катализатора социальных реформ довольно ограниченна: они представляют собой скорее реакцию, чем альтернативу; «социальные движения стремятся изменить город, не обладая способностью трансформировать общество» [Ibid.: 107, 327]. Результаты исследования Кастельса показывают, что движения в Париже так и не вызвали существенных качественных изменений в социальном пространстве города, которые он рассматривал в качестве основы идентификации городских социальных движений [Harloe, 1996:241].
Исследование Ричарда Хилла фокусирует внимание на характерных для марксистских исследователей проблемах неравномерности развития современного города и налоговом кризисе [Hill, 1977: 39–60; 1978: 213–240]. Целью его является установление связи между налоговым кризисом, который имел место во многих американских городах, и политической борьбой вокруг него, а также определение возможных траекторий развития американских городов [Hill, 1978: 213].
Как и другие исследователи марксистской ориентации, Хилл подчеркивает, что город есть продукт определенного способа производства. Поэтому в капиталистическом обществе характеристики города и этапы в его развитии определяются и обусловлены производством, воспроизводством и циркулированием процесса накопления капитала [Ibid.: 213–214]. Процесс урбанизации последней четверти XX в., связанный с монополистической стадией накопления капитала, характеризуется «диалектическим взаимодействием процессов централизации корпоративного контроля над капиталом, технологии, организации и децентрализации производства, занятости и торговли, поддерживаемым развитием производительных сил (прежде всего транспорта и коммуникаций) в городском пространстве». Крупнейшие города становятся центрами корпоративного управления, производственных инноваций, прогресса, услуг; при этом развитие городского и сельского пространства все более дифференцируется. Все это происходит на фоне активизации роли государства, которое превращается в важный фактор процесса накопления капитала [Hill, 1978: 214–215, 217].
Неравномерное развитие города обусловлено действием двух «законов капиталистического развития»: законом возрастания размера предприятия (law of increasing firm size) и законом неравномерного развития (law of uneven development). Согласно первому, рост капиталистического производства неизбежно обусловливает концентрацию и централизацию капитала; одновременно усложняется структура предприятий, а механизм их управления становится более комплексным. Капиталистическая конкуренция стимулирует рост и консолидацию бизнеса; его организационные структуры формируют иерархическую сеть местных, региональных, национальных и международных городских центров. Появление крупнейших корпораций изменяет экономическую структуру общества, превращая центры крупных городов в центры управления корпорациями. В результате усиливается дифференциация и иерархизация городского пространства, в котором выделяются три типа городов: 1) небольшие города, связанные с местным производством, 2) региональные города, которые координируют деятельность первых и 3) национальные и мировые центры, в которых располагается управление транснациональных корпораций. Последние и определяют общие цели и направление политики[415].
Закон неравномерного развития обусловлен свободой инвестиций и перемещения капитала в те зоны, которые дают максимальную прибыль: стремление к рациональному использованию капитала стимулирует одновременно создание рабочих мест на одних территориях и безработицу на других, богатство и бедность, развитие и стагнацию. Отражением закона неравномерного развития выступают различия между столицей и периферией, быстро и медленно развивающимися территориями (Sunbelt и Snowbelt), пригородами и центром города [Ibid.: 215]. В центре внимания Хилля – процесс «пригородизации» (suburbanization), который он связывает с динамикой неравномерного развития. Хилл считает, что политика, которая позволила сформировать фактически новое социальное и физическое окружение пригорода, была обусловлена стремлением обеспечить высокий уровень потребления и производства для создания новых возможностей выгодного инвестирования и накопления капитала[416]. Однако рост в одном месте имел место за счет других территорий с менее развитой инфраструктурой[417]. Таким образом, развитие одних территорий ведет к сужению перспектив развития других, и оно обусловлено не отдельными и случайными факторами, а представляет собой следствие структурных противоречий капитализма.
Другим следствием является налоговая проблема, которая традиционно вызывает повышенный интерес у марксистских исследователей [O’Connor, 1973; Tabb, 1982], объяснения которого существенно отличались от тех, что были предложены исследователями других теоретико-методологических ориентаций. Марксисты стремятся показать, что налоговый кризис не является некой аномалией в здоровой экономике, а представляет собой ее естественное следствие и одновременно выражение классовой борьбы; при этом городские финансовые проблемы обусловлены факторами, находящимися за пределами городского пространства.
В условиях монополистического капитализма возрастают расходы городов на выполнение двух важнейших функций – накопления капитала и поддержания социального порядка. Для накопления капитала нужны инвестиции в инфраструктуру и рабочую силу, обеспечивающие рост производительности труда; поэтому корпорации и финансовые инвестиции привлекаются именно в те города и регионы, где имеют место благоприятные условия. Для привлечения инвестиций города вынуждены идти на существенные траты ресурсов, часто большие, чем имеется у города в наличии. Дополнительное финансирование идет из федерального бюджета или бюджета штата. Это, как отмечалось ранее, может вызвать рост экономики и благосостояния одних территорий, но при этом способствовать свертыванию производства, росту безработицы, бедности и, как следствие, накапливанию потенциала протеста в других регионах. Для поддержания социального порядка, а также под давлением групп, требующих усилить социальную помощь, местные власти вынуждены увеличивать затраты на выполнение второй функции. Все это обусловливает рост бюджета и «структурный разрыв» между величиной трат и имеющимися в распоряжении города ресурсами [Hill, 1978: 217–218].
Таким образом, дефицит бюджета возникает в силу того, что город принимает на себя издержки накопления капитала, но практически получает только часть прибыли; другая часть фактически присваивается частными корпорациями и теми, кто живет в пригородах за пределами налоговой юрисдикции города. Доля федеральных средств в городском бюджете постоянно растет, и в случае сокращения поступлений извне городу приходится повышать налоги и (или) брать займы, что вызывает рост недовольства со стороны налогоплательщиков, усиление давления на местные власти в пользу сокращения бюджета, а также отток бизнеса из города; оставшиеся в городе испытывают еще большее налоговое бремя, а безработица растет, обостряя налоговый кризис. В этом контексте Хилл рассматривает политическую борьбу в городе, которая, по сути, и разворачивается вокруг налогового кризиса. Его основной вывод состоит в том, что в перспективе налоговый кризис будет только усиливаться, поскольку структурные ограничения не позволяют городу реализовать одновременно растущие потребности городского населения и запросы частного капитала.
Рассматривая возможные сценарии развития американских городов в целом («покинутый город», «реформистский государственно-капиталистический город», «реорганизованный социалистический город»), Хилл указывает, что хотя имеют место основания для развития всех типов городов, преобладает тенденция в пользу «государственно-капиталистического» города, который представляет собой «интегральную единицу корпоративного государственного капитализма, объединяющую государственные, городские, муниципальные и районные формы организации в городскую политическую систему, управляющуюся в соответствии с принципами корпоративного планирования и становящуюся географически, политически и экономически эффективным пространством развития экономики». В то же время возможности альтернативного развития города в направлении удовлетворения потребностей большинства населения в конечном счете зависят от динамики отношений между налоговым кризисом и конкретными видами политической борьбы [Ibid.: 230,237].
Специальное внимание Хилл уделяет борьбе чернокожего населения, количество которого в больших городах существенно возросло. Он показывает, что она велась «на трех фронтах»: «1) рост требований по повышению уровня и качества предоставления услуг на территориях проживания чернокожего населения; 2) интенсификация борьбы за увеличение доли рабочих мест (для чернокожего населения. – В. Л.); 3) ориентация на завоевание власти в городском совете как необходимое условие изменения бюджетных приоритетов, улучшения качества городских услуг в черных районах и обеспечения рабочих мест». Хилл считает, что политическая борьба чернокожего населения дала ощутимые плоды во многих городах: хотя наименее престижные рабочие места по-прежнему диспропорционально заняты афроамериканцами, они тем не менее получили доступ к рабочим местам более высокого уровня и обозначилась тенденция роста их занятости в муниципальном секторе. Более того, в городах с преобладанием чернокожего населения появились мэры и другие официальные лица афроамериканского происхождения [Ibid.: 226–227].
Марксистские подходы к исследованию городской политики естественно стали объектом критики, касающейся как теоретико-методологических оснований исследования, так и отдельных недостатков, присущих конкретным подходам. Многих комментаторов совершенно не убеждают функционалистские по своей сути утверждения о том, что государство «должно» предпринимать усилия в интересах капитала. В этом случае остается неясным вопрос о том, «как эти “императивы” возникают и воспроизводятся через политику; кроме того, они не объясняют, каким образом и почему политические акторы могут их не “выполнить”» [Mollenkopf, 2007: 105].
Наиболее радикально настроенные оппоненты посчитали, что марксисты «оказались в ловушке наиболее абстрактных и воинственных категорий» и «не видят в городском пространстве ничего, кроме “аккумуляции” “циркулирования капитала”, “классовой борьбы” и “воспроизводства рабочей силы”»: конфликты в городской политике рассматриваются в основном сквозь призму классовой борьбы, а ее (угнетенные) участники идентифицируются как «рабочие»; при этом не учитывается существенное различие между капиталистами и предпринимателями «машин роста». У Домхофф подчеркивает, что проблемы развития города неправомерно рассматривать как отражение конфликта между трудом и капиталом: «классовая борьба может объяснить все, а значит, ничего». А те авторы, которые не сводят политическую борьбу в городе к классовой борьбе и делают акцент на городских движениях, также опираются на абстрактную логику, аналогичную логике классовой борьбы. В частности, ситуации, где фактически имеют место конфликты между «машиной роста» и отдельными городским территориями, Кастельс[418]пытается объяснить как проявление социальной борьбы, направленной на реализацию проектов, альтернативных существующему способу производства и тенденциям современного развития [Domhoff, 1986: 70–74][419].






