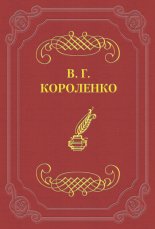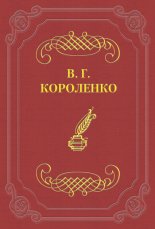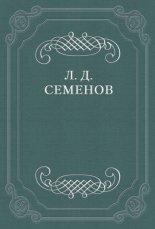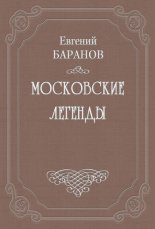Возвращение с Западного фронта (сборник) Ремарк Эрих Мария

– Запросто, – сказал я. – Сколько душе будет угодно.
– Тогда пойдем в субботу в курзал. Там состоится последний большой бал года.
– Но ведь тебе не разрешают выходить по вечерам.
– Это запрещено почти всем, однако все преспокойно выходят.
На моем лице отразилось опасение.
– Робби, – сказала Пат, – когда тебя здесь не было, я строго соблюдала все, что мне предписывалось. От перепуга стала совсем паинькой. Но все оказалось впустую. Мне стало хуже. Не перебивай меня – заранее знаю, что ты скажешь. И также знаю, что поставлено на карту. Но в оставшееся мне время, когда ты рядом, разреши мне делать все, что я захочу.
Пурпуровый свет заката окрасил ее лицо. Глаза смотрели серьезно, спокойно и очень нежно. О чем мы говорим? – подумал я и почувствовал сухость во рту. Разве можно вот так стоять и говорить о том, что никогда не должно, не смеет произойти! А ведь именно Пат произносит все эти слова, произносит их невозмутимо, беспечально, словно ничего уже поделать нельзя, словно нет хотя бы самого крохотного остатка обманчивой надежды. Вот рядом со мной стоит Пат, почти ребенок, которого я обязан оберегать. И вдруг она сама отходит от меня далеко-далеко, породнившись с тем безымянным, что таится за гранью бытия, и покорившись ему.
– Очень прошу, пожалуйста, не говори так, – пробормотал я наконец. – Я просто подумал, не посоветоваться ли нам сначала с врачом.
– Ни с кем мы с тобой советоваться не будем, ни с кем! – Она вскинула свою красивую маленькую головку. На меня смотрели любимые глаза. – Больше ничего не хочу знать. Хочу только одного – быть счастливой.
Вечером в коридорах санатория слышались шушуканье, беготня. Пришел Антонио и вручил Пат приглашение на вечеринку, которую устраивал у себя в комнате какой-то русский.
– А разве я могу так просто, за здорово живешь, пойти с тобой? – спросил я.
– Это здесь-то! Конечно, можешь.
– Здесь можно делать многое, чего вообще делать нельзя, – сказал Антонио.
Русский оказался смуглолицым пожилым человеком. Он занимал две комнаты, устланные множеством ковров. На комоде стояли бутылки с водкой. В комнатах, освещенных только свечами, был полумрак. Среди гостей выделялась очень красивая молодая испанка. Выяснилось, что празднуется ее день рождения. От мерцания свечей создавалось какое-то особенное настроение. Сумрачные комнаты, где собралось некое братство людей, объединенных общей судьбой, чем-то напоминали мне фронтовой блиндаж.
– Что желаете пить? – спросил меня русский. Его низкий голос звучал очень тепло.
– Что найдется, то и выпью.
Он принес бутылку коньяку и графин с водкой.
– Вы здоровы? – спросил он.
– Да, – смущенно ответил я.
Он предложил мне папиросу. Мы выпили.
– Видимо, здесь многое кажется вам странным, правда? – заметил он.
– Не сказал бы, – ответил я. – Я вообще не очень-то привык к нормальной жизни.
– Да, – сказал он и, сощурив глаза, посмотрел на испанку. – Здесь, в горах, свой, особый, мир. Он изменяет людей.
Я кивнул.
– И болезнь здесь особая, – задумчиво добавил он. – От нее как-то оживляешься. А иногда даже становишься лучше. Какая-то мистическая болезнь. Она расплавляет шлаки и выводит их.
Он встал, слегка поклонился мне и подошел к улыбавшейся ему испанке.
– Сентиментальный трепач, верно? – сказал кто-то позади меня.
Лицо без подбородка. Шишковатый лоб. Беспокойно бегающие, лихорадочные глазки.
– Я здесь в гостях, – сказал я. – А вы разве нет?
– На это он и ловит женщин, – продолжал он, не слушая меня. – Только на это он их и ловит. И вот эту малышку тоже поймал.
Я промолчал.
– Кто это? – спросил я Пат, когда он отошел от нас.
– Музыкант. Скрипач. Безнадежно влюблен в эту испанку. Так влюбиться можно только в горах. Но она и знать его не хочет. Любит своего русского.
– И я бы на ее месте так.
Пат рассмеялась.
– По-моему, в такого мужчину нельзя не влюбиться. Ты не находишь? – сказал я.
– Нет, не нахожу, – ответила она.
– Ты здесь никогда не была влюблена?
– Не очень.
– Впрочем, мне это безразлично, – сказал я.
– Вот так признание! – Пат выпрямилась. – А я-то думала, что это тебе никак не должно быть безразлично.
– Да я не в таком смысле. Даже не могу объяснить тебе в каком. Не могу потому, что так и не понял, что, собственно, ты во мне нашла.
– Уж это моя забота, – ответила Пат.
– Но ты-то сама это понимаешь?
– Не совсем точно, – ответила она с улыбкой. – Иначе это уже не было бы любовью.
Бутылки с водкой русский оставил на комоде. Я налил себе и выпил несколько рюмок. Царившее здесь настроение угнетало меня. Очень тяжело было видеть Пат среди всех этих больных.
– Тебе тут не нравится? – спросила она.
– Не слишком. К этому нужно привыкнуть.
– Бедненький ты мой, дорогой… – Она погладила мою руку.
– Я не бедненький, если ты рядом, – сказал я.
– А Рита, по-твоему, не очень хороша собой?
– Не очень, – сказал я. – Ты красивее.
На коленях молодой испанки лежала гитара. Девушка взяла несколько аккордов. Потом запела, и мне показалось, что в полумраке вдруг откуда-то появилась и парит неведомая темная птица. Рита пела испанские песни, пела негромко, чуть хрипловатым и ломким, больным голосом. И я не мог понять – то ли из-за этих непривычных и грустных напевов, то ли из-за берущего за душу и какого-то вечернего голоса девушки, то ли из-за теней, отбрасываемых больными, сидевшими в креслах или прямо на полу, то ли, наконец, из-за выразительного, крупного и смуглого лица нашего русского хозяина, – не знаю отчего, но вдруг мне показалось, что все происходящее – не более чем слезное и тихое заклинание судьбы, притаившейся там, за занавешенными окнами, не более чем мольба, крик и страх, боязнь остаться наедине с неслышно подтачивающим тебя небытием.
Наутро Пат, оживленная и радостная, перебирала свои платья.
– Слишком широкими стали… слишком широкими… – машинально бормотала она, стоя перед зеркалом. Потом повернулась ко мне: – Ты привез с собой смокинг, милый?
– Нет, – сказал я. – Не думал, что он мне здесь понадобится.
– Тогда пойди к Антонио. Он тебе одолжит. У вас совершенно одинаковые фигуры.
– А он что наденет?
– Он наденет фрак. – Она прихватила булавкой складку на платье. – Кроме того, пойди покатайся на лыжах. Мне нужно поработать. А при тебе я не смогу.
– Несчастный Антонио, – сказал я. – Я его просто граблю. Что бы мы делали без него!
– Он хороший парень, правда?
– Да, это правда, – ответил я. – Именно хороший парень.
– Не знаю, как бы я обошлась без него, когда была тут одна-одинешенька.
– Не надо вспоминать об этом. С тех пор прошло столько времени.
– Правильно. – Она поцеловала меня. – А теперь иди кататься.
Антонио уже ждал меня.
– Признаться, я и сам догадался, что вы приехали без смокинга, – сказал он. – Примерьте-ка мой.
Смокинг был чуть узковат в плечах, но в общем подошел.
– Завтра повеселимся на славу, – заявил он. – К счастью, вечером в конторе будет дежурить маленькая секретарша. Старая Рексрот ни за что не выпустила бы нас. Ведь официально все это запрещено. Но неофициально мы, разумеется, уже не дети.
Мы пошли на лыжах. Я уже довольно прилично овладел ими, и не имело смысла снова тренироваться на учебной поляне. Нам встретился мужчина с бриллиантовыми кольцами на пальцах, в клетчатых штанах, с пышной бабочкой на шее – так одеваются художники.
– И чего только здесь не увидишь, – сказал я.
Антонио улыбнулся:
– Этот как раз довольно важная персона. Он – сопроводитель трупов.
– Как это? – не понял я.
– Сопроводитель трупов, – повторил Антонио. – Ведь сюда стекаются туберкулезники со всего света. Особенно много из Южной Америки. А большинство семей желает хоронить своих близких на родине. И вот такие сопроводители, конечно, за приличное вознаграждение доставляют цинковые гробы к месту назначения. Так они постепенно богатеют и разъезжают по всему свету. А вот этого смерть сделала настоящим денди, в чем вы могли убедиться.
Еще некоторое время мы поднимались вверх, потом встали на лыжи и помчались. Белые склоны вздымались и опускались, а за нами, неистово тявкая и повизгивая, утопая по грудь в снегу, красно-коричневым шариком несся Билли. Он снова привык ко мне, хотя в пути частенько поворачивал обратно и с развевающимися ушами летел напрямик к санаторию.
Я отрабатывал поворот «христиания». Всякий раз, когда я скользил вниз по склону и, готовясь к развороту, расслаблялся всем телом, я загадывал: «Если получится, если устою на ногах, то Пат выздоровеет». Ветер свистел мне в лицо, лыжи зарывались в тяжелый снег, но раз за разом я карабкался вверх, находил все более крутые спуски, все более пересеченные участки, и когда опять и опять все выходило как нельзя лучше, я шептал: «Спасена!» Конечно, я понимал, что это глупо, но все-таки радовался, чего со мной давно уже не бывало.
В субботу вечером состоялся массовый тайный побег. Антонио заказал сани, которые ожидали нас на спуске, чуть в стороне от санатория. Сам Антонио в лакированных туфлях и распахнутом пальто, из-под которого сверкала белоснежная манишка, сел на салазки и, оглашая воздух тирольскими фиоритурами, скатился по склону прямо к санным упряжкам.
– С ума сошел парень, – сказал я.
– А он часто так, – ответила Пат. – Легкомыслен до беспредельности. Только это и выручает его. Иначе он бы не мог постоянно пребывать в таком хорошем настроении.
– Понятно. А теперь я тебя как следует укутаю.
Я завернул ее во все пледы и шарфы, какие нашлись. Затем наш длинный санный поезд двинулся вниз. Удрали все, кто только мог. Можно было подумать, будто в долину спускается свадебный кортеж – так празднично колыхались при лунном свете пестрые султаны на головах лошадей, так много было хохота и шуток, которыми перебрасывались седоки.
Курзал был убран с расточительной роскошью. Когда мы прибыли, танцы уже начались. Для гостей из санатория приготовили специальный угол, защищенный от сквозняка. В теплом воздухе пахло цветами, духами и вином.
За нашим столиком сидело довольно много людей: русский, Рита, скрипач, какая-то старуха в жемчугах, рядом с ней какая-то размалеванная маска смерти и нанятый ею жиголо, Антонио и еще кое-кто.
– Пойдем, Робби, – сказала Пат, – попробуем потанцевать.
Паркет медленно закружился. Скрипка и виолончель словно откуда-то сверху выводили нежную кантилену, выделявшуюся на фоне тихо рокочущего оркестра. Едва слышно шаркали по полу ноги танцующих.
– Послушай-ка, любимый мой! Вдруг выясняется, что ты отлично танцуешь, – удивленно сказала Пат.
– Ну уж прямо отлично…
– Правда, отлично. Где ты научился?
– Еще у Готтфрида, – сказал я.
– В вашей мастерской?
– Да, и в кафе «Интернациональ». Ведь для танцев нужны партнерши. Так вот Роза, Марион и Валли наводили на меня последний лоск. Боюсь, однако, что особого изящества они мне так и не привили.
– А вот и привили! – Ее глаза сияли. – Ведь мы с тобой впервые танцуем вдвоем, Робби!
Рядом с нами танцевал русский с испанкой. Он приветливо улыбнулся и кивнул нам. Испанка была очень бледна. Блестящие черные волосы вороньим крылом окаймляли ее лоб. Она танцевала с неподвижным серьезным лицом. Запястье украшал браслет из крупных четырехугольных изумрудов. Ей было восемнадцать лет. Скрипач, сидевший за столиком, не спускал с нее жадных глаз.
Мы вернулись к столу.
– А теперь дай мне сигарету, – попросила Пат.
– Лучше воздержись, – осторожно возразил я.
– Только несколько затяжек, Робби. Я так давно не курила.
Она взяла сигарету, но вскоре отложила ее.
– Что-то не нравится мне эта сигарета, Робби. Она просто невкусна.
Я засмеялся:
– Так бывает всегда, когда человек долго чего-то лишен.
– Но ведь ты и меня был долго лишен.
– Это относится только к ядам, – пояснил я. – Только к водке и куреву.
– Люди, дорогой мой, куда более страшный яд, нежели водка и табак.
Я снова рассмеялся:
– А ты, я вижу, неглупый ребенок, Пат. Соображаешь.
Она положила руки на стол и посмотрела на меня.
– В сущности, ты никогда не принимал меня всерьез, – сказала она.
– Я самого себя никогда не принимал всерьез, – ответил я.
– Но меня ведь тоже нет. Скажи правду.
– Этого я не знаю. Однако нас вдвоем я всегда принимал просто ужасно всерьез. Вот это я знаю.
Она улыбнулась. Антонио пригласил ее на танец, и они вышли на паркет. Я смотрел, как Пат танцует. Она улыбалась мне всякий раз, когда оказывалась около меня. Ее серебряные туфельки едва касались пола. В ее движениях было что-то от грациозности антилопы.
Русский опять танцевал со своей испанкой. Его крупное смуглое лицо выражало сдержанную нежность. Скрипач попытался пригласить испанку на танец, но она отрицательно покачала головой и снова пошла на площадку с русским.
Длинными костлявыми пальцами скрипач раскрошил сигарету. Вдруг мне стало его жаль, и я предложил ему другую сигарету. Он отказался.
– Я должен беречь себя, – сказал он срывающимся голосом.
Я кивнул.
– А вот этот, – продолжал он и, хихикнув, указал на русского, – каждый день выкуривает по пятьдесят штук.
– Что ж, один ведет себя так, а другой наоборот, – ответил я.
– Пусть она сейчас не хочет танцевать со мной. Все равно будет моей.
– Кто будет вашей?
– Рита. – Он придвинулся поближе. – У нас с ней были хорошие отношения. Мы вместе выступали. А потом приехал этот русский и своими пышными тирадами увел ее у меня из-под носа. Но ничего – я заполучу ее.
– Для этого вам придется очень постараться, – сказал я. Он мне определенно не нравился.
Скрипач глуповато расхохотался:
– Это мне-то стараться? Наивный вы ангелочек! Не стараться мне нужно, а просто ждать.
– Что ж, тогда просто ждите.
– По пятьдесят сигарет, – продолжал он. – Каждый день. Вчера я видел его рентгеновский снимок. Живого места нет – каверна на каверне. Конец! – Он снова расхохотался. – Сперва мы с ним шли вровень. Его рентгеновские снимки можно было принять за мои и наоборот. Посмотрели бы вы, какая теперь разница! Вдобавок я прибавил два фунта. Нет, уважаемый, мне нужно только беречь себя и ждать. Я уже предвкушаю его следующий снимок. Сестра мне всегда показывает. Понимаете? Он исчезнет, и настанет мой черед.
– Что ж, и это способ, – сказал я.
– «И это способ»! – передразнил он меня. – Это единственный способ, птенец вы желторотый! Если бы я активно попытался встать ему поперек пути, то потом она на меня и смотреть не захотела бы. Так что… мотайте на ус, приготовишка… Надо вести себя дружелюбно и спокойно… Надо уметь ждать…
В зале становилось душно. Пат закашлялась. Я заметил, что при этом она боязливо покосилась на меня, и притворился, будто ничего не услышал.
Старуха в жемчугах, погруженная в собственные мысли, сидела не шевелясь и время от времени неожиданно разражалась громким хохотом. Потом снова успокаивалась и застывала в неподвижности. Размалеванная маска смерти ссорилась со своим жиголо. Русский курил сигарету за сигаретой. Скрипач услужливо подавал ему огонь. Какая-то девушка внезапно судорожно поперхнулась, поднесла ко рту носовой платок, заглянула в него и побледнела.
Я смотрел в зал. В нем были расставлены столики для спортсменов, для местных жителей, для французов, англичан и голландцев, чей язык с его характерными растянутыми слогами почему-то вызывал у меня представление о лугах, о море… И среди всей этой пестроты пристроилась небольшая колония болезни и смерти. Ее лихорадило, и она была прекрасна в своей обреченности.
«Луга и море. – Я посмотрел на Пат. – Луга и море – пена прибоя – песок – заплывы – о, любимый и такой знакомый лоб! – подумал я. – Любимые мои руки! Любимая жизнь, которую я могу только любить, но спасти не умею…»
Я поднялся и вышел на воздух. От тревоги и бессилия я покрылся испариной. Я медленно побрел по дороге. Холод пронизывал меня, а от порывов ветра, вырывавшихся из-за домов, моя кожа покрылась пупырышками. Я сжал кулаки и, охваченный каким-то буйным чувством, в котором смешались ярость, бешенство и неизбывная боль, долго смотрел на суровые белые горы.
Внизу, на дороге, послышались бубенцы – проехали сани. Я пошел обратно. Пат шла мне навстречу.
– Где ты был?
– Захотелось пройтись.
– У тебя дурное настроение?
– Нет, нисколько.
– Радуйся, дорогой мой! Сегодня радуйся! Ради меня! Кто знает, когда я снова смогу пойти на бал?
– На балы ты будешь ходить очень часто.
Она прильнула к моему плечу.
– Раз ты это говоришь, значит, так оно наверняка и будет. Пойдем потанцуем. Сегодня мы впервые танцуем вдвоем.
Мы еще потанцевали, и теплый мягкий свет милосердно маскировал тени, которые в этот поздний час проступали на лицах.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил я.
– Хорошо, Робби.
– Какая ты красивая, Пат!
Ее глаза засветились.
– Как хорошо, что ты мне это говоришь!
Я ощутил на своей щеке ее теплые, сухие губы.
В санаторий мы вернулись совсем поздно.
– Вы только посмотрите, какой у него вид, – хихикнул скрипач и украдкой показал на русского.
– У вас точно такой же вид, – раздраженно ответил я.
Он ошарашенно взглянул на меня, а потом ехидно проговорил:
– Ну понятно – вы-то сами здоровы как бык! Что вам до этих нюансов!
Я подал русскому руку. Он пожал ее с легким поклоном, затем бережно и нежно помог молодой испанке подняться по лестнице. Я смотрел, как они шли наверх, освещенные ночными лампочками, и почему-то мне подумалось, что на этой крупной сутулой спине и на хрупких плечах девушки вся тяжесть мира.
Маска смерти волокла по коридору заартачившегося жиголо. Антонио пожелал нам доброй ночи, и в этом почти беззвучном прощании было что-то призрачное.
Пат снимала платье через голову. Она стояла согнувшись и дергала что-то у плеча. При этом порвалась парча. Пат пригляделась к месту разрыва.
– Платье, видимо, уже изрядно поистрепалось, – сказал я.
– Не важно, – сказала Пат. – Думаю, что оно мне уже не понадобится.
Она медленно сложила платье, но не повесила его в шкаф, а поместила в чемодан. И вдруг на ее лице как-то сразу обозначилась усталость.
– Посмотри-ка, что я припасла, – быстро сказала она и вынула из кармана пальто бутылку шампанского. – Сейчас мы устроим себе отдельный маленький праздник.
Я взял стаканы и наполнил их. Улыбаясь, она отпила глоток.
– За нас с тобой, Пат.
– Да, дорогой, за нашу с тобой прекрасную жизнь.
Но как же все это было ни на что не похоже – и эта комната, и эта тишина, и наша печаль. Разве не раскинулась за дверью огромная, бесконечная жизнь, с лесами и реками, полная могучего дыхания, цветущая и тревожная, разве по ту сторону этих больших гор не стучался беспокойный март, будоража просыпающуюся землю?
– Ты останешься у меня на ночь, Робби?
– Останусь. Ляжем в постель и будем так близки, как только могут быть близки люди. Стаканы поставим на одеяло и будем пить.
Шампанское. Золотисто-коричневая кожа. Предвкушение. Бодрствование. А потом тишина и едва слышные хрипы в любимой груди.
Снова задул фен. Он шумно гнал сквозь долину влажное тепло. Снег оседал. С крыш капало. Температурные кривые больных ползли вверх. Пат должна была оставаться в постели. Каждые два-три часа ее смотрел врач, чье лицо становилось все более озабоченным.
Однажды, когда я обедал, ко мне подошел Антонио и сел за мой столик.
– Рита умерла, – сказал он.
– Рита? Это вы о русском?
– Нет, это я о Рите, об испанке.
– Не может быть, – сказал я, похолодев. В сравнении с Пат Рита была гораздо менее опасно больна.
– Здесь может быть больше, чем вы думаете, – грустно возразил Антонио. – Она умерла сегодня утром. Все осложнилось воспалением легких.
– Ах, воспаление легких! Это другое дело, – облегченно сказал я.
– Восемнадцать лет. Страшно все-таки. И как тяжело она умирала.
– А что с русским?
– Лучше не спрашивайте. Никак не хочет поверить, что она мертва. Уверяет, что это мнимая смерть. Не отходит от ее постели, никто не может увести его из комнаты.
Антонио ушел. Я уставился в окно. Рита умерла, а я сидел и думал лишь об одном: это не Пат. Это не Пат.
Сквозь остекленную дверь коридора я увидел скрипача. Не успел я встать, как он уже направился ко мне. Выглядел он ужасно.
– Вы курите? – спросил я, чтобы что-то сказать.
Он громко рассмеялся:
– Конечно, курю! А почему бы и нет? Теперь-то уже все равно.
Я пожал плечами.
– Вам все это небось смешно. Строите из себя этакого порядочного! Кривляка! – насмешливо проговорил он.
– Вы что, спятили? – удивился я.
– Спятил ли я? Нет, не спятил. Просто влип! – Он перегнулся через стол и обдал меня коньячным перегаром. – Я влип. Они подложили мне свинью. Да и сами они свиньи. Все! И вы тоже – добродетельная свинья!
– Не будь вы больны, я бы вышвырнул вас в окно, – сказал я.
– Больны, больны! – передразнил он. – Вовсе не болен я, а здоров. Или почти здоров. Только что видел свой снимок. Редкостный случай чрезвычайно быстрой инкапсуляции! Звучит прямо как анекдот, верно?
– Так радоваться вам надо! – сказал я. – Уедете отсюда, и все ваши горести позабудутся.
– Вот как! – удивился он. – Неужто вы это серьезно? До чего же у вас практический умишко! Да хранит Господь вашу толстокожую душу!
Он отошел на нетвердых ногах, но тут же обернулся.
– Айда со мной, пошли! Не покидайте меня. Давайте как следует выпьем. За мой счет, разумеется. Не могу я оставаться в одиночестве…
– Нет у меня времени, – сказал я. – Найдите себе кого-нибудь другого…
Я снова поднялся к Пат. Опираясь на гору подушек, она тяжело дышала.
– Тебе не хочется походить на лыжах? – сказала она.
Я покачал головой:
– Снег никуда не годится. Везде тает.