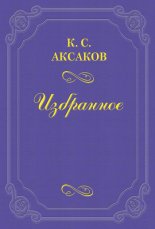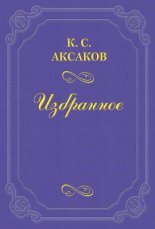Русский канон. Книги XX века Сухих Игорь

Но аргументы и уговоры не действуют. Русский человек на rendez-vous проигрывает и здесь. «Я ведь заехала проститься. Если ты не согласен, мы уезжаем одни. Это решено».
При выходе из Заповедника стоят две важные, почти символические сцены. Напившись в одиночку в лесу после отъезда жены, герой вдруг обретает искомое состояние спокойствия, гармонии, единства с миром: «Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары. Какая-то липкая дрянь заползала в штанину. Да и трава казалась сыроватой.
Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона. Как на телеэкране проплывали облака. И даже паутина выглядела украшением…»
Точно так же (совпадают даже отдельные детали) вдруг почувствовал свое единство с миром один классический «лишний» – толстовский юнкер Оленин из «Казаков». «Оленин готов был бежать от комаров: ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И, странное дело, к полудню это ощущение стало ему даже приятно… Ему было прохладно, уютно; ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он по старой привычке стал креститься и благодарить кого-то… И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде».
А потом – и впервые в довлатовских текстах – происходит встреча с частью той безликой силы, которая давит, губит, не пущает. Пришедший после грандиозного загула в местное отделение КГБ, Алиханов встречает не монстра, а человека с «долгим, грустным, почти трагическим взглядом» и улыбкой, выражающей «несовершенство мира и тяжелое бремя ответственности за чужие грехи». Впрочем, это театральная маска. Проведя обязательную воспитательную беседу, майор Беляев достает стаканы, и начинается теплая мужская выпивка и разговор «за жизнь» (Е. А. Тудоровская видела здесь аналогию с сатирической поэмой А. К. Толстого «Сон Попова», Н. Елисеев – с допросом Швейка жандармским вахмистром Фланеркой в романе Я. Гашека).
Беляев оказывается еще большим диссидентом, чем Алиханов. Он глубоко копает в вопросах сельского хозяйства, почище нынешних социальных мыслителей («Допустим, можно взять и отменить колхозы. Раздать крестьянам землю и тому подобное. Но ты сперва узнай, что думают крестьяне? Хотят ли эту землю получить?.. Да на хрена им эта блядская земля?!»), предсказывает советской власти гибель от водки, по-дружески предупреждает героя об осторожности и признается в своей тайной мечте «рвануть отсюда».
Паломничество к Пушкину завершается любимым довлатовским оксюмороном: «Я шел и думал – мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда…»
Но если мир таков, то по-своему безумен и центральный герой. Он – последний защитник своей «безумной страны», – вопреки очевидности, уговорам, доводам разума. Впрочем, и эта крепость в конце концов сдается.
Обмен репликами в сцене прощания в аэропорту – лаконичная довлатовская метафизика, заменяющая философские словоизвержения. «Как ты думаешь, мы еще увидимся? – Да я уверена. Совершенно уверена. – Тогда я, может, поверю, что Бог – есть. – Мы увидимся. Бог есть…»
А дальше следует личный апокалипсис с его «времени больше не будет»: «Время остановилось. Эти несколько секунд я ощутил как черту между прошлым и будущим.
Автобус тронулся.
Теперь можно было ехать домой, не прощаясь…
Одиннадцать дней я пьянствовал в запертой квартире».
Звонок жены оттуда, «с того света» – это начало «нового неба и новой земли», новой жизни.
Как джазовый музыкант в конце импровизации пробегает по всем клавишам, Довлатов на последней странице «Заповедника» напоминает ключевые мотивы повести.
Алкоголь. «Выпивка кончилась. Деньги кончились. Передвигаться и действовать не было сил… “Ты выпил?” Я рассердился: “Да за кого ты меня принимаешь?!..”»
Безумие. «На одиннадцатые сутки у меня появились галлюцинации… В ногах у меня копошились таинственные, липкие гады. Во мраке звенели непонятные бубенчики. По одеялу строем маршировали цифры и буквы».
Смерть. «Один раз я прочел: “Непоправима только смерть!..” Не такая уж глупая мысль, если вдуматься».
Поэтическая метафизика. «Я даже не спросил – где мы встретимся? Это не имело значения. Может быть, в раю. Потому что рай – это и есть место встречи. И больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека…» (Один из героев «Преступления и наказания» представлял вечность в виде закоптелой деревенской бани с пауками по углам.)
Остановившееся время. «Вдруг я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно. Все совершалось на моих глазах… »
Любовь. «Моя жена сказала: “Да, если ты нас любишь…” – “При чем тут любовь”, – спросил я. Затем добавил: “Любовь – это для молодежи. Для военнослужащих и спортсменов… А тут все гораздо сложнее. Тут уже не любовь, а судьба…”»
Последнюю точку в интерпретации повести, кажется, позволяют поставить пушкинские ассоциации и мотивы. Дочь героя зовут Маша, что напоминает о «Капитанской дочке». Жена же получает имя героини «Евгения Онегина»: «Итак, она звалась Татьяна…»
Что делает героиня пушкинского романа в стихах в финале?
– Остается с мужем, спасая его честь и свою репутацию: «Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду век ему верна». Она могла бы ответить Онегину и по-другому: это уже не любовь, а судьба.
Что делает героиня «Заповедника»? – Уезжает от мужа, намечая неведомую перспективу, фактически спасая его.
Поступки разные – смысл один. Вечное женское дело спасения простых и вечных ценностей. Защита нормы как формы существования. Нормы, вызывающей ощущение чуда. Ибо на фоне неистовых почитателей Пушкина, свободных художников, крашеных блондинок, запойных пьяниц, стукачей и прочих оригинальных натур – она просто нормальна с заботой о дочке, рваными колготками, мечтами о сносной жизни и неизвестно откуда взявшейся решительностью.
Отсюда и посвящение, которое можно считать содержательной частью текста: «Моей жене, которая была права». Была права, когда предсказывала: «Поедем с нами. Ты проживешь еще одну жизнь…»
Но парадокс в том, что писатель-неудачник Алиханов был прав тоже: мой язык, мои читатели, моя безумная страна... В газетном эссе из «Нового американца», вошедшем в книгу «Марш одиноких», есть письмо, будто бы чудом дошедшее из Ленинграда. «Я же хочу сказать о том, чего нет. И чего газете, по-моему, решительно не хватает.
Ей не хватает твоего прошлого. Твоего и нашего прошлого. Нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности…
Твоя эмиграция – не частное дело. Иначе ты не писатель, а квартиросъемщик. И несущественно – где, в Америке, в Японии, в Ростове.
Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко и несущественно. Все остальное лишь унижает достоинство писателя! Хотя растут, возможно, шансы на успех.
Ты ехал не за джинсами и не за подержанным автомобилем. Ты ехал – рассказать. Так помни же о нас…»
Это обычная довлатовская мистификация. Письмо написано самому себе. При включении в «Ремесло» Довлатов редактирует текст; меняет название улицы, где его «вспоминают у пивных ларьков», вставляет фразы об автомобилях и холодильниках из другого газетного эссе.
«Не бывать тебе американцем. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы… Тебя окружает прошлое. То есть – мы. Безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зеки».
Рассказчик Довлатов и в Америке жил с глазами, обращенными назад. «Березы, оказывается, растут повсюду. Но разве от этого легче?»
Попытка к бегству не удалась. Другая жизнь в значительной части ушла на то, чтобы рассказать о первой. Заповедник – вопреки всему – так и остался одним из главных хронотопов довлатовского мира. А книга о нем – одной из лучших его книг.
Баллада о добром генерале. (1996. «Генерал и его армия» Г. Владимова)
С. Орлов. 1975
- Когда это будет, не знаю,
- В краю белоногих берез
- Победу Девятого мая
- Отпразднуют люди без слез.
- Поднимут старинные марши
- Армейские трубы страны,
- И выедет к армии маршал
- Не видевший этой войны.
«Он ехал, вытянув забинтованную ногу поверх стремени, – слабый и беспомощный, не могший без чьей-нибудь поддержки слезть по нужде. Но наружно он был – всадник, былинного облика воитель и вождь, и, не зная этого, являл собою притягательную силу – человека, знающего куда вести. Если б он передвигался на машине, если б суетился, даже распоряжался энергично, он был бы от многих взоров без пользы скрыт, но человек на коне, пребывающий в спокойствии и раздумье, помещает себя в центр внимания, он вознесен над головами толпы и владеет ее тревогами и надеждами. Он ехал, ослабив поводья, бросив руки на луку седла, морщась от боли, но чувствуя постоянно обращенные к нему взгляды. И далеко окрест разносилась весть о генерале, собирающем несметную силу для отпора».
Весть об этом генерале достигла России в середине девяностых. Роман Г. Владимова был опубликован, обруган, вознесен, удостоен Букеровской премии, недавно признан книгой десятилетия, но вряд ли по-настоящему прочитан – хотя бы потому, что страсти кипели вокруг журнальной редакции, в которой отсутствовали две важные главы, почти пятая часть текста. Полный вариант, появившийся лишь в девяносто седьмом, мало кто заметил и прочел. Телеги споров грохотали уже по другой колее. Многие и до сих пор убеждены, что Владимов написал роман про генерала Власова.
Между тем, «Генерал и его армия» – этап, граница, важная точка на карте новой литературной эпохи промежутка, когда двадцатый век уже закончился, а двадцать первый еще не наступил. Именно в промежутках, как мы знаем, зреют семена литературных революций. Впрочем, Владимов предпочитает как раз позицию, прямо противоположную авангардизму и революционности.
Получая очередную премию, автор – бывший критик – обратил благодарность к методу, имя которого отвыкли без иронии произносить в цивилизованном обществе. «Это все тот же добрый старый реализм, говоря по-научному – изображение жизни в формах самой жизни. Наши суетливые Бобчинские и Добчинские по обе стороны Атлантического океана, спешащие хоть конец света объявить радостно, лишь бы первыми, этот постылый реализм уложили в гроб, отпели и погребли, справили по нему поминки. Но вот стоило ему пошевелиться, и повышенный читательский интерес привлечен к роману, вполне консервативному, в котором нет привычных уже авангардных выкрутасов и постмодернистских загогулин. Похоже, надоели читателю эти выкрутасы и загогулины, точнее надоело делать вид, что ему они интересны, захотелось чего-то внятного, где были бы на месте начало и конец, завязка и развязка, экспозиция и кульминация, все по рецептам старика Гомера. Секрет прост: что жгуче интересно автору, то будет и читателю».
Добрый старый реализм? Это как посмотреть. Суетливые Бобчинские и Добчинские, если бы интересовались чем-нибудь, кроме продукции собственного изготовления, могли бы отлично доказать Владимову, что он сочинил образцовую постмодернистскую книгу, где нет бога, кроме Интертекста, и автору никогда не вырваться из литературной тюрьмы к живой жизни.
Так, генерал – слуга царю, отец солдатам – это уже было (см. хотя бы симоновского Серпилина и бондаревского Бессонова; но чтобы так заявить, надо эти романы хотя бы прочитать, многие ли способны на это сегодня?). Лейтенант, которого он посылает на верную смерть – ленинградец, студент филфака, любитель стихов Симонова, честняга и романтик, 19-летний мужчина, вытягивающий войну (см. «Навеки – девятнадцатилетние» Бакланова и всю лейтенантскую прозу). Ординарец-майор и сам идет в руки: читает «Войну и мир», мечтает о своем Тулоне, да к тому же, согласно ироническому авторскому умыслу, оказывается почти полным тезкой толстовского героя. «Из своего века князь Андрей Николаевич Болконский протягивал свою маленькую руку Андрею Николаевичу Донскому и одобрительно похлопывал по плечу» (так, действительно, получали фамилии незаконные дворянские отпрыски: Репнин становился Пниным, а Трубецкой – Бецким).
А уж о свирепо-заботливом генеральском Савельиче – Шестерикове, разбитном водителе Сиротине, влюбленной в генерала фронтовой сестричке и говорить нечего – см. повсюду от громившего роман В. Богомолова до многочисленных киноподелок на военную тему.
Но в романе есть еще и издевательски прокомментированный список чтения «командарма наступления» Терещенко («…заваливал политуправление фронта приглашениями московским ансамблям и списками заказанных лично для него книг. Были тут и Клаузевиц, и Шекспир, фон Шлиффен и Тургенев, оба Мольтке и Горький; славные имена, однако ж, не расходились с палкой, кулачком и плевками в лицо»), и читающий вольтеровского «Кандида» сам Кобрисов («Венчающая фраза – “Нужно возделывать свой сад” – ему понравилась, он даже подумал, что неплохо бы ее ввернуть на каком-нибудь совещании, когда зайдет речь о восстановлении народного хозяйства: “Как говорил Мари Франсуа Аруэ, он же Вольтер, нужно возделывать свой сад”» – подтрунивает над генералом повествователь), и генеральский разговор с тем филологом-лейтенантом о Симонове и Владимире Луговском, и читающий «Войну и мир», комментирующий ее, пишущий на толстовском столе в Ясной Поляне приказ об отступлении генерал Гудериан, и откровенно перелицовывающая сцену военного совета в Филях картина генеральского совещания, и чисто толстовский прием оговорки по поводу названия места, которое еще не стало историческим, и заимствованное из «Василия Теркина» и прорастающее в текст заглавие («Кому память, кому слава, кому темная вода») и эпиграфы из Некрасова и С. Кирсанова, и много узнаваемых интонаций – от Гайдара (неожиданно!) до Гоголя.
В общем, не война, а изба-читальня! Но как же еще может писать об Отечественной войне писатель тридцать первого года рождения?
Однако это – пусть и не старый добрый, а новый – реализм! Владимов расставляет на литературной доске знакомые фигуры, чтобы сыграть собственную партию. Из многочисленных текстов-источников он создает завершенный мир – с прописанными характерами и обстоятельствами, психологической нюансировкой и богатой повествовательной партитурой, точностью деталей и вырастающей из них символикой – все по рецептам старика Гомера, в теплой тени старика Толстого.
Великая Отечественная война была главным и оказалась последним мифом советской эпохи. Его формирование было как директивным, так и объективным. Когда речь идет о спасении нации, другие конфликты кажутся малозначительными. Писавшиеся во время войны рядовая публицистика и поэзия, уникальный «Василий Теркин» были проникнуты единым пафосом. «Жизнь одна, и смерть одна» – «А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим» (точная стилизация Б. Окуджавы).
Позднее серьезная проза, закономерно начинаясь с «Науки ненависти» и четкой патриотической оппозиции «мы – они», постепенно и осторожно, все время наталкиваясь на цензурные ограничения, начала показывать цену нашей победы: предвоенные репрессии, «ошибки» вождя, заигрывание с фашизмом, генеральскую дурь, бездарные отступления и победоносные взятия городов к праздничным датам (неизвестно, что было для солдатской жизни страшнее).
Г. Владимов, полтора десятка лет сидевший над книгой в стране бывшего врага, в немецком тылу (1996, Москва – Niedernhausen – вызывающе стоит в конце текста) пожалуй, впервые складывает эти мотивы в концепцию, создает цельный образ другой войны.
Центральный сюжетный эпизод романа вроде бы знаком, многократно испытан в «военно-производственной» прозе. Малоизвестный, отодвинутый в сторону другими громкими полководцами, «командармами наступления», генерал Кобрисов утирает всем нос – в неожиданном для немцев месте внезапно форсирует Днепр, малой кровью укрепляется на плацдарме, открывая своей армии путь на «жемчужину Украины» Предславль (он же Киев). «Жуков прикусил губу, сдвинув брови, мрачно уставился в карту. О чем теперь задумался маршал? Не о том, что сам поддался эмоциям, позволил втянуть себя в аферу, доверился очевидному, которое вовсе не было очевидным? Поспешил обрадовать Верховного – и этим закрыл все иные возможности, которые вот же углядел этот увалень, преподавший всем урок гениальности? Да, принимая свое “несерьезное” решение, он был хотя бы на минуту гением».
Но вокруг этого эпизода расходятся такие круги, завязываются такие узлы, что исходная ясность очертаний исчезает, кажется, навсегда.
Владимов, что видно уже по заглавию, пишет генеральскую войну. И у него есть свой «совет в Филях», сцена обсуждения кобрисовской удачи, на который собираются командующие соседними фронтами, представители ставки и прочая начальственная элита.
Автор (это его – и толстовский – художественный принцип) перемешивает реальных командармов Советской армии и вымышленных, но легко узнаваемых персонажей. Симпатичный, но все-таки завидующий удаче соседа Чарновский (Черняховский). Флегматичный и больше всех расположенный к Кобрисову Ватутин. Знающий все о своих любимых машинах «танковый батько» Рыбко (Рыбалко). Суетливый, без причины восторженный Хрущев, которому важнее всего пустить пыль в глаза, провести идеологическую работу: Предславль обязательно должен взять командарм-хохол; подарить расписные рубашки интереснее и важнее, чем обсуждать планы наступления, в которых он мало что понимает (здесь, как и в других случаях, Владимов дает психологический портрет в свете будущей карьеры и судьбы члена Военного совета; в самый уголок он иронически впишет и другого будущего партийного генсека, фамилии которого Хрущев так и не вспомнит: «Вот были мы с Николай Федоровичем в Восемнадцатой армии, там такой, значит, начальник политотдела, заботливый такой полковник. Как его, Николай Федорович? Гарнэсенький такой парубок, бровки таки густы… Его, кстати, идея была – символические подарки украинцам-командармам»). Но центром композиции оказывается человек, которого называют маршалом Победы, памятник которому на тонконогом восточном скакуне высится в новой Москве неподалеку от Красной площади и Кремля.
В 1987 году Виктор Астафьев, отвечая на реальные и воображаемые упреки, с неизжитой злостью чудом уцелевшего мальчишки-пехотинца и сокрушительным раздражением не успевающего доделать все продуманное старого писателя напишет другому солдату, автору «ржевской прозы» Вячеславу Кондратьеву (он покончит с собой через несколько лет): «“На святое замахиваетесь! Мало вам Сталина! Так и до Жукова доберетесь!” А между прочим, тот, кто “до Жукова доберется”, и будет истинным русским писателем, а не “наследником”. Ох, какой это выкормыш “отца и учителя”! Какой браконьер русского народа! Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить. Сил наших, ума нашего и мужества не хватит говорить о трагедии нашего народа, в том числе о войне, всю правду, а если не всю, то хотя бы главную часть его».
Владимов пишет не памфлет, а психологический портрет. Но он смотрит на Жукова сходным с астафьевским трезвым и беспощадным взглядом.
Появляясь на совещании последним, маршал и заместитель Верховного сразу меняет расслабленную и дружелюбную атмосферу. «Узнав его, почувствовал и Кобрисов холодок под сердцем и понял, что не одни легенды, бежавшие впереди этого человека, навеивали страх перед ним, но от него и впрямь исходило что-то пугающее… Жесткий взгляд маршала – снизу вверх – ударил ему в лицо, внимательный, вбирающий, точно бы пережевывающий стоящего перед ним, выказывая одно раздумье – съесть его или выплюнуть?»
Жуков откровенно презирает все идеологические погремушки: «За всем не уследишь… На то у нас комиссары есть». Он – «военный, рожденный повелевать», со звериным «чувством противника», пониманием кобрисовской удачи, умением просчитать и предсказать ее далекие результаты. Но «улыбка беззубого ребенка» может мгновенно смениться на его лице «волчьей ухмылкой». Он искренне не понимает, почему Кобрисов отказывается взять так и идущий в руки городишко Мырятин, почему ему жалко на это каких-то десять тысяч. «Любой другой аргумент он бы рассмотрел внимательно и во всех подробностях, этого – он как бы и не расслышал. Тем и велик он был, полководец, который бы не удержался ни в какой другой армии, а для этой-то и был рожден, что для слова “жалко” не имел органа восприятия. Не ведал, что это такое. И, если бы ведал, не одерживал бы своих побед. Если бы учился в академии, где все же приучали экономно планировать потери, тоже бы не одерживал. Назовут его величайшим из маршалов – и правильно назовут, другие в его ситуациях, имея подчас шести-, семикратный перевес, проигрывали бездарно. Он – выигрывал. И потому выигрывал, что не позволял себе слова “жалко”. Не то что не позволял – не слышал», – жестко формулирует повествователь уже из какого-то иного времени, с точки зрения итога этой судьбы.
Но Владимов не только риторически формулирует. На двадцати страницах он пишет объемный психологический портрет. Начинается эта сцена забавной «гоголевской» картинкой встречи: Кобрисов предупредительно открывает дверь, вытягивается перед маршалом и получает жесткий, как удар снизу вверх, взгляд и ехидную реплику: «Ты кто – швейцар или командующий? Я двери и сам умею открывать. Если командующий, то и командуй, куда идти». А кольцуется не менее замечательным диалогом в жанре черного юмора. «Командующий, откуда я вас еще до этой войны помню? Не были на Халхин-Голе? – Был, товарищ маршал. – А по какому поводу встречались? – Кобрисов, помявшись, сказал: – А вы меня к расстрелу приговорили. В числе семнадцати командиров. – А… – Маршал улыбнулся той же улыбкой беззубого ребенка. – Ну, ясно, что к расстрелу, я к другому не приговариваю. Не я конечно, а трибунал. А за что, напомните? – За потерю связи с войсками. – Как же случилось, что живы? – А нас тогда московская комиссия выручила, из генштаба, во главе с полковником Григоренко. (Мир владимовского романа по-домашнему тесен; автор вплетает в нить генеральской судьбы и будущего знаменитого диссидента, генерала Григоренко – И. С.) Они ваш приказ обжаловали, и наоборот, кое-кого к “Красному Знамени” представили. В том числе и меня. Вы же потом и подписали. – Брови маршала сдвинулись на миг и снова разгладились. – Припоминаю. Ну, видите, как хорошо обошлось. И вы теперь связи уделяете должное внимание. – Он протянул руку. – Поработайте еще, товарищ командующий. Желаю успеха».
Итогом главы «Даешь Предславль» оказывается как раз оппозиция «я – они», «свой – не свой», но в парадоксальном, совершенно неожиданном повороте: граница проходит вовсе не по линии фронта.
Терещенко, не считающий солдатских голов, членам совета «свой», а Ватутин, который понимает колебания генерала – нет. «Лучше других ты, Николай Федорович, – думал Кобрисов, глядя ему вслед, – стало быть, тоже не свой. Рано или поздно, а и тебя укатают…»
В свете этой оппозиции строится и «власовский эпизод» (глава «Три командарма и ординарец Шестериков»). В романе Владимова не Верховный, не Жуков, не Панфилов, а другой, сначала не называемый по имени, генерал решает судьбу Москвы, когда на фоне всеобщего бегства и паники решается на безумный встречный удар. «Если бы знать еще с утра, что судьба даст ему пройти в наступлении не два километра, на что он смутно надеялся, и не двадцать, о чем он даже мечтать не смел, но все двести километров – до Ржева – будет его армия гнать перед собою немцев, этим рывком – от малой деревеньки Белый Рас на Солнечногорск – побудив и приведя в движение все шесть соседних армий Западного фронта! Так минута его решимости и час безволия определили судьбу Москвы! И хоть остальное уже от него не зависело, он навсегда входил в историю спасителем русской столицы – той, куда четыре года спустя привезут его судить и казнить, и все же никогда, никакими стараниями не отделят его имя от ее имени».
Владимов в этом романе любит строить действие новеллистически, приберегая ударную, ключевую фразу или деталь для конца главы или эпизода. Когда редкая цепочка людей в сопровождении нескольких танков начинает осторожное движение вперед («До сих пор Шестериков только убегал и прятался, и если бы ему сказали, что он присутствует при начале великого наступления, он бы не то что не поверил, а не допустил бы до ума»), удивленный ординарец спрашивает у танкиста, откуда взялись эти чудные солдаты. И слышит от закрывающего люк лейтенанта (он никогда его больше не откроет, он погибнет через какой-нибудь час – досказывает его судьбу повествователь): «Запоминай, кореш: Двадцатая армия наступает! Командующий-то у нас – Власов Андрей Андреевич. Он же шуток не понимает, все всерьез».
Дальнейшая судьба Власова прокручивается в мыслях Кобрисова (Владимов не раз излагал сходные мысли от своего лица, в публицистике). После всех его удач (вывод армии из Киевского окружения, Москва) он не свершает чуда на Волхове и оказывается в плену. В этом Кобрисов не видит его вины. Генерал понимает: если бы не преданность Шестерикова, он мог бы оказаться там же. Но вместо того, чтобы сыграть в свою игру («Вот что, наверно, следовало сделать Власову – уйти с десятком людей и обрасти армией… Не «жалкая кучка иуд, продавшихся за тридцать сребренников, вдруг «захотела возврата к прошлому»: измена была столь массовой, что уже теряла свое название, впору стало говорить о второй гражданской войне в России. Ну, так и вести ее надобно – под своим знаменем, не выбирая между Гитлером и Сталиным» – автор «Генерала…», как и многие сегодня, отдает дань альтернативной истории), Власов становится игрушкой в руках политиков, жупелом, символом предательства: «боевой генерал, разучившийся понимать, что такое война, русский, разучившийся понимать Россию!»
И вот через два года называемые этим именем люди оказываются с другой стороны, они брошены немцами на защиту Мырятина, который генералу Кобрисову так не хочется штурмовать. Он видит в этих людях в чужой форме – волей судьбы оказавшихся на другой стороне своих. «Впрочем, не он один сейчас задумывался, что страшнее гражданской войны быть не может, потому что – свои… Как, в сущности, скоро остывает злость к пленному немцу, и как ожесточается к “своему”. Зеленым огнем загорелись глаза у Светлоокова в предвкушении “священной расплаты”. Право, нет на Руси занятия упоительнее!»
На основе элементарной фабулы (отставленный от армии генерал едет в Ставку в Москву, но с Поклонной горы поворачивает обратно) Владимов строит сложный сюжет, развертывающийся концентрическими кругами – и в прошлое, и в будущее. Сорок третий год проецируется на сорок первый: локальная военная операция превращается в картину Отечественной войны.
Генерал – сверстник пастернаковских героев, но не претерпевающих, а делающих (как им кажется) историю. «Генерал воевал во всех войнах, какие вела Россия с 1914 года, и с каждой войны привозил какую-нибудь рану». Поэтому в его воспоминаниях, в эпизодах его судьбы оживают тридцатые годы, двадцатые, революция: роман становится – по необходимости формульной, символически обобщенной – концепцией советской истории.
«Дальше, за тот барьер, который называется “конец войны”, – он не заглядывал, там ему как будто и места уже не было. И все чаще звучали в нем чьи-то, невесть где подхваченные, слова: “Жизнь сделана”. Оказавшаяся такой короткой, вот она и подошла к своему пределу».
«Невидимо склоняясь и хладея, мы движемся к началу своему» (Пушкин).
Ближе к концу романа, подъезжая к Поклонной горе, генерал вспоминает, как все начиналось. Юнкера Петергофской школы прапорщиков осенью семнадцатого люто враждуют и с матросами-братишками и между собой. Одни устраивают митинг с лозунгом «Никакой поддержки Временному правительству», другие едут в Питер, чтобы заступить на охрану этого самого правительства. «Получалось, что у каждого своя революция, а у противника она была – контрреволюция, и, кажется, один Кобрисов не имел ни того, ни другого, поэтому и не знал, ехать ему в Питер или остаться, и этого было не решить на коротком пути к вокзалу».
На вокзале кто-то садится в поезд, другие, как Кобрисов, не успевают и остаются – но это оказывается «не простым расставанием, а великим русским разломом» (выделено мной. – И. С.). Через год с шашкой наперевес красный Кобрисов на своем чалом Буяне летит навстречу бывшим друзьям, которые «теперь смертельные враги ему – только из-за того, что они перебежали через рельсы, а он нет…»
Владимов вынимает из схватки красных и белых идеологию, заменяя ее этикой, и привычные конфликты советской истории приобретают парадоксальный характер, граница между своими и чужими колеблется, возникая в самых неожиданных местах.
В двадцать девятом генерал громил восставших против советской власти мужиков, боролся с кулаками, выселял целые деревни, но Шестериков, спасающий ему жизнь, оттуда же, из этих голодных деревень, и вместо ненависти к генералу у него – любовь и преданность к нему.
Генерал Гудериан, бравый гитлеровский вояка, проутюживший своими танками пол-России, берущий русских пленных сотнями тысяч, если и не свой для генерала Кобрисова (в сюжетном пространстве они так и не сталкиваются), то оказывается в чем-то близок ему, когда подписывает на толстовском столе в Ясной Поляне приказ об отступлении: жалость к своим измученным солдатам перевешивает все другие соображения.
«Они – превосходные солдаты, они пойдут за ним куда угодно… Но пусть кто-нибудь другой погонит их в ледяную могилу… Совершая свой поступок – может быть, высший в его жизни – он чувствовал нечто похожее на смертное равнодушие бегуна, которому вдруг безразличными показались все почести, ожидающие его на финише, и ничтожным, бессмысленным – азарт первых минут бега… Впервые обычная его подпись – без имени, звания, должности – показалась ему как бы отделившейся от него, чуждой всему, что он делал до сих пор, чего достиг, чем прославился. Просто человек, голый и беспомощный, – Гудериан…»
Переломными для Кобрисова оказываются весна и лето сорок первого года, нанесенная генералу обида, которая «всю его жизнь перевернула, сделала его другим».
Не расстрелянный Жуковым на Халхин-Голе, он попадает в жернова уже сбавляющей обороты репрессивной машины, перемалывающей прежние военные кадры и проходит в московской тюрьме свои университеты.
В связи с двумя кобрисовскими танками, чуть затормозившими перед трибуной мавзолея, генералу шьют не больше не меньше как попытку покушения на отца народов: «По-ку-шение, Фотий Иванович, покушение. На жизнь кого? Не смейте произносить, а только представьте мысленно».
Генералу, в общем, везет. Методы физического воздействия применяют к другим. Кобрисовский следователь позволяет себе лишь орать на подследственного да, как школьника, ставить его на колени в угол. Но рядом в камере оказываются бывший корниловец, участник Ледового похода, узнанный по пятисекундному кинокадру, профессор-юрист, которого когда-то угораздило подписать ордер на арест Ленина, наконец, знаменитый московский литературовед, «писучая жилка», генеральский Нострадамус, раскрывающий ему глаза на историю, предсказывающий ему последующую жизнь и судьбу (в ней, этой тюрьме, сидят, конечно, не просто люди конца тридцатых, но персонажи, почитавшие будущие исторические исследования об эпохе и сильные поздним знанием, – Владимов здесь снова предлагает романизированный вариант альтернативной истории).
«Вы им не свой, только не подозреваете об этом. Есть христиане, которые не подозревают, что они христиане. И это самые лучшие из них. Так и вы. Не свой, вот в чем ваша вина… Ах, мой генерал, неужели вы все это когда-нибудь забудете? (литературовед не по-современному сентиментален, недаром он занимался Вольтером, которого потом будет читать и Кобрисов. – И. С.) Но я хочу надеяться, что вы стали христианином, который уже знает, что он христианин, и равно любит как друзей своих, так и врагов. И когда грянет тяжкий час для нашей бедной родины, вы, мой генерал, покажете себя рыцарем в защите ее – со всей человеческой требухой, которая в ней накопилась».
Так происходит перерождение Павла в Савла, обычного служаки с советской моралью и военной этикой, в основе которой девиз «патронов мало, а людей можно не жалеть» – в Фотия-доброго, рыцаря печального образа в генеральской форме, тайного христианина, в трудные минуты жизни обращающегося к Нему.
Вышедший из тюрьмы в связи с началом войны, он испытывает еще одно потрясение. Вместо картинного вождя в коридоре Наркомата Обороны глазам только что привезенного с Лубянки генерала и его соратников по счастью-несчастью (теперь им доверили защищать родину, доказать родному Сталину, что они не враги) предстает рябоватое, затравленное существо, со злобой, страхом и ненавистью во взгляде, лепечущее (неназванному по имени Берии) на чужом (грузинском) языке.
И генерал понимает (одна из ключевых романных идей!): Россию придется спасать без него. «…Он окунулся в свои военные дела и все более стал ощущать, что судьбы отечества меньше всего зависели от мягкой или твердой поступи вождя, а больше от душевного настроя свидетелей».
Владимов, однако, не прямолинейный памфлетист-разоблачитель (которым в послесоветскую эпоху несть числа), а романный диалектик. Деконструируя советский миф о великом вожде, он видит и показывает его конструктивную силу. Когда через десять дней Кобрисов слышит по радио сталинскую речь со знаменитым патриотическим, христианским обращением «Братья и сестры!», он представляет не того человека, которого беспощадно увидел в упор. «Кобрисов непостижимым образом различал и дрожь голоса, и сдерживаемые слезы, и стремление проникнуть в каждое ответно устремленное сердце… Никакого обещания не было, ни удержанных слез, ни сдавленного дыхания, одно сухое бубненье с акцентом. Это у него, Кобрисова, дрожало в ушах, это в нем клокотали слезы, это ему жаждалось поднести к пересохшим губам стакан. С идолом ничего подобного не происходило, в нем – ничто не дрогнуло». Но с тысячами, миллионами, которые слышали эту речь, происходило то же, что с генералом. И это общее чувство (теплота патриотизма, сказал бы Толстой) тоже решает судьбу страны.
После тюремного перерождения и прозрения Кобрисов становится странным генералом. Он воюет, он посылает людей на смерть, но его главным принципом становится странное, парадоксальное для военного человека в условиях войны – тем более для советского генерала, идеальным воплощением которого представлен Жуков – сбережение русского народа (кажется, так в свое время в «Заветных мыслях» формулировал главную задачу власти химик Д. Менделеев).
«Он ступил на трясинный, затягивающий путь, с которого почти никому не выбраться на прежнюю торную тропу, почти никакому сердцу не очерстветь заново. Все чаще он стал ощущать отчаянное сопротивление души, измученной неправедным и недобровольным участием… Он стал задумываться о том, что роты и батальоны состоят из людей с именами и отчествами, памятными датами, днями рождения, сердечными тайнами, житейскими историями, что они помимо того, что рядовые, или ефрейторы, или сержанты, еще чьи-то дети, чьи-то мужья и отцы, и где-то ждут их, сильно надеясь, что какой-нибудь генерал Кобрисов отпустит их с войны живыми и, крайне желательно, целыми. И стало частым непривычное ему, раньше и не сознаваемое как необходимость обращение к Тому, о Ком он не задумывался путем, лишь тогда вспоминал, когда смерть грозила, или мучило ранение, или нападала болезнь». Неосознанный христианин становится вдруг христианином откровенным, обнаруживает в мире Бога.
Мысль о том, что ценой военных игр, побед и поражений, оказываются не безличные тысячи, не шахматные фигурки, а живые люди, становится теперь лейтмотивом генеральской судьбы.
«Значит, так, коллеги (одно из немногих словечек, которое режет слух в этом стилистически отполированном до блеска тексте, оно попадает не только в реплики генерала, но и во внутреннюю речь водителя Сиротина. – И. С.), – сказал Кобрисов. – Контрнаступления не обещаю, еще не полный идиот и псих. Обещаю – драп. Не простой, а планомерный. Покамест я в верхних эшелонах не вижу ясности, считаю главным долгом сохранение армии». – «И вдруг генералу стало жалко этих людей, в сущности, прекрасно выполнивших первую задачу…» – «Операция эта – очень дорогая, тысяч десять будет стоить. – Что ж, попросите пополнения. – После Мырятина выделим (Это Жуков. Вспомним: сам Жуков всегда выигрывал, потому что “не позволял себе слова жалко”. – И. С.) – Мне вот этих десять… жалко. Ненужная это сейчас жертва». – «Операция эта все-таки очень дорогая, – сказал Кобрисов. – Я подумал: а сколько же в Мырятине этом жило до войны? Баб, стариков, детишек ты не считай, одних призывных мужиков сколько было? Да те же, наверно, десять тысяч. Которых я положить должен. Что же, мы за Россию будем платить Россией? – Да только и делаем, что платим, Фотя. Когда оно иначе было?» (Это симпатизирующий генералу Ватутин.) – «Я не палач! Мое дело такое, что у меня должны умирать люди, но я не палач!» (Это по поводу публичных казней. Генерал-«толстовец» видит и в таких, может быть, страшно виновных людях, крохотную частичку вечности, сородичей своих по человечеству.) – «Понимаю, ты обо мне печешься, хочешь меня выручить, но из-за этого людей губить… (Это он своему начальнику штаба, который все-таки предлагает штурмовать несчастный городишко, обороняемый своими, то есть опять-таки платить за Россию – Россией).
Но выжить, существуя по таким законам, становится невозможно. «Ты прав оказался, а мы – не правы. Теперь подумаем вместе – что скажет солдат? Что командующий фронтом, представитель Ставки – чурки с глазами? Один генерал Кобрисов в ногу шагал? А солдату вера нужна в свое командование, иначе – как дальше ему воевать?» – по-дружески вразумляет генерала прагматик Ватутин. И он же произносит пророческое: «Ты же знаешь, Фотий, мы со своими больше воюем, чем с немцами. Если бы мы со своими не воевали, мы б уже давно были в Берлине…»
Вершителем генеральской судьбы во владимовском романе оказывается не враг, не командующий фронтом, не Жуков, даже не Верховный (во всех этих случаях судьба милует его) а тоже свой, подчиненный, скромный майор с красивой фамилией Светлооков. Романная характерология начинается с его, данного в первой главе крупным планом, портрета.
Светлооков поначалу был старшим лейтенантом-артиллеристом, жившим со своими солдатами общей жизнью, гостеприимным, пившим водку с друзьями, смущенно читавшим собственные стихи – почти двойником погибающего на плацдарме романтика Нефедова. «…У него со своими батарейцами, помимо телефонной связи, связь братская и как бы сверхчувственная, – отмечает попавший к нему Донской. – …На передовой, да посреди ночи водки очень не всякому отольют, Светлооков, как видно, был здесь свой и любим».
Но вдруг он переходит в формируемый в армии отдел «Смерша» (смерть шпионам) – и быстро и неузнаваемо меняется: получает новое звание, заваливает своими стихами военную газету, появляется незваным на армейских совещаниях, очевидно смущая своими вопросами генерала. «Не пополнев, он как-то больше места занимал теперь в пространстве – ноги ли разбрасывал пошире, локти ли раздвигал, но с ним стало не разойтись в дверях – прежде легко расходились… Никто не знал точно границ его власти».
Новым и большим бывшего рубаху-лейтенанта делает его новая служба, принадлежность к организации, которая никому не подчиняется, но может все. В последней главе, принимая информацию от своей сотрудницы, милой телефонистки Зоечки (после войны она превратится в «опустившуюся бабищу с изолганным, пустоглазым, опитым лицом», погубившую массу людей, – беспощадно доскажет ее судьбу повествователь), майор заметит, что она неуловимо наглеет. «И нет смысла делать ей замечание, это ведь не Зоечкина особенность, а той службы, которой принадлежали они оба и которая по самой природе своей разрастается и наглеет, наглеет и разрастается».
Смерть чужим шпионам, видимо, несут другие смершевцы. Светлооков работает среди своих – в роли разведчика (шпиона), провокатора, почти палача. Он провоцирует еще не опомнившихся от горячки боя солдат на убийство русских пленных («Что ж, поговорите, земляки с земляками, сказал Светлооков и прутиком показал куда-то мимо Донского. – Во-он в тех кустиках…»). Он знает о прошлом Кобрисова («Беда с этими репрессированными… Моя бы власть, я б таким командования не доверял. С кем один раз ошиблись – тот для нас уже пропащий») и раскидывает вокруг него сети, пытаясь завербовать весь генеральский ближний круг. В трехкратно, до мелких деталей, как в старинном менуэте, повторяющейся сцене светлооковского соблазнения (еще один пример тонкой авторской литературной игры) достойней всего выглядят не книжный интеллигент и бойкий «пролетарий», а мужик Шестериков с его простодушием Ивана-дурака и звериным чутьем на правду и ложь.
«О, нет, насчет сидевшего перед ним он не обманывался нисколько. И если для шофера Сиротина «смершевец» этот был всемогущий провидец, властный чуть ли не снаряд остановить в полете, если для адъютанта Донского он был тайная, границ не имеющая сила, восходящая в сферы недостижимые, то для Шестерикова он был – лоботряс. Да уж, не более того, но лоботряс энергичный, из той породы, которая изувечила, выхолостила, обессмыслила всю жизнь Шестерикова и из-за которой любые его труды уходили в песок. Границы же власти таких людей, как Светлооков, он определял не рассуждая, одним инстинктом травленого зайца: она там проходит, эта граница, где ты не допускаешь их к себе в душу, не отвечаешь улыбкой на их улыбку».
Когда же отставленный от армии Кобрисов после взятия Мырятина, награждения и повышения от лица Верховного решает вдруг вернуться к своей армии, расстраивая планы Терещенко о взятии «жемчужины Украины», именно Светлооков решает генеральскую судьбу.
Продуманную до мелочей романную структуру владимовского романа организует множество лейтмотивов. Один из них связывает начало и конец. В самом начале Сиротин, просчитывая свою фортуну («с этим генералом он войну не вытянет»), больше всего боится не мины или иной напасти (здесь все решает собственная предусмотрительность), а шального снаряда: «твой единственный, родимый, судьбой предназначенный, уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая». Потом этот образ еще пару раз мелькает в тексте. В последней главе («Снаряд») в последней фразе появится именно он, готовый покинуть ствол, который спровоцировал шофер, рассчитал командир батареи, выпустил наводчик, но организовал Светлооков и стоящая за ним темная сила («темная вода протекла между своими»). Ватутинская метафора («мы со своими больше воюем, чем с немцами») становится страшной романной реальностью.
Контуженный генерал, в отличие от подчиненных, все-таки остается жив, совсем уж по-деревенски довоевывает, до конца реализуя принцип сбережения народа («Зачем я буду его тревожить, раз он меня не трогает? Будет общее наступление – пойдем помаленьку, а чего бабахать зря? Немца напугаешь – он мне потом неделю жить не даст»), затем командует танковым училищем, пытается сочинять мемуары. Но при этом чувствует, что живет другую, чужую жизнь. «Правда была в том, что он умер в Мырятине. Там и должен был лежать. Предвидение было верным, не обмануло».
Финальная сцена-эпилог строится словно по канве стихотворения Твардовского «В тот день, когда окончилась война». Кобрисов умирает, приехав через пятнадцать лет на то место на Поклонной горе, где когда-то пировал, услышав об успехе свой армии, но в последнее мгновение возвращается на тот «заполненный товарищами берег», к своим – утонувшей в Днепре во время переправы любимой фронтовой сестре, безвестным тысячам, которых он посылал на смерть и, тем не менее, хотел спасти, спутникам в машине, которые погибнут через несколько минут.
«Никто ему не отвечал, и он больше ни о чем не спрашивал, он перестал мыслить, дышать, быть… Хочется верить, однако, что в тот далекий час, въезжая в расположение своей армии, все они четверо были счастливы».
Еще один важный романный символ: лучшие погибли на той войне, даже если они вернулись, и там же они были счастливы, как никогда не были счастливы потом.
Разрушая многочисленные мифы (миф о Вожде, миф о Жукове, миф о Власове, миф о Смерше), Владимов тем не менее сохраняет самое главное: образ войны как Великой и Отечественной. Он не соскребает образ до голой доски, а осторожно снимает напластования, подмалевки, чтобы в конце концов увидеть суть («И только ахнет, как, по замыслу Творца, Лик сострадания проступит из лица»).
Первым (в сюжетном времени романа) загадку этой войны пытается разгадать генерал Гудериан, «быстроходный Гейнц». Он вспоминает разговор со священником в Орле, где в тюрьме были найдены сотни трупов узников, расстрелянных незадолго перед падением города («Он приказал выяснить, кто эти люди и за что казнены. Ему пришлось, и не в первый раз убедиться, что этот вопрос “За что?” – конкретный для любого мясника из гестапо – здесь звучит безнадежной абстракцией»).
Выставив трупы на обозрение всего города, он замечает во взглядах непонятных русских откровенную злобу, как будто злодейство совершили его солдаты. Батюшка, отпевающий мертвых и успокаивающий живых, «по всему видать – выпивоха и чревоугодник, но душою жалостливый и любвеобильный» (еще один неожиданный персонаж для «старого» военного романа), объясняет: «Но эта наша боль… наша и ничья другая. Вы же перстами трогаете чужие раны и спрашиваете: “Отчего это болит? Как смеет болеть?” Но вы не сможете врачевать, и боль от касаний ваших только усиливается, а раны, на которые смотрят, не заживают дольше». Подтекст генерал понимает и без переводчика: «Ты пришел показать нам наши раны, а виселицы на площадях? А забитые расстрелянными овраги и канавы? А сожженные деревни с заживо сгоревшими стариками и младенцами? А все зверства зондеркоманд и охранных отрядов, все насилия и грабежи, совершаемые армией Третьего рейха?.. Слава о них обгоняла ход его танков и уже была здесь, на тюремном дворе, прежде чем он явился сюда».
Старый царский генерал, которого приглашают в бургомистры Орла, говорит о том же более четко и откровенно: «Вы пришли слишком поздно. Если бы двадцать лет назад – как бы мы вас встретили! Но теперь мы только начали оживать, а вы пришли и отбросили нас назад, на те же двадцать лет. Когда вы уйдете – а вы уйдете! – мы должны будем все начать сначала. Не обессудьте, генерал, но теперь мы боремся за Россию, и тут мы почти все едины».
Угодивший в жернова двух жестоких режимов, народ выбирает свое, понятное зло, хотя бы говорящее с ним на привычном языке.
«Что же это за страна, где, двигаясь от победы к победе, приходишь неукоснительно к поражению?» – задает себе вопрос неуемный Гудериан (его интонация вдруг напоминает гайдаровскую сказку о Мальчише-Кибальчише из «Военной тайны»). И находит ответ у Толстого (которого постоянно перечитывает), в его романе, объясняющем, оказывается, и эту войну. Наполеон проиграл потому, что не учел в своих планах поступок молоденькой Ростовой, бросающей в Москве все свое фамильное добро («она себя этим лишила приданого и, пожалуй, надежд на замужество») и отдающей подводы раненым.
«Вот что любопытно: этот поступок сумасбродной “графинечки” предвидел ли старик Кутузов, когда соглашался принять сражение при Бородине? Предвидел ли безропотное оставление русскими Москвы, партизанские рейды Платова и Давыдова, инициативу старостихи Василисы, возглавившей отряд крепостных? Если так, то Бонапарт проиграл, еще не начав сражения, он понапрасну растратил силы, поддавшись на азиатскую приманку “старой лисицы Севера”, на генеральное сражение, которое вовсе не было генеральным, поскольку в резерве Кутузова оставались главные русские преимущества – гигантские пространства России, способность ее народа безропотно – и без жалости – пожертвовать всем, не посчитаться ни с каким количеством жизней, И что же, он, Гудериан, этого не предвидел? И где теперь искать его Бородино?»
После сталинского «самого простого, гениального, безотказного “Братья и сестры!”, обещавшего надежду на перемены (вот и еще один взгляд на эту речь – с другой стороны), немцам «противостояла уже не Совдепия с ее усилением и усилением классовой борьбы, противостояла Россия».
Слово перехватывает повествователь и доводит параллель до конца: «Всегда, до конца своих дней, считавший мифом “непобедимость русского колосса”, Гудериан признавался себе этой ночью, что по крайней мере летняя кампания проиграна – в тот, одиннадцатый, ее день, когда из Кремля разнеслось набатным колоколом: “К вам обращаюсь я, друзья мои!..” – а в Имперской канцелярии в Берлине это было пропущено мимо ушей. Так, верно, пропустил бы и Бонапарт, если бы лазутчики донесли ему, что покуда он выигрывает позиции и ожидает на Поклонной горе ключей от Кремля, в это время – никем не предсказанная, не учтенная, сумасбродная “графинечка” Ростова без колебаний раздает свои подводы раненым. А между тем она объявила свою войну – и не легче войны Кутузова и Барклая!..»
Лишь в мнимом единстве с «кремлевским тираном», под началом бездарного, беспощадного Терещенко и бессердечного Жукова, вопреки мерзостям Опрядкиных и Светлооковых большинство русских на фронте, в тылу, в лагерях (именно там, по Владимову, сделан Т-34, лучший танк второй мировой войны: «Его делали враги народа – значит, делали на совесть…») объявили немцам свою войну – и победили, заплатив, однако, за Россию – Россией.
«Когда-нибудь скажут, напишут: эту войну не генералы выиграли, а мальчишки-лейтенанты, Ваньки-взводные». – «Река крови текла между берегов. (Мощный символ возникает из бытовой картины восходящего над Днепром солнца – И. С.) Плыли конники, держа под уздцы коней… Плыли артиллеристы, на плотах, везли свои сорокапятки и тяжелые минометы… Плыла пехота в лодках и на плотах… И плыли густо – наперерез им – убитые, в большинстве – вниз лицом, окровавленным затылком к небу, а на спине под гимнастеркой вздувался воздушный пузырь. Живые их отталкивали, отводили от себя веслами и баграми, стволом автомата и плыть продолжали». – «Теперь все зависело от сотен и тысяч воль, от желаний или нежеланий, от чьей-то смелой дерзости или трусливой осторожности, от чьей-то расторопности или головотяпства, но больше всего – от крохотных серых фигурок, рассыпавшихся по белой пелене снегов».
Владимов разрушает многие мифы, наследуя главный – метафизику русской души и русской истории. От Толстого он идет еще глубже, в древность, к «Слову о полку Игореве». «– А все же ты не ответил мне: отступаешь ты или наступаешь? – Сам не знаю, – отвечал генерал. – Иду на восток, в Россию. Хочу, понимаешь ли, концом копья Волгу потрогать. Говорят, часовенка там поставлена, где она вытекает из родничка. Там я посижу, подумаю – и скажу тебе, жива ли Россия или уже нет ее».
Последний диалог генерала с самим собой на пороге небытия – продолжение той же самой думы. «Если мы умерли так, как мы умерли, значит, с нашей родиной ничего не поделаешь, ни хорошего, ни плохого». – «И значит, мы ничего своей смертью не изменили в ней?» – спрашивал другой голос. «Ничего мы не изменили, но изменились сами». А другой голос возражал: «Мы не изменились, мы умерли. Это все, что мы могли сделать для родины. И успокойся на этом». – «Одни умерли для того, чтобы изменились другие». – «Пожалуй, это случилось. Они изменились. Но не слишком капитально…» – «А со мной, со мной что произошло?» – «А разве ты не знаешь? Ты умер». – «Но я, – спросил он, – по крайней мере, умер счастливым человеком?» (В этом «изменились не слишком капитально» слышится интонация Булгакова, скептической реплики Воланда о современных москвичах, которые не очень изменились по сравнению с прежними. Контекст владимовского «военного» романа все расширяется.)
Помимо идеологических претензий, автора «Генерала и его армии» ловили на бытовых неточностях (может ли человек выжить, получив восемь пуль в живот? пойдет ли советский генерал пить коньяк к подчиненному или прикажет доставить этот коньяк к себе?), напирая на то, что не может рассказать «все, как было» человек невоевавший. Владимова приняли за литературного злоумышленника, вместо того чтобы увидеть в нем неожиданного соратника и союзника в борьбе со скороспелыми и многочисленными публицистическими поделками о минувшей (к сожалению, уже нельзя сказать – последней) войне.
Вопросы можно было бы и продолжить. На кого, к примеру, рассчитаны авторские примечания, вроде «КП – командный пункт, ПТМ – противотанковая мина, НП – наблюдательные пункты»? А можно ли убить человека стрелой в пятку? (Это я об Ахиллесе.)
Ключ к ответу – в жанре романа. При всей историчности материала, проработанности и даже щегольстве деталей, Владимов не столько продолжает «старую» военную прозу, сколько переосмысляет ее, использует ее как материал, глядя на войну не просто издалека, но под другим эстетическим углом зрения, из другого измерения.
«Дело в том, что большинство наших фильмов снято о людях, которые жили до меня. Я родился в 1980 году. Для меня 1976 год то же самое, что и 1956, и 1856», – задирается в дискуссии молодой кинокритик. А вторая Отечественная, мог бы продолжить он – то же самое, что первая, и так же далека и неинтересна, как Троянская война. Примечания, к «Генералу…», кажется, ориентированы именно на такой образ читателя. Но они вписываются в особую формулу жанра.
Роман начинается развернутым полуторастраничным периодом – лирическим вступлением о «виллисе», «короле дорог», который мчится по истерзанному асфальту под небом воюющей России. «Вот он исчез на спуске, за вершиной холма, и затих – кажется, пал там, развалился, загнанный до издыхания, – нет, вынырнул на подъеме, песню упрямства поет мотор, и нехотя ползет под колесо тягучая российская верста»…
Для совсем уж непонятливых на соседней странице автор воспроизведет разговор шофера Сиротина с «коллегой»: «Ежели на виллис поставить движок от восьмиместного доджа, добрая будет машина, лучшего и желать не надо; коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у доджа великоват, и, пожалуй, под “виллисов” капот не влезет, придется специальный кожух наращивать, а это же горб – и оба нашли согласно, что лучше оставить так, как есть». Так на страницах знаменитой поэмы два русских мужика дискутировали, доедет колесо брички до Москвы или не доедет.
Начало романа настроено на гоголевский камертон. Новая птица-тройка – иноземная машина, «колесница нашей Победы» (именно так, с заглавной буквы!) с настоящим героем, который преодолевает тягучую российскую версту и всю дорогу бьется над тем же самым вечным вопросом: «Русь! Куда ж несешься ты?». В финале книги «виллис» превратится в груду не подлежащего восстановлению металлолома, а генерал так и уйдет, ничего не поняв до конца.
Г. Владимов сочинил не еще одно свидетельство очевидца, к которому надо подходить с критерием бытового правдоподобия, и не исторический роман, где мы видим живописное прошлое на безопасном расстоянии, а героическую балладу или, если угодно – поэму, в которой это прошлое уже превратилось в легенду, с которой возможен, однако, лирический контакт, субъективная причастность к ней.
В этой балладе-поэме характеры все время оборачиваются типами, сюжет вырастает из новеллы и развертывается на большой дороге, а повествователь с лирическими отступлениями и размышлениями регулярно выходит на первый план. Сочинитель, однажды даже надевший маску гоголевского героя («Или найдется щелкопер, бумагомарака, душа Тряпичкин, разроет, вытащит, вставит в свою литературу и тем спасет генеральскую честь?»), незримо и зримо сопровождает героев, заглядывает в будущее, ненавидит, плачет, смеется, размышляет.
«Шестериков вернулся к генералу – проведать – и ужаснулся новому удару судьбы. Всего на минутку оставил он генерала, но кто-то успел стащить с его головы папаху, а с ног бурки… Кто был этот необыкновенный, неукротимой энергии человек, кто в смертельной панике ухитрился ограбить лежащего, да у всех на виду? И ведь не за мертвого же принял, видел же, что дышит еще! <…> – Облегчили? – спросил, подойдя, милиционер. Он покачал головой и заметил мрачно: – А не умерла Россия-матушка, не-ет!» – «Да вся история России, может статься, другим руслом бы потекла, если б отказывались мы пить и есть со всеми, кого подозреваем. А может, на том бы она и кончилась, история, потому что и пить стало бы не с кем, вот что со всеми нами сделали».
Не с грандиозными претензиями позапрошлого столетия («и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу…»), а с горьким опытом века двадцатого автор «Генерала и его армии» продолжает старинную думу о России – «стране, где так любят переигрывать прошлое, а потому так мало имеющей надежд на будущее».
Может быть, диагноз не окончателен? Гоголь и Толстой по-прежнему с нами, и русские пространства, хотя и стали меньше, по-прежнему огромны.
Вопрос лишь в том, насколько изменились люди. И не слишком ли капитально они изменились.
1914—1991. Неизвестный гений XX века
- Напрягаются кровью аорты
- И звучит по рядам шепотком:
- Я рожден в девяносто четвертом…
- Я рожден в девяносто втором…
- И в кулак зажимая истертый
- Год рожденья – с гурьбой и гуртом —
- Я шепчу обескровленным ртом:
- – Я рожден в ночь с второго на третье
- Января – в девяносто одном
- Ненадежном году – в то столетье,
- От которого темно и днем.
- Но окончилась та перекличка
- И пропала, как весть без вестей,
- И по выбору совести личной
- По указу великих смертей.
- Я – дичок, испугавшийся света,
- Становлюсь рядовым той страны,
- У которой попросят совета
- Все кто жить и воскреснуть должны.
О. Мандельштам.
Стихи о неизвестном солдате.
27 марта – 5 апреля 1937
Права
© Игорь Сухих, 2013
© «Время», 2013
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga, 2013