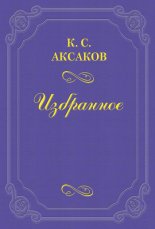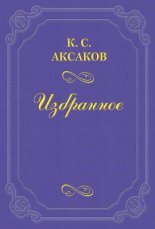Русский канон. Книги XX века Сухих Игорь

Но кого же он боится? Кто тут, в этом нашем мире, за Петра, вместо Медного Всадника?
«Вот какие мысли он уже передумал: что недаром его не разоблачили сегодня; что именно такой, нашкодивший и добросовестно из-под себя все подъевший и вылизавший, он им и нужен; что тут нет ничего удивительного, что они его даже поощрили снисходительно; что именно такому можно было доверить… что раб, своими силами подавляющий собственное восстание, не только выгодная, но и лестная рабовладельцу категория раба; что именно так признается власть и именно так она держится. Что я не ИХ – это они знают, а вот то, что я для НИХ – это я и доказал сегодня. А если и не ИХ, а для НИХ – то какое еще удовлетворение могут ОНИ пожелать?»
Грозный, карающий, беспощадный персонифицированный Госстрах эпохи отцов и дедов, отчасти похожий на страх перед Медным Всадником, переродился у внуков в страх перед безличными ИМИ, посланцем которых может оказаться кто угодно – хоть приятель-стукач, хоть безусый парнишка-милиционер.
Зажатый между гениальностью деда и ненавистью Митишатьева, изменами Фаины и верностью Альбины, скованный безотчетным «страхом заметности», герой так и не обретает искомый автором трагический сюжет. Ожидаемый взрыв оказался всхлипом.
Это, кажется, то главное, что лежит в рюкзаке описавшего «мертвую петлю опыта» уже немолодого Одоевцева. «С этим горбом, с этим рюкзаком опыта за плечами вернулся он на прежнее место, ссутулившись и постарев, ослабев. И что делать с этим глубоким барахлом, которое он протаскал за собою все свои странствия и войны?»
Позаимствованный у Чернышевского вопрос пролога, повторенный в конце «Выстрела», еще раз безответно возникает на последней странице третьей части.
Но это еще не конец. Роман о «герое нашего времени» превращается в «Пушкинском доме» в роман с героем.
Есть распространенное мнение: филолог – неудавшийся писатель. Можно рассуждать и наоборот: писатель – недоразвитый филолог. В один прекрасный день он отодвигает беллетристику в сторону и начинает объяснять «Что такое искусство?», рассуждать «О природе слова», сочинять не роман, а «Роман одного романа», совершенствовать свое мастерство, исследуя «Мастерство Гоголя».
Авторский курсив, версии и варианты, приложения и комментарии – «многослойная авторская рефлексия» (Ю. Карабчиевский) – образует в романе собственный сюжет. «Пушкинский дом» – это роман и метароман, отчет о сочинении романа, диссертация о нем.
Битов с подозрением относится к словам мастерство, профессионализм, предпочитая им старинную метафизику искусства: вдохновение, гений, художественность. «Одним из признаков той уникальности, которую мы называем художественностью, для меня как пишущего является непонимание, как это “сделано”… Художественность – это когда написанное необъяснимо больше себя самого. Мастерство – вещь ограниченная, оно больше себя не бывает» («Битва»).
Но в природе его художественности – постоянный и настойчивый интерес как раз к тому, как это делается. «Нас всегда занимало, с самых детских непосредственных пор, где прятался автор, когда подсматривал сцену, которую описывает. Где он поместился так незаметно? – Нам очень хотелось бы прямо здесь пересказать ее (статью Левы. – И. С.), но уж больно это нарушит нам сейчас композицию, которая уже начинает нас заботить… – Вот мы и уплатили дань всеобщей обязательной карнавализации повествования» (иронически, но по сути справедливо появляется в тексте популярный бахтинский термин).
«Он у нас оригинален, ибо мыслит» (Пушкин о Баратынском, 1830). Умереть в героях Битову недостаточно. Он все время старается додумать и растолковать все от себя, Автора как героя, имея в союзниках опять же своего Пушкина. «Кстати, уровень открытой, обнаженной, технологической исповедальности – в отступлениях и комментариях – достигнутый еще Пушкиным, вряд ли был впоследствии превзойден…» («Битва»).
Конечно, исповедальность корректируется и оттеняется постоянной иронией (тоже пушкинская прививка). Но за ними – четкие мыслительные конструкции, парадоксальные соображения о природе прозаического повествования, технике вторичного цитирования, соотношении сюжета и героя, из которых можно скроить не одну диссертацию. (Любопытно, что должен был сочинить аспирант А. Г. Битов за три года пребывания «в Левиной шкуре» в стенах Горьковского дома?)
Доминантой этого «технологического» сюжета становятся парадоксальные отношения автора и героя, связанные с осознанием природы эпического рода (эпос, по привычному определению, – всегда повествование о минувшем, история). С этой точки зрения весь роман – последовательное и неуклонное сближение, как выразился бы Бахтин, рассказа о событии и события рассказывания. Начав с кульминационного эпизода (дуэль и мнимая смерть героя), автор с многочисленными вариантами, отступлениями и объяснениями доводит повествование до той же точки, «слив время автора и героя в одно, настоящее время».
«После вступления героя в настоящее время, совпадающее с авторским, можно вяло следовать за героем, тупо соглядатайствовать (что, кстати, и осуществлять-то практически невозможно) и описывать последовательность его движений, которые неизвестно куда ведут, кроме как в следующее мгновение настоящего. Описывать со скоростью самой жизни».
Продвинувшись на этом пути еще на два шага (две главы эпилога – утро следующего дня), еще на полшага (свидание с Левой в приложении к третьей части, где закономерно появляется драматический диалог – настоящее время), автор, кажется, останавливается. «…В последний раз мы увидим Леву выходящим из подъезда напротив… Куда это он зашагал все более прочь? Мы совпадаем с ним во времени – и не ведаем о нем больше НИ-ЧЕ-ГО».
Из родного дома-аквариума, дома-музея культуры герой выходит на холодный воздух реальности, взрослеет, теряет иллюзии, умеряет амбиции, растворяется в толпе, как тот стиляга на Невском – леденцовый солдатик Истории.
В финале романа Константина Вагинова «Труды и дни Свистонова» (1929), который иногда сопоставляют с «Пушкинским домом», герой-писатель заканчивает книгу, публикует ее и… «Чем больше он раздумывал над вышедшим из печати романом, тем большая разреженность, тем большая пустота образовывалась вокруг него. Наконец, он почувствовал, что окончательно заперт в своем романе. Где бы Свистонов ни появлялся, всюду он видел своих героев. У них были другие фамилии, другие тела, другие волосы, другие манеры, но он сейчас же узнавал их. Таким образом, Свистонов целиком перешел в свое произведение».
Вагинов, слыхом не слыхавший про современные эстетические споры, дает знаковый, символический образ постмодернистской «гипертекстуальности»: мир есть текст, за пределы которого вырваться невозможно; несчастный автор так же «текстуален», как герой.
Битов в конце своего романа делает иной, прямо противоположный, художественный жест: отбивает границу текста, отпуская героя на свободу в непредсказуемое настоящее; выживший герой так же реален, как автор.
«Лев Одоевцев, который очнулся, так же не знает что ему делать (опять эта навязчивая формула! – И. С.), как автор не знает, что дальше, что с ним завтра. Детство, отрочество, юность… а вот и ВЧЕРА прошло. Наступило утро – его и мое – мы протрезвели… Вот мы и вступаем в полосу жизни Льва Одоевцева, когда он перестал быть созданием разума, а сам его приобрел и не знает, к чему приложить, то есть стал почти так живым, как мы с вами… Роман окончен – жизнь продолжается…»
В приложении к третьей части автор переигрывает известную апорию Зенона: гонка Ахиллеса и черепахи закончена. «Ахиллес наступил на черепаху, раздался хруст в настоящем и с этого момента… хоть не живи – так тяжело, ах, соскучав, так толсто навалилась на автора его собственная жизнь!»
Но и эта концовка (уже третья по счету) – неокончательна. После этого стоит главка «Сфинкс» – размышление Одоевцева-деда о свободе и культуре (кажется, она вырастает из цитируемого блоковского стихотворения «Пушкинскому дому», где Медный Всадник и сфинкс соседствуют в одной строфе), потом комментарии, потом обрезки к ним, включая не блоковскую, а битовскую поэму «Двенадцать» – «конспект романа “Пушкинский дом”»…
«Как видите, автор относится к собственной работе всерьез. Он полон веры. Ему все еще есть ЧТО ДЕЛАТЬ». Последняя фраза комментария, наконец, снимает вопрос пролога, заключая текст в очередное композиционное кольцо.
«Мы развелись с романом – в этом смысле наши отношения с ним закончены». Фраза из «обрезков» оказалась преждевременной. Развод не состоялся, битовский роман с героем продолжается, уходит в бесконечность, превращается в роман с романом. «Если бы мы, заканчивая роман, могли заглянуть в будущее, то обнаружили бы растущее влияние героя на автора… Поскольку влияние автора на героя кончилось, обратное влияние становится сколь угодно большим…»
«Пушкинский дом» сегодня можно читать как кладезь и кладбище других авторских проектов и замыслов. «Впереди – Варшава, творческая командировка по роману (нам важно изучить Россию в границах Пушкинского века). Нам, в таком случае, еще предстоит Финляндия и Аляска. Прежде чем мы решимся выехать в Западную Европу, или, скажем, в Японию; но это уже для следующего романа – Япония… У нас далеко идущие планы: нам хочется понять страну в состоянии Империи. – Почему про это – все знают, а никто не обобщил? – “Пушкин и заграница” – Лева не припоминал такой статьи…– Этот странный танец – вокруг следующего романа. “Азарт”, роман-эпилог… нет, не продолжение. А такой роман… как бы выразить?.. в котором не было бы прошлого, одно настоящее… как до рождения, как за гробом… – Опустим и еще один, более тонкий и сильнее нас занимающий аспект – интереса к власти, некоторого противоречивого тяготения к ней как раз свободного художника: это уже творческая проблематика, это уже тема, слишком большая, чтобы здесь… посвятим ей грядущий роман».
В 1996 году Битов сделал роман частью книги-итога. «Я тут недавно выпустил книжку “Империя в четырех измерениях”, такую – в сторону Пруста, как бы восполняющую собрание сочинений… Я придумал как бы одну книгу, состоящую из четырех… Я должен быть удовлетворен: по-всякому тридцать семь лет работы вошли в эту книгу».
Снова чисто филологический ход: новая конструкция дает новый смысл: «Пушкинский дом» (вторая книга этой сверхкниги) предстал здесь культурно-историческим измерением Империи, наряду с измерениями биографическим («Петроградская сторона»), географическим («Кавказский пленник») и метафизическим («Оглашенные»).
Потом, не дожидаясь акад. Л. Н. Одоевцева, автор сделал роскошное «юбилейное издание 1999 г.», к которому за двадцать лет до того сочинялись комментарии.
Он прикован к этому своему тексту, как каторжник к тачке, как раб к триумфальной колеснице. И на первый план в нем выдвинулся даже не герой, а предмет его филологических спекуляций.
«И здесь мы ставим точку, как памятник, – памятник самой беззаветной и безответной любви» («Фотография Пушкина») – «О Пушкин!…» («Пушкинский дом»).
Битов привязан к Пушкину, как сын к отцу, ученик к учителю, ремесленник к мастеру, цеховому старейшине. Он сам стал за эти годы бродячим филиалом Пушкинского дома. Он старается привить пушкинские вкус и меру мало приспособленной для этого реальности.
Он читает пушкинские черновики, разбирает стихи, строит свою версию биографии. Он придумывает памятник зайцу, перебежавшему поэту дорогу в Михайловском. Он отправляет Пушкина за границу, а отдаленного потомка Левы Одоевцева, филолога Игоря, из двадцать первого века – в девятнадцатый за пушкинской фотографией.
Мало ли что можно придумать в отсутствии курчавого постояльца…
Душа болит. (1973. «Характеры» В. Шукшина)
С. Есенин. 1921
- Боже мой!
- Неужели пришла пора?
- Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
«Сколько ни стоит мир, – теоретизирует А. Солженицын в “Архипелаге ГУЛАГ”, – до сих пор всегда были два несливаемых слоя общества: верхний и нижний, правящий и подчиненный. Это деление грубо, как все деления. Но если к верхним относить не только высших по власти, деньгам и знатности, но также и по образованности, полученной семейными ли, своими ли усилиями, одним словом, всех, кто не нуждался работать руками, – то деление будет сквозным.
И тогда мы можем ожидать существования четырех сфер мировой литературы (и искусства вообще, и мысли вообще). Сфера первая: когда верхние изображают (описывают, обдумывают) верхних, то есть себя, своих. Сфера вторая: когда верхние изображают, обдумывают нижних, “младшего брата”. Сфера третья: когда нижние изображают верхних. Сфера четвертая: нижние – нижних, себя» (ч. 3, гл. 18).
К четвертой сфере автор классификации относит весь мировой фольклор, его «золотые отложения». Что касается собственно литературы, его вывод пессимистичен: «Относящаяся же к сфере четвертой письменность (“пролетарская”, “крестьянская”) – вся зародышевая, неопытна, неудачна, потому что единичного умения здесь не хватало».
Кажется, в русской словесности ситуация кардинально изменилась в XX веке.
«До этого графа подлинного мужика в литературе не было». Если иметь в виду мужика как персонажа – может быть. Но мужик как автор появился в салонах современной беллетристики лишь в советскую эпоху. Старая крестьянская литература (поэты-самоучки, Кольцов, Суриков) обернулась в XX веке Есениным, Твардовским и «деревенской прозой».
Шукшин шел отсюда, «снизу», но ушел далеко, в глубину, где понятия «верха» и «низа» теряют смысл. Траектория этого в одних отношениях закономерного, в других – уникального пути осталась в том, что он сделал.
Легенда о почти ренессансной, «невероятной разносторонности» (С. Залыгин) Шукшина была порождена его внезапным ранним уходом (в 45 лет – возраст Чехова).
Он сыграл в десятках чужих фильмов, но среди них было не так много запомнившихся и вовсе не было шедевров.
Он поставил как режиссер пять картин, но «кинематограф Василия Шукшина» вряд ли будут изучать в киношколах XXI века: главным героем там был все-таки Шукшин-актер.
Он сочинил пять томов прозы, которая тоже – с некоторой дистанции – легко расслаивается на жанры и уровни. Дюжина киноповестей и повестей, функциональная, «сырьевая» природа которых очевидна и часто даже подчеркнута заглавием («Энергичные люди» – сатирическая повесть для театра; «А поутру они проснулись» – повесть для театра). Костоломный историко-революционный роман «Любавины» и его современное продолжение, автором – закономерно – не законченное и не опубликованное. Чистый исторический роман о любимом герое, Степане Разине, – «Я пришел дать вам волю» – тоже переделанный из сценария так и не поставленного фильма и сохраняющий его родимые пятна.
«Хотя я и жалуюсь, что тут, в киноинстанциях, небрежно обращаются с литературой, а ведь и я не писал так, как пишут повесть, роман или рассказ. Надо мной все время – топором – висело законное требование: все должно быть “видно”. Я просто позволил себе писать чуть более пространно, подробно, чем “казаки оживлены”. Не больше. Истинная литература за такие штуки бьет кованым копытом по голове».
Лишь в одном жанре Шукшин шел путем истинной литературы: сначала рождались рассказы, потом, бывало, они становились сценарием и фильмом. «…но – тут надо преодолеть большую неловкость – рассказы, по которым я поставил оба фильма, лучше», – сказал он по поводу своих картин «Странные люди» и «Ваш сын и брат».
В романах и повестях персонажи слишком послушны авторской воле, страдают, любят и умирают по его указке. В рассказах автор и герой меняются местами. Автор отступает в тень перед напором жизненного материала, герои получают свободу.
Большая литература Шукшина – это его малая проза. Все остальное (с точки зрения истинной литературы) – эскизы, подступы, строительные леса, ступеньки на пути к этому главному.
Сто двадцать рассказов, опубликованные за пятнадцать лет (1958—1974) тоже неравноценны. Шукшин резко меняется, взмывает вверх где-то в середине этого пятнадцатилетия. Главной его книгой стал сборник «Характеры». Но речь должна идти не только об этих двух десятках текстов, но и об их контексте.
«Характеры» – не просто книга, но формула целого.
Лет пять-семь Шукшин осваивает жанр советского рассказа о деревне.
Герои – сельские жители, светлые души – то поэтично влюбляются («Степкина любовь»), то устраивают чужие судьбы («Классный водитель»), то дурашливо, по принципу «у нас героем становится любой», совершают подвиг («Гринька Малюгин), то собираются в Москву к сыну-герою («Сельские жители»), то вспоминают о тяжелом военном детстве («Долгие зимние вечера»), то ваяют из дерева образ народного заступника и сами обливаются над ним слезами («Стенька Разин»), то гибнут из-за своей беспросветной доброты от руки мерзкого красавца-уголовника («Охота жить»).
Так же понятно-предсказуема и структура рассказа.
Пейзаж-заставка. «Дни горели белым огнем. Земля была горячая. Деревья были тоже горячие. Сухая трава шуршала под ногами. Только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик, садился всегда на одно место – у коряги и смотрел на солнце» («Солнце, старик и девушка»). – «С утра нахмурилось; пролетел мелкий сухой снег. И стало зловеще тихо. И долго было тихо. Потом началось… С гор сорвался упругий, злой ветер, долина загудела. Лежалый снег поднялся в воздух, сделалось темно» («Начальник»).
Диалог-информация: в меру характеристический, в меру разговорный, с юмором, с обязательными разъясняющими ремарками. «Студент появился в дверях с чемоданом в руках, в плаще… Положил на стол деньги. – Вот – за полмесяца. Маяковского на вас нет! – И ушел. – Сопляк!!! – послал ему вслед отец Лиды и сел. – Папка, ну что ты делаешь?! – чуть не со слезами воскликнула Лида. – Что “папка”? Папка… Каждая гнида будет учить в своем доме! Ты молчи сиди, прижми хвост. Прокатилась? Нагулялась? Ну и сиди, помалкивай. Я все эти ваши штучки знаю! – Отец застучал пальцем по столу, обращаясь к жене и дочери. – Принесите, принесите у меня в подоле… Выгоню обоих! Не побоюсь позора!» («Лида приехала»). Кто тут мещанин-приобретатель, а кто – светлая личность, видно с первого взгляда, даже без упоминания имени автора «Клопа».
«Ну и трепач ты! – весело сказала она, глядя в глаза Пашке. Пашка и ухом не повел. – Откуда ты такой? – Из Москвы, – небрежно бросил Пашка. – Все у вас там такие? – Какие? – Такие… воображалы. – Ваша серость меня удивляет, – сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти. Настя тихо засмеялась. Пашка был серьезен. – Вы мне нравитесь, – сказал он. – Я такой идеал давно искал. – Быстрый ты. – Настя в упор посмотрела на Пашку. – Я на полном серьезе! – Ну и что? – Я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахаля. Договорились? Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой, Пашка не обратил на это никакого внимания» («Классный водитель»). И здесь сразу понятно, что классный водитель – не трепач, а «такой парень», который при случае, уже в киноинсценировке рассказа, перехватит подвиг Гриньки Малюгина, уведет горящую машину от бензохранилища.
И заканчивается рассказ, как правило, прямым авторским словом, сочувствием и умилением. «Директор слушал, кивал большой гладкой головой – соглашался. Смотрел на Аксенова доверчиво» («Правда»). – «Ленька закурил и пошел в обратную сторону, в общежитие. В груди было пусто и холодно. Было горько. Было очень горько» (Ленька»). – «– Нарисовал бы вот такой вечер? – спросила Нина. – Видишь, красиво как. – Да, – тихо сказал художник. Помолчал и еще раз сказал: – Да. Хорошо было, правда» («Кукушкины слезки»).
Шукшинский рассказ вырастает из этого «просто рассказа», когда автор резко ломает наработанные схемы. Его новая манера возникает на путях художественного минимализма.
Исчезает прямая характеристика персонажа. Проговорок вроде «Напишу рассказ про Серегу и про Лену, про двух хороших людей, про их любовь хорошую» («Воскресная тоска») автор «Характеров» уже не допускает.
До минимума сокращаются и втягиваются в психологическую характеристику пейзажные и вообще описательные фрагменты. «На скамейке у ворот сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у него раннее солнышко, и он шагал по земле и легко чувствовал ее под ногами. А теперь – вечер спокойный, с дымками по селу» («В профиль и анфас»). – «Отсыревший к вечеру, прохладный воздух хорошо свежил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, чтоб ливанул дождь – обильный, чтоб резалось небо огненными зазубринами, гремело сверху… И тогда бы – заорать, что ли» («Сураз»).
Само действие перестает быть загадкой, сжимается до краткой схемы-пересказа и выносится в начало, в экспозицию, как в старой новелле. «Дня за три до Нового года, глухой морозной ночью, в селе Николаевке, качнув стылую тишину, гулко ахнули два выстрела. Раз за разом… Из крупнокалиберного ружья. И кто-то крикнул: – Даешь сердце! Эхо выстрелов гуляло над селом. Залаяли собаки. Утром выяснилось: стрелял ветфельдшер Александр Иванович Козулин» («Даешь сердце!»). – «Сашку Ермолаева обидели» («Обида»). – «Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей» («Мой зять украл машину дров»).
Концовка тоже становится краткой, суммарной, лишенной лирической меланхолии и ритмической напевности, создавая впечатление резкого обрыва, недоговоренности, необязательности. «Свояк опять засмеялся. И пошел к столу. Он снова наладился на тот тон, с каким приехал вчера» («Свояк Сергей Сергеевич»). – «Андрей посидел еще, покивал грустно головой. И пошел в горницу спать» («Микроскоп»). – «И он тоже пошел. В магазин. Сигарет купить. У него сигареты кончились» («Генерал Малафейкин»).
Формально поздние шукшинские рассказы больше напоминают киносценарии, чем тексты, специально предназначенные для кино. В них становится «видно» даже меньше, чем в киносценариях. «Меня больше интересует “история души”, и ради ее выявления я сознательно и много опускаю из внешней жизни того человека, чья душа меня волнует, – объяснял автор. – Иногда применительно к моим работам читаю: “бытописатель”. Да что вы! У меня в рассказе порой непонятно: зимой это происходит или летом».
Переделывая тексты для кино, Шукшин, бывало, подпускал в них лирику или патетику.
Рассказ «Степка» заканчивается образом идущей по середине улицы плачущей, мычащей немой сестры. В сценарии «Ваш сын и брат» дальше добавлено нечто оптимистически-заурядное и наглядное: «Летит степью паровоз. Ревет. Деревеньки мелькают, озера, перелески… Велика Русь».
В рассказе «Думы», включенном в сценарий «Странные люди», горькие мысли героя о смерти утепляются придуманной сценкой: Матвей Рязанцев идет за собственным гробом, навстречу процессии несется табун лошадей, гроб роняют, герой поднимается из него и ругается: «Тьфу, окаянные!.. Я вам кто – председатель или затычка! Бросили, черти…» Эмоциональный смысл сцены в сценарии меняется на противоположный.
«История души» в рассказах дается самыми лаконичными средствами. Главной «выдумкой» Шукшина становится точно выбранная ситуация ее самообнаружения. Главным изобразительным средством, орудием, инструментом – прямая речь персонажа, колоритный диалог или монолог (реже – внутренняя речь или прикладные письменные жанры: письмо, заявление, кляуза, «раскас»).
Ситуация – клетка, в которую пойман герой. Речь, слово (и лишь во вторую очередь – поступок) – его характер.
В одном из шукшинских рассказов ездивший на юг лечить радикулит шепелявый герой попадает в чеховский музей в Ялте и больше всего удивляется сохранившейся там вещи. «Додуматься – в таком пальтисечке в Сибирь! Я ее (экскурсовода. – И. С.) спрасываю: «“А от чего у него чахотка была? – Да, мол, от трудной жизни, от невзгод, – начала вилять. От трудной жизни…” Ну-ка, протрясись в таком кожанчике через всю Сибирь…» («Петька Краснов»).
Настоящий Шукшин выходит не из гоголевской шинели, а из чеховского пальто.
Он словно реализует чеховский совет молодому Бунину: «По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем… И короче, как можно короче надо писать». Только ему оказывается ближе не лирическая размягченность, элегичность «Дамы с собачкой», не гротескная сгущенность «Крыжовника» или «Человека в футляре», а живописная характерология Антоши Чехонте середины восьмидесятых годов, его неистощимая изобретательность в поиске новых тем, его хищный интерес к тому, что всегда под рукой или перед глазами. «Он оглянул стол и взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, – это оказалась пепельница, – поставил ее передо мной и сказал: – Хотите – завтра будет рассказ… Заглавие “Пепельница”» (или «Коленчатые валы», или «Змеиный яд», или «Капроновая елочка», или «Микроскоп», или «Сапожки»).
«Внезапные рассказы» Шукшина – близкие родственники сценки, фирменного жанра раннего Чехова и привычной формы его безвестных ныне современников. Сценка, эксцентрический рассказ, разговорная новелла (что, в сущности, одно и то же) – жанровый стержень, жанровая доминанта шукшинского мира. Однако чеховской разбросанности (или по-иному широте) он предпочитает тематическую сосредоточенность, чеховскому движению к повествовательному рассказу и идеологической повести – верность жанру при интенсификации его приемов и свойств.
Шукшин – наследник Чехонте, не захотевший или не успевший стать Чеховым.
Первый шукшинский сборник назывался «Сельские жители» (1963). Потом, когда понятие «деревенская проза» утвердилось и приобрело отрицательные коннотации, он иногда протестовал: не о деревне я пишу – о душе человеческой. Но все-таки его почвой и темой и дальше было то же: земля, село, сельские жители. Хотя деревня Шукшина вовсе не этнографична и не очеркова. Она – образ мира, который при внешней бытовой характерности причудлив и эксцентричен.
Прежде всего – это откровенно мужской мир. «Мужчины без женщин» – назывался один из сборников Хемингуэя. У Шукшина женщина присутствует почти в каждом рассказе, но как сила косная, давящая, в лучшем случае – бессмысленно-забавная, в худшем – просто страшная: сварливая жена, остервенелая теща, наглая продавщица, городская вертихвостка. «С бабой лучше не говорить про всякие догадки души – не поймет. Ей, дуре, пока она молодая, неси не стыдись самые дурацкие слова – верит; старой – скажи попробуй про самую нечаянную думу, – сам моментально дураком станешь» («Земляки»). – «Нет, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся. Как всякий художник, впрочем. Да ведь и то – не Мыслителя делал» («Микроскоп»). – «Дед Иван говорит: счас хорошо живется бабе да корове, а коню и мужику плохо» («Беспалый»).
Особенно подробно и артистично философия мужского и женского развернута в «Страданиях молодого Ваганова». К начинающему следователю, только что получившему зазывное письмо от бывшей однокурсницы, «изящной куколки», уже разведенной и готовой на новую партию, является пожилой мужик, жена которого «гуляет», а теперь задумала его «посадить» года на три, – и мигом открывает ему глаза на жизнь.
«– Я так скажу, товарищ Ваганов, – понял, наконец, Попов. – С той стороны, с женской, оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же… Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы… Баба, она и есть баба. – На кой же черт мы тогда женимся? – спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией. – Это другой вопрос. – Попов говорил свободно. Убежденно – правда, наверно, думал об этом. – Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты – пустой ноль. Чего ж тогда мы детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила – терпеть все женские выходки… – Но есть же… нормальные семьи! – Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносют. А сами втихаря… бушуют. – Ну, елки зеленые! – все больше изумлялся Ваганов. – Это уж совсем… мрак какой-то. Как же жить-то? – Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она – друг, вы что? Спасибо хоть детей рожают… И обижаться на их за это не надо – раз они так сделаны. Чего обижаться?»
После этой исповеди-проповеди Ваганов вместо большого лирического письма решает послать своей бывшей любви телеграмму, потом другую, покороче. А потом и просто уходит с почты, соврав, что забыл адрес.
Нет, конечно, в этом в целом антифеминистском мире попадаются задумчивые и тихие красавицы, понимающие и добрые старухи и даже – в виде исключения – верные и работящие жены. «Она вообще-то хорошая. С нами жить – надо терпение да терпение иметь, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят. А ребятишки, а хозяйство… Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отведешь душу: выпьешь когда – все легче маленько, а ведь они с утра до ночи, как заводные» («Сапожки»). Но они даны отчужденно, со стороны, они не определяют его главных конфликтов и проблем.
Случайный гость в шукшинском мире и человек ушедший: борец-циркач («Игнаха приехал»), кандидат-филолог («Срезал!»), большой строительный начальник родом из деревни («Как зайка летал на воздушных шариках»), исчезнувший после войны где-то в городе брат («Приезжий»).
Нужные лишь для конфликта и контраста, скучные посредственности: занудные бухгалтеры, добродетельные председатели колхозов, пронырливые снабженцы.
Любимый шукшинский персонаж – «человек в кирзовых сапогах» (С. Залыгин).
По профессии, статусу и образу жизни – «маленький человек» (как говорили в XIX веке), «простой советский человек» (как привычно формулировали через столетие). Шофер, механик, слесарь, пастух…
По мировоззрению и поведению – странный человек, домашний философ. Чудик, придурок, шалопай, психопат, дебил, упорный, рыжий, сураз…
История жизни этого героя-протагониста, феноменология его сознания придают содержательное единство миру Шукшина.
Ранний Толстой собирался написать роман «Четыре эпохи развития»: «Детство», «Отрочество», «Юность», «Молодость» (он осуществился лишь в форме так называемой автобиографической трилогии). В сценках-новеллах Шукшина таких эпох тоже четыре. Но охватывают они не первые десятилетия, а всю человеческую жизнь. Конечно, в соответствии с жанром Шукшин пишет не процесс, а намечает пунктир судьбы, обозначает некие константы, ключевые точки, в которых все время берутся психологические пробы.
Мечтатель – чудик – человек тоскующий – человек уходящий – в эту рамку укладывается жизнь центрального шукшинского персонажа.
Первая точка-эпоха совпадает с толстовской, хотя, конечно, шукшинский герой несет совершенно другие метки времени и психологии («Далекие зимние вечера», «Дядя Ермолай»). Деревенское босоногое детство в войну или после войны (здесь проза Шукшина наиболее автобиографична, даже исповедальна) – это тяжелый труд, голод и холод, безотцовщина, ранний уход из дома, неприязнь городских. Но одновременно это сладость детских игр, первые свидания, природа, гудящий в печке огонь и – главное – надежда на будущие сияющие вершины где-то на горизонте.
«А на горе, когда поднялись, на ровном открытом месте стоял… самолет… Он мне потом, этот самолет, снился потом. Много раз после мне приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета там не было – он летал. И теперь он стоит у меня в глазах – большой, легкий, красивый… Двукрылый красавец из далекой-далекой сказки» («Из детских лет Ивана Попова»).
«А потом, когда техника разовьется, дальше полетим… – Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе. – Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на землю! И мы будем летать друг к другу… И получится такое… мировое человечество. Все будем одинаковые» («Космос, нервная система и шмат сала»). Тут уже другое детство, середины шестидесятых, но мечты и надежды очень похожи.
Но вот герою уже под тридцать, молодость на исходе, жизнь отлилась в какие-то определенные формы, он крутит баранку или кино в деревне, жена или случайные подруги пилят его по разным поводам, мечтают о космосе или читают «Мертвые души» уже другие школьники, а его детская наивность и восторженность никуда не делись, только приобрели какие-то парадоксальные формы: непредсказуемых конвульсий, психологических взрывов и взбрыкиваний.
Деревенский парнишка-мечтатель превращается в чудика, мечтателя великовозрастного.
«Митька – это ходячий анекдот, так про него говорят. Определение броское, но мелкое, и о Митьке говорящее не больше, чем то, что он – выпивоха. Вот тоже – показали на человека – выпивоха… А почему он выпивоха, что за причина, что за сила такая роковая, что берет его вечерами за руку и ведет в магазин? Тут тремя словами объяснишь ли, да и сумеешь ли вообще объяснить? Поэтому проще, конечно, махнуть рукой – выпивоха, и все. А Митька… Митька – мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем еще юным мечтал, например, собраться втроем-вчетвером оборудовать лодку, взять ружья, снасти и сплыть по рекам к Северному полюсу. Мечтал также отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы – искать золото и ртуть. Мечтал… Много мечтал. Все мечтают, но другие – отмечтались и принялись устраивать свою жизнь… подручными, так скажем, средствами. Митька превратился в самого нелепого и безнадежного мечтателя – великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над Митькой смеялись, а он – с упорством неистребимым – мечтал. Только научился скрывать от людей свои мечты» («Митька Ермаков»). Теперь Митька мечтает вылечить человечество от рака какой-то неизвестной другим травкой, а пока на глазах городских очкариков для форсу бросается в Байкал, после чего спасать его приходится тем же очкарикам.
Чудик из одноименного рассказа в детстве обожал сыщиков и собак, мечтал быть шпионом, а теперь работает киномехаником, находит и оставляет в магазине собственную пятидесятирублевку, посылает трогательно-дурацкие телеграммы да расписывает акварелью детскую коляску.
Следующий покупает на припрятанные от жены деньги микроскоп и изучает микробов, опять-таки мечтая избавить от них человечество («Микроскоп»).
Четвертому достаточно просто покупки городской шляпы, чтобы гордо и независимо пройти в ней по деревне («Дебил»).
Пятый тешит самолюбие, ставя на место знатных земляков дурацкими вопросами и дискуссиями («Срезал!»).
Шестой желает остаться в памяти народной геростратовой славой, своротив и так уже порушенную деревенскую церковь («Крепкий мужик»).
Седьмой, наоборот, изобретает вечный двигатель («Упорный»).
Подобное состояние души может затянуться до старости. Семен Иваныч Малафейкин, «нелюдимый маляр-шабашник, инвалидный пенсионер», почему-то выдает себя за генерала случайному соседу в поезде («Генерал Малафейкин»). Пятидесятилетний Бронька Пупков, бывший фронтовик, тешит городских охотников не реальными историями или охотничьими байками, а страшным рассказом о своем неудачном покушении на Гитлера («Миль пардон, мадам!»).
Таких персонажей Шукшин пишет со сложным чувством насмешливого понимания. Курьезные выбросы энергии, нелепые поступки чаще всего бескорыстны. Это – попытка заявить о своем существовании, утвердить себя в мире. Тут пахнет не хлестаковщиной, а скорее тем чувством, которое владеет другим героем «Ревизора». Единственное его желание – чтобы все в Петербурге, включая государя императора, знали: живет в таком-то городе Петр Иванович Добчинский.
Но шукшинский герой заявляет о своей самости не со смирением, а с агрессивностью, злобой, уничижением паче гордости.
Психологическим архетипом такого героя мог бы быть персонаж Достоевского или чеховский озорник Дымов из «Степи», которого скука жизни толкает то на бессмысленно-злобные поступки, то на покаяние.
Наиболее рельефно характер шукшинского чудика-озорника воплощен в «Суразе». Его герой не совпадает с собой даже по возрасту. «Спирьке Расторгуеву (одна из постоянных шукшинских фамилий. – И. С.) – тридцать шестой, а на вид двадцать, не больше. Он поразительно красив; в субботу сходит в баню, пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху – молодой бог!.. Природа, кажется, иногда шутит. Ну зачем ему! Он и сам говорит: “Это мне – до фени”». Пересказав в экспозиции несколько историй из «рано скособочившейся» Спирькиной жизни (уход из школы, хулиганство, мелкое воровство, тюрьма, «знает свое – матерщинничать да к одиноким бабам по ночам шастать»), повествователь переходит к последнему эпизоду, который и становится сюжетом.
Иррациональная тяга Спирьки к приехавшей из города учительнице поначалу лишена всякого оттенка эротизма. Первый визит – «попроведовать», попытка рассказать о своей жизни, букетик цветов, даже поцелуй – кажутся поклонением недоступной Прекрасной Даме, о которой похожий на Байрона герой даже не слыхал. Потом, побитый мужем учительницы, Спирька превращается в жестокого мстителя, тюремного волка. «Я тебя уработаю, – неразборчиво, слабо, серьезно сказал Спирька…– Я убью тебя, – повторил Спирька. Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном – все там изрезал и обжег. – Убью, знай».
Но придя убивать и увидев унижение учительницы, он понимает, что мстить не сможет. «Спирька растерялся, отпинывал женщину… И как-то ясно вдруг сразу понял: если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом не замолить, не залить вином нельзя будет».
Прибежав на кладбище и проиграв в воображении свое самоубийство, он отшатывается и, кажется, впервые по-настоящему ощущает вкус бытия: «Он зажмурился и почувствовал, как его плавно и мощно несет земля. Спирька вскочил. Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать. “Что-нибудь я сейчас сделаю!” – решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал… сам не зная куда. Только прочь с кладбища, от этих крестов и молчания. Он стал вслух, незло материть покойников. “Лежите?.. Ну и лежите! Лежите – такая ваша судьба. При чем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегаю по земле, покружусь”. Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как он лежал там… Он хотел куда-нибудь прибежать, к кому-нибудь. Может, рассказать все… Может, посмеяться».
Потом – свидание с любовницей, новые воображаемые картины мести учителю, встреча с ним, бегство из деревни и последние мысли за рулем автомобиля. «Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит, и все».
Он все-таки стреляется, но автор оставляет этот выстрел за кадром. «…Спирьку нашли через три дня в лесу, на веселой полянке. Он лежал уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз…»
Имя Байрона, с которым еще в детстве сравнила героя ссыльная учительница, все-таки оправдалось и догнало героя. В бесшабашном шофере-матерщиннике вдруг проступил классический романтик, лишний человек – Чайльд-Гарольд, Печорин, – заблудившийся в сумрачном лесу жизни.
Критики когда-то писали: настоящий Шукшин начинается с того, что пытается понять неправого. Ситуация, кажется, сложнее. Изображение неправого человека предполагает отчетливый и очевидный полюс правоты. В лучших рассказах о чудиках Шукшин пишет человека, в жизни которого верное направление потеряно и найти его невозможно. Лихорадочная активность или мертвый покой не меняют сути дела: жизнь уже сложилась, переиграть ее невозможно. Но можно валять дурака или поставить жизнь на кон.
Безобидные варианты чудачеств вызывают смех, другие – ведут к трагедии. Грань между тем и другим тонка и, бывает, меняется в одном рассказе («Миль пардон, мадам!»).
Как уже сказано, в поздних рассказах Шукшин почти отказывается от авторского всеведения и всезнания, отождествляя взгляд повествователя с сознанием персонажа. И сразу становится заметно, как однообразны, рутинны формы его жизненных проявлений. Работа, семейные свары (о женщинах см. выше), деревенский клуб с кружком художественной самодеятельности, редкие поездки в ближайший город по делам или в гости к родственникам.
«Космос, нервная система и шмат сала» – называется один из рассказов, о постоянных дискуссиях скептика-старика и его квартиранта-школьника, который собирается стать врачом, воспитывает деда на примере Павлова («Он был до старости лет бодрый и не напивался, как… некоторые») и мечтает о космическом братстве. К тридцати детские горизонты резко сужаются, космос для большинства закрывается, остается только шмат сала как привычная закуска. И только чудики с этим не согласны, они томятся и рвутся куда-то, хотя не могут отдать себе отчета, куда и зачем.
«Люди верят только славе, – заметил Пушкин в связи с жизнью Грибоедова, которая, с его точки зрения, прошла для русского общества бесследно, – и не понимают, что между ими может находиться Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в “Московском телеграфе”» («Путешествие в Арзрум», гл. 2).
Чуть позднее лермонтовский герой скажет: «Гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».
Так то Грибоедов, то Печорин, а не малообразованный изобретатель вечного двигателя или любимец деревенских вдов…
Да, уровень жизни и мысли тут другой, но психологический комплекс – тот же. Очень хорошо его объясняет формула Бахтина: человек больше своей судьбы, но меньше своей человечности.
Рассказы Шукшина важны и как феноменология обыденного сознания шестидесятых-семидесятых годов. Каким предстает мир советского человека (в его сельской ипостаси) без обязательного идеологического глянца? Что в нем отражается из катаклизмов русской истории?
Конечно, Отечественная война. «Было это 9 мая, в День Победы. Как всегда, в этот день собралось все село на кладбище – помянуть погибших на войне. Сельсоветовский стоял на табуретке со списком, зачитывал… Тихо плакали на кладбище. Именно – тихо, в уголки полушалков, в ладони, вздыхали, осторожно. Точно боялись люди, что нарушат и оскорбят тишину, какая нужна в эту минуту. У старика немного отпускало. И он смотрел вокруг. И каждый раз одинаково думал: “Сколько людей загублено”» («Бессовестные»).
Дальше – коллективизация, раскулачивание, еще памятные, но уже чуть тлеющие страсти. «– Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей… Не нравится вам в колхозе-то? Заразы. Мещаны», – орет жадная москвичка-жена бывшему деревенскому парню, отлично зная, что «отец Кольки и дед, и вся родня – бедняки в прошлом и первыми вошли в колхоз» («Жена мужа в Париж провожала»).
«Я из бедняцкой семьи! – как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна. – Я первые колхозы… – Я тоже из бедняцкой, – возразил Михайло. – Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед обчеством? В войну ты была председателем сельпо – не голодала, это мы тоже знаем» («Мой зять украл машину дров»).
По поводу коллективизации ругаются две старухи в «Письме»: «– Да вас же на волосок только не раскулачили в двадцать девятом годе! Ты забыла? Какая у тебя память-то дырявая… – А ты че гордисся, что в бедности жила? Ведь нам в двадцать втором годе землю-то всем одинаково дали. А к двадцать девятому – они уж опять бедняки! Лодыри! Ведь вы уж бедняки-то советские сделались, к коллективизации нам-то землю поровну всем давали, на едока».
В «Дожде на заре» бывший раскулаченный ходит к больнице, где умирает его гонитель, все пытаясь понять, каковы были его мотивы, но ни диалога, ни покаяния, ни исповеди не получается. «– Ты какой-то все-таки ненормальный был, Ефим. Не серчай – не по злобе говорю. Я не лаяться пришел. Мне понять охота: почему ты таким винтом жил – каждой бочке затычка? Ну, прятал я хлеб, допустим. А почему у тебя-то душа болела? Он ведь мой, хлеб-то. – Дурак, – сказал Ефим. – Опять дурак! – обозлился Кирька. – Ты пойми – я ж сурьезно с тобой разговариваю. Чего нам с тобой делить-то? Насобачились на свой век, хватит. – Чего тебе понять охота? – Охота понять: чего ты добивался в жизни. Я, к примеру, богатым хотел быть. А ты? – Чтоб дураков было меньше. Вот чего я добивался. – Тьфу!.. – Кирька полез за кисетом. – Я ему одно, он – другое. – Богатым он хотел быть!.. За счет кого? Дурак, дурак, а хитрый. – Сам ты дурак. Трепач. Новая жись!.. Сам не жил как следует и другим не давал. Ошибся ты в жизни, Ефим».
Описание «Мужичьей Чумы» раскулачивания в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын кончает горьким наблюдением: «Но вот – пережившие двадцатилетие чумной ссылки, освобожденные из-под комендатуры, получившие гордые наши паспорта, – кто ж они внутренне и внешне? Ба! – да кондиционные наши граждане! Да точно такие же, как параллельно воспитаны рабочими поселками, профсоюзными собраниями и службой в советской армии. Они так же вколачивают свою недочерпанную лихость в костяшки домино (не старообрядцы, конечно). Так же согласно кивают каждому промельку на телевизоре. В нужную минуту так же гневно клеймят Южноафриканскую республику или собирают свои гроши на пользу Кубе» (ч. 6, гл. 2).
Конечно, это так и не так. Неоконченные споры шукшинских персонажей демонстрируют, что сам «великий перелом» был не продуманным «врастанием мужика в социализм» под партийным руководством (концепция шолоховской «Поднятой целины»), но и не голым насилием пришлых городских с абстрактными теориями (версии, скажем, В. Белова в «Канунах» или Б. Можаева в «Мужиках и бабах»).
Романной продуманности и завершенности Шукшин противопоставляет фрагментарно-новеллистическую противоречивость. Прежняя жизнь сломалась, кости кое-как срослись, сводят между собой счеты только доживающие старики. Для остальных это только смутное предание.
История в этом, в основном, бесписьменном мире измеряется памятью одного поколения. Дальше – обрыв, темнота, безвестность, беспамятство – область байки, легенды.
«Так, наверно, еще при царе лечили. Подвесили, как борова…» – жалуется герой рассказа «Гринька Малюгин». Он мог бы сказать: еще при царе Горохе.
Другой персонаж даже в существовании Александра Невского сомневается («Мне счас внучка книжку читает: Александр Невский землю русскую защищал… Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там… Не верю! …Выдумал… и получил хорошие деньги») и робко предполагает, что покойница-мать «приспала» его с каким-нибудь иностранцем: «А в кого я такой башковитый? Я вот думаю: мериканцы-то у нас тада рылись – искали чего-то в горах… Шут его знает! Они же… это… народишко верткий» («Беседы при ясной луне»).
Так что с кондиционными гражданами в шукшинском мире дело обстоит довольно сложно. Правильно выступает на собраниях только карьерист и прохиндей («Ораторский прием»). Прослушав антимещанскую пьесу о кулацких взглядах колхозника Ивана, который под влиянием тестя с тещей строит собственный дом, а потом, перевоспитанный колхозными активистами и пожилыми колхозниками, поджигает его, шофер Володька резонно спрашивает: «А где он жить будет?» – чем вносит в самодеятельный кружок глубокий раскол («– А тебя что, не устраивает идея пьесы? – Здесь просто хотят подсунуть другую идейку!»).
Что касается согласного кивания промелькам в телевизоре, рассказ «Критики» кажется прямой репликой на это наблюдение. Вернулся дед из клуба с просмотра какого-то деревенского фильма («Хреновина, – заявлял он. – Так не бывает»), увидел такую же хреновину в телевизоре («Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он, правда, плотник, а я, когда глянул, сразу вижу: никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет»), раскалился и запустил в экран сапогом.
Конечно, шукшинские герои, как и положено, гордятся знатными земляками, верят, что «начинается земля, как известно, от Кремля», охотно рассуждают о коммунизме. «Павла-то, наверно, в Кремль пускают?… Побывать бы хоть разок там… посмотреть» («Сельские жители»). – «Кэ-к-кулак! – сказал Сеня, останавливаясь. – Кэ-к-когда будем переходить в коммунизм, я первый проголосую, чтоб тебя не брать» («Коленчатые валы»). – «Но в магазинах – чего только нет! Жалюзей, правда, нет. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня-матушка» («Пост скриптум»).
Но подлинную цену многим «высоким» словам они тоже знают (или ее обнаруживает ненавязчивый комментарий повествователя). «– Да нет, – стал рассказывать Степан. – Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там – в неделю два раза. А хошь – иди в красный уголок, там тебе лекцию прочитают: «О чести и совести советского человека» или «О положении рабочего класса в странах капитала» («Степка»). «Там» – это в тюрьме, из которой сбежал герой, соскучившись по дому.
«– У тебя какой-то кулацкий уклон, дед, – сказал однажды Юрка в сердцах. Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно: – Ставай, проклятый заклеменный!.. – И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: – Ты ба, наверно, комиссаром у их был. Тогда молодые были комиссарами. – Юрке это польстило. – Не проклятый, а – проклятьем, – поправил он. – Насчет уклона-то… смотри не вякни. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть» («Космос, нервная система и шмат сала»).
Стеньки Разины и комиссары – в прошлом. Александра Невского, может, и вовсе не было… Попытка от изобретения вечного двигателя или покупки шляпы перейти к более существенным делам наталкивается на непреодолимые препятствия.
Степка Рысь, «забулдыга и непревзойденный столяр», хочет отремонтировать, вернуть к жизни церковь-красавицу, «светлую каменную сказку». Но власти духовные и светские отфутболивают его: «…Не разрешат мне ее ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело… Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? – Как памятник архитектуры ценности не представляет… А главное, денег никто не даст на ремонт». Кончается все тоской и разочарованием. «С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, зло курил и молчал» («Мастер»).
Еще драматичнее выглядят попытки социального творчества. Самый смешной и грустный текст об этом – «Штрихи к портрету. Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина». Шукшин остановил свой художественный калейдоскоп и посвятил деревенскому Томасу Мору целых четыре сюжета.
Князев – пламенный утопист, мечтает осчастливить мир уже не вечным двигателем или невиданной вакциной, а удивительной схемой построения целесообразного государства. «Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает – каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание… Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. “Боже мой, – подумал я, – что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!” Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинить себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения».
За свою бюрократическую утопию герой идет на собственную Голгофу, принимая вечное презрение жены, насмешки окружающих, безнадежно надеясь, что его «хоть раз в жизни дослушают до конца, поймут». «Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям».
Князев слишком буквально понял лозунги о власти советов и народном самоуправлении. Все заканчивается скандалом на почте и комическим шествием в милицию по улицам районного городка. «Князева подтолкнули вперед… Вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев… Князев вышагивал из круга – орал громко и вольно. И испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство. – Пугачева ведут! – кричал он. – Не видели Пугачева? Вот он – в шляпе и галстуке! – Князев смеялся. – А сзади несут чявой-то про государство. Удивительно, да? Какой еще! Ишь чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да? Мы те попишем. Мы те подумаем! “Да здравствуют полудурки!” Хорошо, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого».
«Я пришел дать вам волю» – назвал Шукшин роман о Степане Разине. Этот Пугачев в шляпе и галстуке пришел дать людям закон. Но вечное «там лучше знают» гасит все его идеалистические порывы.
А что если бы они осуществились?!
Другой вариант резкого рывка из привычной жизни Шукшин предлагает в «Пьедестале». «И это стало у Константина Смородина как болезнь: днем, на работе, рисует свои вывески, плакаты, афиши. А вечером, дома, начинает все ругать – свою работу, своих начальников, краски, зрителя, всех и все».
Вдохновляемый мечтающей вырваться в какую-то другую жизнь женой (редкий у Шукшина пример женщины – соратницы и помощницы), он вместо «осточертевших передовиков» целый год пишет картину «Самоубийца», которой собирается потрясти мир. «Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он какой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг в один прекрасный день все узнают, что этот человек – гений. Ну, не гений, крупный талант».
Но неведомого шедевра не получается. Надежды разбиваются вдребезги после экспертизы лучшего художника города, который только-только начал пропивать свой здоровье. «– Костя!.. – окликнул он. – Ты чего? Брось ты так… Давно надо было позвать меня – не тратил бы год на эту мазню. Надо учиться дружок, надо много уметь… Ну куда тебя к черту понесло – самоубийца! Тут еще и ремесла-то нету. Тут ни примитивизма. Ни реализма… Ничего. – Он посмотрел на картину. – Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю. Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема вовсе не твоя, вон ты какой… окорок, с чего вдруг самоубийство-то?»
Мимоходом, одним касанием (рассказ написан в начале семидесятых) Шукшин задевает проблему неофициального искусства. Голое «наоборот» оказывается ничем не лучше официальной «продажности». «Утро нашей родины» и «Самоубийца» стоят друг друга.
Картина – «мазня», фальшивая бумажка, вроде тех, за подделку которых артистичный герой попал в тюрьму. Но человеческая драма и боль от рухнувшей надежды – подлинны и даны Шукшиным без всякой насмешки, с сочувствием и пониманием. Еще одна душа корчится в спазмах невоплощения, пытается вырваться из оков своей маленькой судьбы.
Следующая точка, в которой Шукшин ловит в фокус своего героя, оказывается где-то на рубеже пятидесяти. Мечты, надежды, планы, любовь, трактаты, картины уже позади – наступает время сожаления и осмысления.
«– У тебя болит, што ль, чего? – Душа. Немного. Жаль… не нажился. Не устал. Не готов, так сказать» («Земляки»).
«Куда человеку деваться с растревоженной душой? Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы сломя голову бежим в эти. Круглосуточные, где их рвут. А с душой куда? Где тебя послушают, посочувствуют?» («Ночью в бойлерной»).
«Если бы однажды вот так – в такой тишине – перешагнуть незаметно эту проклятую черту… И оставить бы здесь все боли и все желания, и шагать, шагать по горячей дороге, шагать и шагать – бесконечно. Может, мы так и делаем? Возможно, что я где-то когда-то уже перешагнул в тишине эту черту – не заметил – и теперь вовсе не я. А моя душа вышагивает по дороге на двух ногах. И болит. Но почему же тогда болит?» («Приезжий»).
Может быть, это главный шукшинский вопрос.
Карамзин когда-то открыл: и крестьянки любить умеют.
Тургенев увидел в своих мужиках черты античных философов.
Шолохов рассмотрел Гамлета в донском казаке.
Благостный «мир», который писала «деревенская проза», взрывается у Шукшина вечными вопросами, мучающими обычных сельских жителей. Оказывается, душу придумали не священники или писатели, а над проклятыми вопросами бьются не только интеллигенты. Шукшинским трактористам и шоферам вполне знакомы и байроническая мировая скорбь, и рефлексия лишних людей, и бесконечная тяжба с миром персонажей Достоевского.
Они то возвращают творцу билет, то требуют билетик на второй сеанс, намереваясь прожить свою жизнь по-иному.
«Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается… Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла! – Тимофей готов был заплакать злыми слезами. – Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Вон на земле-то… хорошо-то как! Разве ж я не вижу. Не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! – да растереть, вот и вся моя жизнь… Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мною делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали Сивку… Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко – песня-то была хорошая» («Билетик на второй сеанс»).
Полуразрушенная церковь, то опустевшая, то превращенная в склад или кинотеатр, часто оживляет пейзаж в шукшинском рассказе. Степка Рысь в «Мастере» безуспешно пытается ее отремонтировать. «Крепкий мужик» Шурыгин, наоборот, добивает. «Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут – вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и…»
В одном из лучших шукшинских рассказов, «Верую!», чтобы успокоить болящую душу, герой пытается заглянуть за церковную стену.
«По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая… Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась поцеловать».
Свое состояние герой пытается объяснить жене («Но у человека есть так же – душа. Вот она – здесь, – болит! – Максим показывал на грудь. – Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит»), но нарывается на привычное агрессивное непонимание. «– Дура! – вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет – требуха». Это привычная для шукшинского мужского мира ситуация. Жена – «неласковая рабочая женщина: она не знала, что такое тоска. – С чего тоска-то?».
И тогда Максим приходит со своей тоской к «натуральному попу», родственнику соседа, по случаю оказавшемуся в деревне.
Батюшка оказывается интересным человеком, совсем не похожим на ожившее лампадное масло, изрекающее постные истины. Он похож на беглого алиментщика, лечится от легочной болезни барсучьим жиром, пьет спирт и, вместо утешений, обнажает перед Максимом собственную тоскующую душу. Как заправский софист, язычник Сократ, он сначала доказывает, что Бога нет, потом утверждает, что он все-таки есть, но искать его надо не там, где это обычно делают.
«Теперь я скажу, что бог есть. Имя ему – Жизнь. В этого бога я верую. Это – суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло вместе – это, собственно и есть рай… Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай и ад… Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю, Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других… Зло? Ну – зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких – “подставь правую”. Дам в рыло, и баста».
Потом поп признается в любви к Есенину («Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает»), «гудит» песню про клен заледенелый и начинает вместе с Максимом дикую пляску-радение.
«Поп легко одной рукой поднял Максима за шкирку. Поставил рядом с собой. – Повторяй за мной: верую! – Верую! – сказал Максим. – Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у! – Ве-ру-ю-у! – заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил: – В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!.. – Вместе заорали: – Ве-ру-ю-у! – Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую! – Верую-у! – В барсучье сало, в бычачьий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякоть телесную-у! – Оба, поп и Максим, плясали с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они – пляшут. Тут – или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать, и скрипеть зубами».
Пытающегося спастись на привычных путях героя батюшка-еретик берет за шкирку и снова выбрасывает в жизнь. Болезнь души на время приглушается мощной карнавальной пляской-взрывом. Эти злость и ярость когда-то сплотили разинские полки, взорвали страну в начале двадцатого века, а теперь рассасываются в томлении и бессилии.
«Верую!» – рассказ о дремлющей в простой русской душе стихийной силе, которая может быть направлена на что угодно, на созидание или самоистребление.
Соратником Шукшина в понимании русского характера оказывается вдруг внешне далекий от него Высоцкий со сходным типом героя, резкими бросками от смеха к воплю, жанром песни-баллады.
Душа болит, потому что взыскует смысла, потому что хочет праздника. Для одного таким праздником становится субботняя баня («Алеша Бесконвойный»), для другого – недолгая жизнь с женой-изменщицей («Беспалый»), для третьего – простая покупка верной жене («Сапожки»).
Но праздник не бывает долгим, и малые дела лишь на время заглушают большую боль.
Последняя ситуация, в которую Шукшин ставит своего героя, – подведение итогов накануне ухода.
В сотне с лишним шукшинских рассказов, кажется, никто не рождается, но много случайных и закономерных смертей, убийств, самоубийств – не меньше, чем в бунинских «Темных аллеях».
Поначалу Шукшин и здесь пытается быть как все: писать мудрых стариков, которые спокойно ждут неизбежного. «Стариковское дело – спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел («Земляки»).
Все это напоминает фразу из школьного сочинения о горьковской пьесе «На дне»: «Финал пьесы оптимистичен: Актер повесился».
И эти литературные, бумажные старики умирают, чтобы доказать торжество жизни и на своем примере воспитывать молодых. «Девушка пошла из ограды. На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жаль дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но он чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей» («Солнце, старик и девушка»).
Но очень скоро и этот сюжет Шукшин взламывает неразрешимыми вопросами.
«Нет счастья в жизни… Отсюда одна дорога – на тот свет», – спокойно формулирует молодой парень (а зовут его – Иван), у которого на год отобрали шоферские права. Заелись вы все, надо просто работать, хлеб выращивать, мы в ваши годы так не думали, воспитывает его очередной мудрый старик. «Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо… Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму!» – возражает молодой и уходит на следующий день из родной деревни, пропустив мимо ушей стариковское «Помру я скоро, Иван».
Сразу после этого Шукшин пишет рассказ «Как помирал старик» (может, тот же самый). Безымянный герой здесь до самой последней минуты думает о земном: советует остающейся в одиночестве старухе отсудить алименты у сына, наказывает, кому отдать курицу за рытье могилы, наконец, доходит до последнего слова.
«– Ну, тада прости меня, старик, если я в чем виноватая… – Бог простит, – сказал старик часто слышанную фразу. Ему еще что-то хотелось сказать. Что-то очень нужное, но он как-то странно стал смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился… – Да вон!.. – Старик приподнялся на локте и каким-то жутким взглядом смотрел в угол избы – в передний. – Вон же она, – сказал он, вон… Сидит гундосая».
«В деревне Бог живет не по углам…»
В этом последнем шаге по земле нет эпического спокойствия, нет благостности, которые когда-то хотел видеть – при взгляде «сверху – вниз» – в подобных героях, скажем Лев Толстой («Как умирают русские солдаты», «Три смерти», Каратаев в «Войне и мире»). И здесь осознает свою конечность не «роевой человек», а личность, причем не рассчитывающая на «потомков ропот восхищенный» и произносящая «верую» разве что по привычке.
Оправдана ли просто жизнь, простая жизнь? Есть ли в ней смысл или никакого смысла нет? Вопросы эти мучат шукшинских героев, превращая бывших чудиков в косноязычных домашних философов – не мудрецов, а вопрошателей.
«Глаза горячо блестели. Он волновался. – Я объяснил бы, я теперь знаю: человек – это… нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы познать самое себя. Бесплодная, уверяю вас, потому что в природе со мной живет геморрой. Смерть!.. и она неизбежна, и мы никогда этого не поймем. Природа никогда себя не поймет… Она взбесилась и мстит за себя в лице человека… Как злая… мм… – Дальше Саня говорил неразборчиво… Мужикам надоело напрягаться, слушая его, они начинали толковать про свои дела» («Залетный»). Но это малопонятная сельским жителям попытка «отрефлексировать» проблему на чужом интеллигентском языке заканчивается беспомощными детскими словами в день смерти: «Не боюсь, – тихо, из последних сил торопился Саня. – Не страшно… Но еще год – и я ее приму. Ведь это же надо принять! Ведь нельзя же, чтобы так просто… Это же не казнь! Зачем же так?… Еще полгода! Лето… Ничего не надо, буду смотреть на солнце… Ни одну травинку не помну… Кому же это надо, если я не хочу? – Саня плакал».
«А то вдруг про смерть подумается: что скоро – все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилки и зароют. Вот трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить – оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь… Этого никак понять не понять, Ну. Лет десять-пятнадцать будут еще помнить, что был такой, Матвей Рязанцев, а потом – все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь. И погулял в празднички – ничего, весело бывало и… Нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя никогда больше не будет… Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?» («Думы»).
В думах колхозного председателя почти фотографически воспроизводятся столетней давности мысли мелкопоместного дворянина-однодворца из рассказа Бунина. «Он долго смотрел в далекое поле, долго прислушивался к вечерней тишине… – Как же это так – сказал он вслух. – Будет все по-прежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с поля… будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не увижу, да не только не увижу – меня совсем не будет! И хоть тысяча лет пройдет – я никогда не появлюсь на свете, никогда не приду и не сяду на этом бугре! Где же я буду?» («На хуторе», 1892).
Вряд ли Шукшин читал ранний бунинский рассказ. Дело, вероятно, в том, что разница между так называемым «простым» и «элитарным» сознанием – в формах выражения, а не в психологической сути. Границы между людьми проходят в каких-то других измерениях.
В «Дяде Ермолае» Шукшин ставит этот вопрос уже от первого лица. Стоя над могилой колхозного бригадира, с которым когда-то в детстве вместе работали, повествователь пытается разгадать, был ли в его жизни и в жизни таких, как он, какой-то большой смысл, или люди просто работали, рожали детей и бесследно исчезли в свой час. «Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе. Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так – не кто умнее, а – кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно – до отчаяния, до злости – не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так – грамоты ради и слегка из трусости – величаю ее с заглавной буквы, а не знаю – что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их».
В самых последних «внезапных рассказах» в предельном заострении мотив возникает еще дважды.
В «Чужих», приведя громадную цитату из книги о дяде последнего царя великом князе Алексее, Шукшин вдруг рассказывает жизнь деревенского пастуха, дяди Емельяна.
Первый был генерал-адмиралом, хозяином русского флота, красиво жил, воровал, играл. Его государственная деятельность закончилась Цусимой, где под японскими снарядами пошли на дно русские корабли, русские моряки, русская слава, а сам он оказался в Париже, живя той же привычной жизнью, пока не «помер от случайной простуды».
Другой в юности был моряком на одном из тех цусимских кораблей, сидел в японском плену, потом прожил обычную жизнь сибирского мужика: молодецки дрался, гонял плоты, язычески верил в заговоры и заклинания, пережил почти всю большую семью и умер в одиночестве в родной деревне.
Шукшин извлекает из этого сюжета не лобовой социальный контраст, а очередной безответный вопрос. «Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, – обнять эти две фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить – поразмыслить-то сперва и хотелось, а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой – на Катуни, с удочкой. Твержу себе, что ведь – дети одного народа, может хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле – и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос… А что, если бы они где-нибудь ТАМ – встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русские души. Ведь и ТАМ им не о чем было бы поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие – на веки вечные. Велика матушка-Русь!»
Говорят, ТАМ, наверху, нет ни эллина, ни иудея. Там нет перегородок… Шукшин воображает их и там, даже у людей, говоривших на одном языке.
«А велика матушка Россия!» – говорил мудрый старик, святой из Фирсанова, в чеховской повести «В овраге», понявший и пожалевший убитую горем женщину, надеясь пожить еще годочков двадцать, веря, что было и дурное, и хорошее, но хорошего было больше.
Шукшинский вздох безнадежнее. Матушка-Русь велика настолько, что люди затерялись во времени и пространстве, утратили общие представления о добре и зле, и потому не могут понять друг друга ни здесь, ни там.
«Мы просто перестаем быть единым народом, ибо говорим действительно на разных языках», – заметил в конце шестидесятых Солженицын.