Автопортрет художника (сборник) Лорченков Владимир
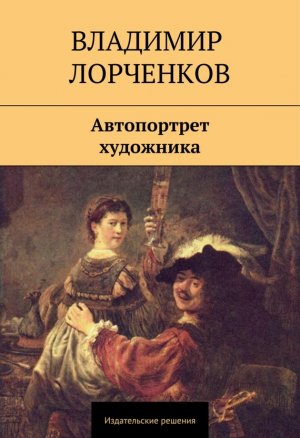
Просто это был безналичный расчет.
СОБАКИНЫ КОСТИ
Первый раз я повел его на бассейн зимой.
Мне казалось, ему понравится то же, что и мне – мы же все-таки отец и сын..
Например, первое теплое касание, которое еще не стало удушливым и жарким, – как в конце тренировки – ведь зимой в воду ныряешь, как в постель в холодной комнате.
Еще – думал я – он обратит внимание на ощущение невесомости. Когда повисаешь между дном и поверхностью, воображая себя космонавтом, с оторвавшимся от станции «Мир» – или откуда они выходили в открытый космос? – тросом. Это ощущение и это зрелище, – зрелище перевернутого мира – так завораживает, что даже на Земле не хочется спасать себя и всплывать.
Лишь инстинкты выталкивают тебя из воды против воли.
Я знал, что у ныряльщиков это называется блаженство апноэ, и сам испытал его не раз, поэтому готов был страховать сына. Наконец, я ожидал, что ему понравится запах хлорки – легкий, неистребимый, я пахну им даже спустя 14 лет после того, как бросил тренировки. Еще… В общем, я нафантазировал многое из того, что вроде бы, должен был сам ощутить в детстве, когда меня, пятилетнего, первый раз привели плавать. Это был мрачный бассейн в здании бывшего монастыря где-то в Белоруссии, раздевалки были оборудованы в цементных кельях и там сильно тянуло по ногам, а над головами мозаичных пловцов – которыми украсили стены, – слабо светились полузатертые нимбы, и из-за узких окон было темно. А бассейн должен быть светлым. Как католическим храм на Рождество. Плавание само по себе депрессивный вид спорта, – ты все время один и ты все время думаешь, – поэтому в бассейнах должно быть много света, солнца, неба, и радости.
Поэтому впервые я привел его в открытый бассейн.
Над водой поднимался пар и я аккуратно придерживал мальчика, помогая работать ногами, и не опустить плечи в воду слишком глубоко. Видимо, не очень внимательно, потому что плечи все равно уходили. Особого значения это не имело. Я знал, что это всего на первых три-четыре занятия, а потом им займется тренер. Так что, придерживая сына, я думал совсем о другом. Например, что именно ему понравится в воде в первый раз. Что же. Моя бывшая жена оказалась абсолютно права, когда говорила, что у меня нет дара предвидения. Все мои предсказания не сорвали банк.
Больше всего ему понравилась Ромашка.
ххх
Ромашка была старой собакой восемнадцати лет. Левая задняя нога у нее была короче остальных на пару сантиметров после того, как ее кто-то ударил. Мне пришлось сказать мальчишке, что она споткнулась и упала, потому что я не хотел его расстраивать. Увечье собаку не озлобило: добрая и грустная, Ромашка встречала всех посетителей бассейна «Динамо», лежа у входа. Вы попадали на территорию бассейна, проходили через двор – там к вам бросался веселый и молодой Мишка, еще один пес, – и поднимались по ступенькам к основному зданию. Там, на тряпке у входа, лежала она. Чтобы зайти, вам следовало ее переступить.
Мальчишке было всего четыре года, и ему для этого не хватило длины шага.
Так что я просто поднял его и перенес. Все это время он смотрел на Ромашку, как космонавт смотрел бы на Землю или какой-другой ориентир, окажись он в свободном пространстве в открытом космосе. Она была для него чем-то вроде точки притяжения взгляда, пока он описал вокруг нее траекторию.
Ромашка даже головы не подняла.
А он не отводил от нее взгляда, пока мы не зашли в раздевалку.
В воде мы провели полчаса примерно, потому что она была холодная. Бассейн «Динамо» работал с перебоями – многие бассейны вообще закрылись, и плавание в Молдавии медленно подходило к концу, и даже в «лягушатнике», куда я его выволок, как на буксире, температура была не больше 24 градусов. Так что уже через полчаса губы у него посинели, и он сильно трясся. Пришлось идти в душевую, греться – там горячая вода в тот сезон еще была. Я поставил мальчика под душ, и он кажется, понял, что такое посттренировочное блаженство – отогреваться в помещении, полном пара. Голову он не поднимал, потому что вода тогда заливала его лицо, и вокруг глаз у него из-за очков были круги, так что выглядел он очень серьезно.
– Ну, что, понравилось? – спросил я.
– А что больше всего понравилось? – спросил я, когда он кивнул.
– Ромашка, – сказал он.
С этого дня все те два месяца, что мы ходили на бассейн по понедельникам, средам и пятницам, мы приносили Ромашке поесть. Обычно это было какое-нибудь мясо второго сорта, я варил его наспех в кастрюле на пару, но, конечно, на диету мы ее не посадили – на диете как раз были мы – всякий раз, когда я чистил курицу, мальчишка забегал на кухню и следил, чтобы я оставил жир Ромашке. У бедняги, почти не осталось зубов и ей трудно было жевать. Так что жир она глотала.
Мишка от жира отказывался, поэтому мы отдавали ему кости.
… Готовить оказалось проще всего. Проще, чем учить читать или кататься на велосипеде. Мальчик жил у меня, его мать уехала, и, чтобы не возиться с готовкой, я вовсю использовал пароварку. Она оказалась довольно простым – даже не механизмом – приспособлением из двух кастрюль, одна из которых вставлялась в другую, с кипящей водой. За двадцать минут там можно было приготовить всё.
Правда, было невкусно.
Но я старался развлекать мальчишку во время ужинов и завтраков – обедал он в детском саду, – разговорами на всякие темы. Правда, он вел беседу пожестче Фила Донахью и Опры вместе взятых. Обычно начинал я, после чего он сворачивал – ума не приложу, как – на свои любимые темы, и болтал весь ужин, без умолку. Я мог бы велеть ему замолчать, но тогда он обратил бы внимание на то, что ест. А жареного ему никак нельзя было – мы еще не смогли тогда вылечить его аллергию, и это была причина, по которой я не хотел брать к себе мальчишку на те два месяца. Стоило ему съесть что-то не то, как ноги его покрывались сплошными ранами, и я несся через весь город с парнем на руках в гомеопатическую клинику, чтобы щедро заплатить за сеанс психотерапевтической помощи. Прежде всего, самому себе. Так мне тогда казалось. И я был не прав – именно они же его и вылечили. Просто это требовало времени. Год-полтора (в его случае – два) . Но когда у вас на руках мальчишка, который толком и говорить не умеет, и идти не может из-за того, что у него из ног сочится кровь, вы не смотрите в будущее с оптимизмом. Так что врачам приходилось успокаивать. Прежде всего, меня. И когда жена попросила меня взять мальчика на два месяца домой, я отказался. Она решила этот вопрос очень просто.
– Ты просто боишься оказаться плохим отцом, – сказала она.
И я согласился. Потому что я и был плохой отец. Так мне тогда казалось. И никакой гомеопатической клиники, врачи в которой убедили бы меня в обратном, в нашем городе не оказалось. Так что я приехал за мальчишкой, трогаясь на перекрестках с третьей попытки – права я получил буквально за день до того, – и погрузил его в машину вместе со всеми наборами его космических воинов, звездных пришельцев, галактических пиратов, вселенских джедаев и прочей чепухи. Я просил его:
– Нравится космос, малыш?
– А ты знаешь, что в космосе бывает, если… – стал говорить он.
Так что я его слушал до самого своего дома, и когда поднял его наверх – традиционно я снимаю мансарды, у меня боязнь оказаться погребенным заживо при землетрясении, и это вовсе не смешно, как считает моя жена с ее вечным особым мнением на любой счет, – и когда мы поужинали, и когда он стал ложиться. Чтобы его перебить, я сказал:
– А знаешь, что на Земле бывают места, как в космосе? – сказал я.
– Как в звездных пещерах Ван Оби? – сказал он и собрался было рассказывать про эти пещеры, но я его перебил.
– Нет, как в невесомости, – сказал я.
– Это как? – сказал он, помолчав.
– Это когда ты летаешь, – сказал я.
– Руками махать придется? – сказал он.
– Нет, ты просто паришь, – сказал я.
– А паришь это как? – сказал он.
– Просто висишь в небе, – сказал я.
Он замолчал, моргая. Было видно, что он представляет.
– А где такие места есть? – спросил он.
– У нас в городе, – сказал я.
– Их правда немного, – сказал я.
Это была чистая правда. В нашем городе было три бассейна. Один, олимпийского стандарта, назывался «Юность», – где я плавал по соседней дорожке с чемпионом Барселоны, Башкатовым, правда, это повод для гордости для пары сотен парней, плававших по соседней дорожке с чемпионом Барселоны Башкатовым, – сделали пляжным, подняв ему дно. Другой, «Молдова», – где я выиграл свое республиканское золото среди юниоров, – просто снесли. Оставались еще какие-то небольшие бассейнчики в школах, но они были крытые. Ну и, конечно, «Динамо».
Последний открытый бассейн, куда я начал ходить за пару лет до развода и продолжил – после него, – чтобы немного развеяться и побыть среди призраков детства. Кричащих, галдящих, шумящих – звонко над водой, и мерно и гулко – под ней.
Если вы все детство провели в бассейне, то уже взрослым станете проплывать в дымке над ним, как затонувший корабль – в Саргасовых водорослях. Вы встретите прошлое.
Может, я за ним в воду и отправился.
В таком случае, лучшего места я бы не нашел. Бассейн «Динамо» постепенно приходил в упадок, как и все в Молдавии. Случались сезоны, когда в душевых не было горячей воды, одно лето ее не было и в чаше – и тогда я смотрел на потрескавшуюся плитку из спортивного зала, вытянувшегося вдоль бортика за витражными стеклами. Все здесь было старым, и изношенным. Но бассейн это как меха. Какими бы они не были, главное это – то, что в них.
А вода там еще была.
Так что я ходил сюда и зимой, и дымок над водой заставлял меня забыть о моих неприятностях, он стирал мою память и мою жизнь, как ядовитые испарения источников ацтекских жрецов – сознание несчастных жертв. Случалось, что подача горячей воды в чашу прекращалась, и тогда температура опускалась до 18 градусов. Однажды я проплыл в такой три километра, и не согрелся. Но было красиво. Поверхность оказалась покрыта листьями, опавшими с деревьев, высаженных вокруг бассейна, и листья были очень красивого цвета.
И за ними и мной внимательно наблюдали с забора белки.
За год до того, как мальчишка переехал ко мне, горячей воды вообще не было всю зиму, и поверхность бассейна сковал лед.
После зала я проламывал его, чтобы окунуться.
Нужно ли говорить, что бассейн в это время был практически всегда пуст? Они иногда и на работу не выходили, оставляли всё открытым, потому что знали, что я рано приду и других психов, которые бы пришли сюда, в городе попросту не окажется.
И я приходил.
На льду, покрывшем воду, я чувствовал себя последним человеком Земли, выжившим после какой-нибудь экстравагантной катастрофы. Ну, вроде удара специальной нейтронной бомбы, которая убивает все живое, а вещи и предметы оставляет. Мне даже казалось, что если я выйду сейчас, – прямо со льда – в город и пройдусь по его заснеженным улицам, то не найду там никого, а только мигающие фонари, пустые улицы и безлюдные супермаркеты. Возможно даже, фантазировал я, что в центральном парке города будут пастись олени, а по главному проспекту – бродить, без тени страха, медведи.
– . . – шь? – спросил он и я очнулся.
– Что? – сказал я.
– Ты мне такие места покажешь? – спросил он.
– Какие места? – сказал я.
– Такие где можно летать, как в космосе, – сказал он.
– Ну, на Земле, – сказал он.
– Конечно, – сказал я.
– Ты даже полетаешь, – сказал я.
– А теперь спи, – сказал я.
Через день мы отправились на «Динамо».
ххх
После нескольких занятий подошел, – как я и рассчитывал – тренер, и мы записали мальчика на водное поло. Это очень удобный и практичный вид спорта, он не требует больших бассейнов, и не развивает в ребенке чрезмерный индивидуализм. Так тренер и сказал. Я был с ним полностью согласен. К тому же, мальчику понравилось, что в воде окажется мячик и им можно будет перебрасываться с другими мальчишками. Я был очень обрадован его реакции.
Что угодно, только не рефлексия и, как следствие, писательство в зрелом возрасте.
Я хотел, чтобы он вырос веселым мальчиком, у которого будет много друзей, а командные виды спорта предполагают, что у вас будет все это. И уже спустя каких-то пару дней я водил мальчишку на водное поло.
И ходить с ним «Динамо» больше не имело смысла. Но мы продолжали, потому что он просил. Там была Ромашка, и ему казалось очень важным ее кормить. Ромашку он очень полюбил. К Мишке он относился, как учительница младших классов – к способному непоседе. Бросив ему кости, мальчик, пыхтя, пробивался по снегу на площадке перед бассейном к крыльцу, где лежала Ромашка. Снега было ему по пояс. Но помочь он не разрешал, это его сердило. Так что я стоял и смотрел, как он проложит дорожку.
Ведь мы, конечно, были первыми посетителями.
Пробившись к ступенькам, он залезал на них, и навстречу ему поднималась Ромашка. Он была совсем уже слабая и ходила, пошатываясь. Казалось, что она здесь и спала. Но меня вялость ее движений не обманывала. Спали собаки в конуре за углом здания, и я знал, что она специально вставала и тащилась сюда, чтобы встретить мальчика. Вероятно, дело было в еде, хотя даже если мы и забывали пакет с жиром и мясом, Ромашка все равно приходила.
Мальчик гладил ее, сняв варежки, и я напоминал себе не забыть вымыть ему потом руки.
Ростом он был чуть выше этой самой Ромашки – нелепого черного пятна на снегу, пошатывающегося, доброго, со взглядом старика, впавшего в детство. Да так, наверное, и было.
Я никогда ничего не чувствовал к собакам – мне не хотелось в детстве, чтобы мне подарили щенка, но я никогда их и не боялся, – поэтому смотрел на мальчика и Ромашку с отстраненным любопытством.
И сейчас так смотрю.
Хотя нет уже ни Ромашки, ни снега, ни бассейна «Динамо». Мальчик, к счастью, есть.
Но он уже не тот.
ххх
Мы, конечно, не сдружились. Я просто водил его на бассейн – то на один, то на другой, – и мы много разговаривали о космосе, бомбах (его интересовало, какая сильнее – атомная или нейтронная) и Ромашке. Как-то он сказал мне:
– Купишь мне собачку? – сказал он.
– Таксу, – сказал он.
– Если мама разрешит, – сказал я.
Мама вскоре приезжала, так что я стал потихонечку собирать его вещи. Он посматривал на это, но ничего не говорил. Просто собирал косточки после ужина – я сварил цветную капусту, а потом кусок индейки, – и говорил:
– Вот, Ромашка позавтракает, – говорил он.
Я кивал, не отрываясь от книги, это были «Супружеские пары» Апдайка, благодаря которым я пережил очередной приступ своего писательского бессилия. Ну, еще позвонил пару раз нескольким своим знакомым, которые, едва лишь узнавали, что я сейчас отец-одиночка, готовы были мчаться ко мне, чтобы составить компанию. В женщинах это будит.
… утром я выходил в угол, где он спал – в студии я просто повесил штору перед его кроватью, – и прислушивался. Меня интересовало, дышит ли он. Он дышал. Я поправлял одеяло – аккуратно приподнимал над ногами и смотрел, нет ли ничего на коже, – и отправлялся в тот угол, где кухня. Вынимал из холодильника пакет для Ромашки и клал в рюкзак. Ждал, когда мальчик проснется. Потом я его кормил и мы шли на «Динамо». Там он бросал мою руку у калитки, еле открывал ее, продавливая в снег от себя, и брел – как полярник навстречу арктическому ветру – к крыльцу. Где уже чернела еле встающая Ромашка.
Жир она просто глотала. А косточки догрызал Мишка.
ххх
В феврале вернулась мать мальчика и, конечно, забрала его.
Это правильно, потому что дети должны жить с матерью, если мать не пьет, не принимает наркотики и не проститутка. Моя бывшая жена не была ни тем, ни другим, ни третьим. Мы просто не могли найти общего языка. Так что мы с ней и не разговаривали, когда она заехала за мальчиком, и ждала, пока тот поест. И слушала его восторженные рассказы про Ромашку.
– А Мишка такой плут! – добавлял он с плутовской улыбкой.
Жена глянула на меня. Мы тоже друг другу улыбнулись. Она забрала мальчика и он на прощание меня обнял.
– Приезжай каждую пятницу, – сказал он.
– Зачем? – сказал я машинально, и спохватился, но оправдываться и извиняться было уже поздно.
– Я обязательно буду приезжать, – сказал я.
Он простил меня очень быстро. Не разнимая рук, сказал:
– За пакетом для Ромашки.
Я стал приезжать к ним каждую пятницу за пакетом для Ромашки. Он называл это «собакины кости» и я не смог объяснить ему разницы. Полтора года каждую неделю, я появлялся, чтобы поговорить с мальчиком и рассказать ему про Ромашку.
– Вчера она крутилась вокруг меня, будто тебя ждала, – говорил я.
– На этой неделе Мишка был не в настроении, – говорил я.
– Собаки ждут не дождутся, когда потеплеет, – говорил я.
– Ромашка подлечила ногу и теперь даже и не хромает, – говорил я.
– Мишка поймал крысу, а Ромашка ее отпустила, – говорил я.
– Ромашка съела все, что ты ей передал, и облизнулась, – говорил я.
Мальчик слушал с восторгом.
Я не решился сказать сыну, что Ромашка умерла спустя неделю после того, как мать забрала его от меня.
Полтора года я сочинял истории про Ромашку и Мишку, – тот хоть и загрустил после смерти подруги, но жил, – расцвечивая их самыми небывалыми подробностями. Ромашка и Мишка спасали бассейн «Динамо» от воров и дружили с белочками, клали мне лапы на руку и и передавали привет мальчику. Весной он хотел пойти на «Динамо», чтобы повидать Ромашку, но я его отговорил, сказав, что там нет горячей воды. Летом сказал, что ее вообще спустили и Ромашка уехала поэтому в деревню, сторожить овец.
Следующей зимой я еще что-то придумал.
За два года мальчишка стал отличным пловцом и вытянулся. Он спокойно встретил известие о том, что Деда Мороза не существует и это родители положили под елку тот настольный хоккей. И что вставать рано утром придется из-за тренировок – тоже. Это ему пригодится, знал я, даже в его шесть-то лет.
А мне уже за тридцать, и я каждое утро, – в пять часов, – поднимаюсь, чтобы пройти через пустой парк, и толкнуть крутящиеся ворота бассейна «Динамо». Откуда-то из-под дерева во дворе ко мне бросается желтое пятно – это Мишка, которому я скармливаю «пакеты для Ромашки», приветствует меня, – и я, почесав пса за ухом, поднимаюсь по ступенькам ко входу. Иногда мне чудится, что у двери на полу что-то темнеет
Но это всего лишь тень дерева.
ДАВАЙ ПОКРАСИМ ПУШКИНА
– Заладили, Пушкин, Пушкин, Пушкин, Пушкин… Да пошел он на хуй, этот ваш Пушкин!
– Точно!
– Сколько себя помню, все меня тычут этим Пушкиным сраным.
– Верно!
– Пушкин то, Пушкин се, управдом краны чинить отказывается, потому что денег нет, просишь починить по-хорошему, а он тебе, Пушкин что ли денег даст, в дверь куда-то войдешь без стука, а тебе – Пушкин стучать будет…
– Верно!
– Да меня еще в школе задолбали Пушкиным! Господи, эта училка сраная, ну, по-русскому, она меня затрахала в свое время им, вечно она приговаривала, что Пушкин это наше все… какое «наше»? Это ИХ все!
– Кого их? Училки по-русскому?
– Русских, кретин!
– А, понятно!
– Понятно ему! Эти блядь русские затрахали всех своим Пушкиным, хотя он вовсе не был русским.
– А кем он был?
– Ты что, совсем тупой?
– У нас не было уроков русского языка и литературы, я же младше тебя, это у вас они были. С каких хренов я должен Сам что-то читать об этом Пушкине сраном?
– Ладно, рассказываю. Пушкин был негр.
– Настоящий?
– Стопроцентный. Как мы с тобой румыны, так и он негр.
– Значит, настоящий негр.
– Стопроцентный, я тебе говорю. Они его с дерева сняли.
– А кто же за него писал эти…
– Стихи? Да у него говно, а не стихи. Конек блядь Горбунек, про деда еще какого-то с длинной бородой, про дядю еще, про то, как этот негр кого-то встретил и у него все из башки вылетело, еще хрень какая-то. Руские говорят, будто бы он великий поэт, а он говно, и никому, кроме самих русских, на хуй не нужен! Но, почему-то, его сраный памятник у нас в румынском городе Кишиневе, а не у них, в их сраной Москве.
– Разве в Москве нет памятника Пушкину?
– Ты его там видел?
– Нет. Но мы строили дом в Бутово, а там я вообще памятников не видел.
– Ну так в Москве и нет памятников!
– Ни одного?!
– Ты хоть один видел?
– Нет, но я же жил в Бутово!
– Ты жил в строительном блядь вагончике, куда тебя, кстати, посадили русские.
– Точно! Ну то есть как… наш прораб, ну, который кинул нас с деньгами, он был молдаванин.
– Он им только назвался. А на самом деле был русский.
– Он говорил по-румынски.
– Значит, выучил по-скорому. Вот видишь на что только не пойдет русский, чтобы кинуть молдаван!
– Точно… ты открыл мне глаза…
– Ни одного памятника на всю Москву, говорю тебе. Это же блядь народ дикарей.
– Поразительно… А у нас, в нашем маленьком солнечном Кишиневе, памятников с тридцать наберется.
– Да, Петрика, ты прав, и памятников кому?! Великим! Титанам! Людям, известным всему миру. Гога, миронеску, виеру, луческу, мандыкану, дойна и алдя теодоровичь, петреску… Мировая Элита! Это тебе не всякая херня типа Пушкина сраного, о котором знают только русские, да медведи, которых они по пьяни потрахивают!
– Вот уроды!
– Вот уроды!
Собеседники остановились, чтобы передохнуть. В вечернем Кишиневе пахло поздней весной. Жара в городе наступила, как всегда, внезапно. Поэтому парни, одетые еще по ранне-весеннему сезону, вспотели. На старшем, Иване Скрипке, была теплая куртка, перчатки, и свитер с горлом, поднятым до середины лица. Младший, Сережка Цуркану, был в строительной куртке с множеством карманов, военных штанах, и берцах. Иван нес стремянку, а Сережка – три ведерка с краской и кисти. Выглядели они как два маляра, что было само по себе удивительно – все маляры, штукатуры, и вообще строители, давно уже уехали в Россиию. Строить в Москве дома, и красить заборы этим диким русским, живущим в городе без памятников. Ивану было тридцать пять лет, он работал программистом, был патриотом Молдовы, и ужасно переживал из-за своих имени и фамилии. Как и все молдавские патриоты с русскими фамилиями, он искупал свою вину тем, что писал на местных форумах в интернете «русские пропили мозги, бухаха», но этого было недостаточно. Поэтому Иван и предложил своему младшему школьному приятелю, Сережке Цуркану, совершить подвиг…
– Давай раскрасим бюст этого сраного Пушкина, который до сих пор почему-то в Кишиневе стоит, в цвета румынского флага, – сказал он.
– Зачем? – спросил туповатый Сережка.
– Чтобы показать этим русским сраным, что Кишинев это румынский город, – сказал Иван.
– Настоящий европейский чистый город, а не какой-нибудь сраный грязный Нижний Тагил, – сказал Иван, споткнулся в выбоине асфальта, которую не разглядел из-за отсутствия уличного освещения, и упав, ткнулся рукой в собачье говно.
– Вот суки, – сказал он, вставая с помощью друга, – все засрали своими русскими собаками…
– Да, полно русских, развелось их тут, – сказал Сережка. – Полный Кишинев русских…
– Их тут нет! – сурово поправил его Иван.
– Верно, – сказал запутавшийся Сережка. – Но откуда тогда здесь собачье говно?
– Они во всем виноваты, но они есть, только когда они виноваты, – сказал Иван.
– Собаки или русские? – спросил Сережка.
– Это одно и то же, – угрюмо ответил Иван.
Парни перекурили и зашли в центральный парк города. Где-то там, посреди клумб и газонов, возвышался бюст ничего не подозревавшего и задолбавшего молдаванина Ивана негра Пушина.
– Может, просто поссым на него, да и все? – негромко спросил Сережа, когда друзья подошли к бюсту.
– Да ему наплевать на это, он же бронзовый, – ответил Иван.
Парни стали расставлять стремянку. В парке никого не было, потому что прогуливаться в нем после шести вечера было довольно опасно. Шалили бандиты. Тех, кто улизнул от бандитов, добивала полиция. Но Сережа и Иван сделали себе фальшивые удостоверения работников городского хозяйства и рассчитывали отбиться и от одних и от других. Иван поглядел на Пушкина оценивающе, сплюнул, и полез на стремянку. Начал он с красной краски и прически. Работа шла споро. Классик глядел на Скрипку с удивлением. Да пошел ты, Пушкин сраный…
– Иван, – негромко окликнул его Цуркану.
– Что, Серега? – спросил Иван.
– Я нахо… – начал было Сергей, но замолк.
Иван обернулся, балансируя, и увидел человека в полицейской форме, который надевал наручники на бесформенно сложившегося на траве Сережку. Полез в карман за удостоверением, и хотел было соврать насчет плановых работ, но полетел на землю. Это легавый выбил ударом ноги стремянку из-под Ивана.
Последнее что увидел Иван перед тем как отключился – бюст Пушкина злорадно подмигнул…
ххх
Первое, что увидел Иван, когда открыл глаза – Серегу без штанов и полицейского без штанов…
– Паритет, – подумал Иван.
Но полицейский был в более выгодном положении. Они с Сережей Цуркану любили друг друга. Это мягко говоря. По правде, полицейский трахал Серегу, привязанного к столу. На лице у Сереги была, почему-то, маска Бетмена, и во рту торчал большой черный шар. Это чтобы не орал, догадался Иван и хотел было закричать. Увы, такой же шар торчал во рту и у него. Надеюсь, подумал Иван, – лихорадочно пытаясь понять, что случилось, – это будет единственным сходством в моем и друга положении в этот вечер…
Сергей беспомощно мычал. Иван огляделся. Он был привязан к стулу. Находились они в каком-то «обезьяннике». В помещении никого, кроме них троих, не было. Мент был довольно крупным – но это не пугало, Ваня и сам был крупный и обрюзгшим парнем, – с шрамом в поллица.
– Отто Скорцени, – подумал Иван, и подумал, что подумал уже второй раз за вечер.
Трахая Сережу, полицейский глядел в глаза Ивана и улыбался.
– М-м-м-м, – сказал Иван.
– Вы нарушили закон республики Молдова, – сказал мент, – и понесете суровое наказание, парни.
– М-м-м, – сказал Иван.
– Потерпи сладкий, – сказал легавый Сереже, и с хлюпаньем рассоединился.
Иван от звука страдальчески поморщился. Мент похихикал и освободил Ване рот.
– Вы не имеете права поступать так с нами из-за вашего сраного Пушкина, засовывать нам в рты эти сраные черные резиновые блядь шары, мы поступали по совести, мы двое бессарбских румын выполняли долг всякого уважающего румы… – затараторил Ваня.
– Остынь, – на хорошем румынском сказал мент, и заткнул Ване рот таким ужасным способом, что бедный парень пожалел, что это было сделано не шаром.
– Да-да, о, да… – сказал задумчиво полицейский, после чего с характерным хлюпающим звуком покинул Ивана и вернулся к Сереже.
Ошарашенный Иван, с которым это случилось впервые в жизни, – причем во всех смыслах, поскольку Флоричика его оральными ласками не баловала, – пустил слюни на подбородок. После чего вдруг дико заорал. Легавый похихикал, снова встал за Сережкой, – изредка отходя к Ивану – и мучения парней продолжились.
Где-то через два часа ребята все поняли.
Они в лапах маньяка.
ххх
– Вы бля пидоры! – сказал мент, когда сделал перерыв, чтобы покурить. – Какое право вы имели в мое дежурство красить этого гребанного Пушкина?!
– Мы хотели доказать свою румынскую идентичность, – плача, ответил Иван.
– Так и доказывали бы не в мое дежурство, – сказал мент.
– Русская сука, – сказал с ненавистью беспомощный Сережка, – мы освободимся и я убью тебя.
– Я румын, – гордо сказал мент, несильно ударив Сережу по спине дубинкой, – а за суку ответишь. Я блядь воевал в Приднестровье, получил контузию второй степени, пока вы, пидарасы, в тылах отсиживались.
– Мы не пидорасы, – без особой уверенности возразил Иван.






