Автопортрет художника (сборник) Лорченков Владимир
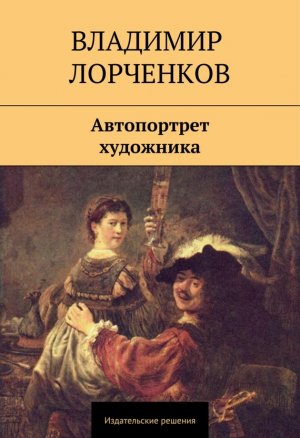
– Мы слышали, вы любите сладкое, – сказал он, и это была правда.
– Так что сильнейшие останутся вам на десерт, – сказал он.
– Если, конечно, вы раньше не попадетесь кому-то, кто любит бифштексы, – сказал он с гадкой восточной улыбочкой.
Херов шутник. Я отвернулся, снял с себя рубашку, – выгляжу я, благодаря подработке, на десять баллов, – и быстро размял суставы. Ударили в гонг. Я вышел.
– Лоринков, Молдавия, – сказал кто-то сверху из судейских.
Я поклонился. Навстречу мне вышел суховатый мужик лет сорока-сорока пяти. Коротко стриженный. По глазам видно, приходилось страдать, да и повидал кое-чего в жизни. Значит, нормальный мужик. Я подавил в себе симпатию, потому что это был соперник.
– Этот год мы объявляем юбилейным, – преподнес сюрприз собравшимся судья.
– По правилам юбилейного года боя проигравший погибает, – напомнил судья правила юбилейного года.
Черт. Я ТЕМ БОЛЕЕ подавил симпатию. Он, судя по его виду, сделал то же самое. О кей.
– Чак Паланик, США, – сказал рефери.
По залу пробежал шепоток. Первый бой с одним из лучших. Вечные фокусы. Ладно, подумал я, с другой стороны, никто не просил тебя залупаться и на каждом углу трындеть о том, какой ты великий. С другой стороны, подумал я, как раз Я-то сейчас, – в отличие от него, – в наилучшей своей форме.
В гонг ударили еще раз.
Мы с Палаником бросились каждый к своей машинке. У нас было по пятнадцать минут. Я написал рассказ про хореографа, который спился, обидевшись на Бога. Чак слажал – вот что значит быть звездой, и не держать себя в форме. Накалякал опять что-то про имплантанты, трансвеститов, мордобой, и рак крови, и как его боится главный герой. Это было похоже на домашнее задание курсов писательского мастерства.
– Победитель Лоринков, Молдавия, – сказал судья то, что и так было всем очевидно.
Чак, надо отдать ему должное, не выпендривался. Коротко мне поклонился, и лег на татами. Я взял машинку – старая, тяжелая, потому и брал, – и в три-четыре удара размозжил ему башку. Тело уволокли. Я позволил себе выдохнуть в полную силу.
– Фух-хуф, – сказал я.
ххх
Они не были оригинальны, и – как в кино «Кровавый спорт» – старались в первых боях стравить сильнейших с новичками, но непременно, чтобы бойцы были похожи по стилю и манере боя. Сначала какой-то какой-то мерзкий носатый француз – то ли Бедродер, то ли Бедбер, – разнес башку толстому, сыроватому на вид парню из России, написавшему херню про офисного работника. Зал покойного справедливо освистал, потому что на «двоечках» бой на выиграешь. Потом пришла очередь французишки: его мастерки уложил блестящим рассказом американец МакКинерни.
– Вуаля, – развел руками носатый, ложась на татами.
Ох уж эти лягушатники. Вечно им хочется повыпендриваться, даже на плахе. Американец поступил с ним гуманно, просто сломал шею точным ударом тяжеленного ноут-бука, ребром прямо между позвонков. Я поаплодировал. Маккинерни мне кивнул. Сам Маккинерни знал меня. Я понял, что мои шансы серьезны.
Следующим моим соперником был Уэлш.
– Лоринков, Молдавия, Ирвинг Уэлш, США, – сказал судья.
Снова американец, подумал я, заходя на татами. Гребанная империя зла! Маккинерни мне подмигнул. Уэлш написал рассказ про тетку, которая была мужиком, и поэтому трахалась только в задницу, потому что искуственное влагалище было у нее в шрамах. Это был явный плагиат у самого себя. Я ожидал чего-то получше. Мне даже жаль стало, что я потратил на него свой рассказ про маньяков в небольшом городке. Уэлш лег, и я спросил его:
– Почему ты не боролся?
– Чувак, меня задолбала наркота и я здорово устал от литературы, – сказал он.
Что же. Сильного соперника надо уважать. Я постарался отправить его на Парнас как можно безболезненнее. Тело уволокли и я вскинул руки. Поймал пристальный взгляд из зала и мне стало неприятно.
На меня в упор глядел Сароян.
ххх
– Ну, что, парень? – спросил он меня, когда мы вышли на татами.
– Пришла пора сразиться с НАСТОЯЩИМ серьезным соперником? – ухмыльнулся он.
– Запросто, – сказал я.
Хотя слегка волновался. Это же, мать вашу, Сароян. Он самого Чехова завалил на прошлом турнире! Но я был готов и на этот случай. Поэтому когда старик Вильям сочинил рассказ в стиле журналиста-Панюшкина, который пытается писать в стиле самого Сарояна – сентиментальную херню ни о чем, с вечными повторениями, смысловыми особенного, – я завалил его превосходным рассказом про отца-одиночку. Жестоким, но грустным. Блюз убийц. Сыграл на его поле.
– Сыграл на моем поле, – сказал он уважительно.
– Если бы ты попробовал сделать что-то в стиле Уэлша или Паланика, ты бы проиграл, – сказал он то, что мы оба и так понимали.
– Но ты молодец, – пожал он мне руку и лег.
Мастера. Тем они и отличаются от всякой херни, что в состоянии оценить замысел и силу соперника. Я избавил от страданий бытия и Сарояна. Следующим был Буковски, и это было очень тяжело. Старый пьяница сопротивлялся, как мог. Попробовал разнести мои позиции, сочинив великолепную историю про пьяницу-почтальона, который приносил всем в конверте вместо денег Дьявола. Но я-то был с Ним повязан, так что мой рассказ был о том, как Бог ждет письма с Дьяволом внутри, ждет, и пьет, совершенно опустившись, валяясь на продавленном диване в одних сатиновых трусах-семейках. Пьет и ждет. Буковски, кстати, – как и все алкаши, – умирать не хотел. Но, как и все гении, понимал, что чувство меры просто необходимо.
Я разнес ему голову печатной машинкой, по которой кровь уже просто стекала, и понял, как устал.
В первом ряду мне вежливо хлопали двое: верзила в свитере и джентльмен в костюме. Хлопали сдержанно и вежливо, Хэм и Фитц.
Все только начиналось.
ххх
Дальше пошел настоящий калейдоскоп. Ну, или мясорубка, как вам угодно. Я лихо расправился с Селином – мизантроп сраный только и делал, что кривился, пока не перестал дышать, – довольно быстро разобрался с Чапеком. Потом был невероятно сильный соперник, Фаулз, но он слишком увлекся постмодернизмом, и, как и все старомодные – не то, что нынешние – англичане, был чересчур выспренним. Потом пришел черед Гари, но глаза у того были как у сломленного человека. Он только начинал пробовать мою оборону чересчур метафоричными – ох уж эти французы – рассуждениями о мире, о-ла-ла, и даже не приступил еще к сюжету, как я, замотав его диалогами, уложил прямым правым – историей воздушного змея с ударным концом.
Следующим был Бабель, и это приятно будоражило. Разговаривать по правилам боев на татами было нельзя, но бойцы это правило нарушали, а рефери особо не заморачивались на этот счет. Так что я мог, наконец, высказать ему все.
– Сейчас ты заплатишь за то, что эксплуатировал южную тему, которую я всегда по праву считал МОЕЙ – сказал я. – Причем делал это лет за сто ДО меня.
– Эта тема должна была дождаться МЕНЯ, – сказал я.
– Ты заплатишь, блядь толстогубая, – сказал я в ярости, а он только посмеивался.
Но он заплатил. Я превосходно изучил все его приемчики, и на «губки-устрицы, мясистый, как губы лошади зад, пестрое покрывало луга» и другие одесские заморочки, ответил выверенной, – и в меру жесткой, – новеллой про молодого человека, который ночует в чужом саду, ест виноград, его проносит, и единственное, чем он может вытереть зад, это страница из книжки его любимого писателя. Бабеля.
– Ну, это хотя бы было предисловие? – спросил он.
Я вежливо улыбнулся, и признал, что он умирает как мужчина. К тому же, когда он уже проиграл, я не мог не признать, что дело еще и в том, что он рассказ по году писал, и пятнадцати минут ему явно не хватало. С другой стороны, на кой хер ты лезешь в клуб лучших, если не в состоянии сконцентрироваться мгновенно?
Я убил и Бабеля.
… В углу, куда я отошел попить воды, бойцы отрабатывали удары и разминались на каких-то несчастных ублюдках. Ублюдки ныли, но даже не пытались сопротивляться. Ползали по полу после легкого удара, плевались кровью, и шептали друг другу «но мы-то все равно крутые перцы, да, парни, да, марта, да, алмат?». Их даже не добивали, они умирали сами.
– Это еще кто такие? – спросил я Маламуда.
– Эти груши? Не заморачивайся, – махнул он рукой.
– Сетевые авторы, – сплюнул он.
Я вернулся к боям.
Гонг звенел все чаще, татами был уже мокрый – каждый раз после проигрыша его чистили мокрыми тряпками, – груда мертвецов в углу зала росла. На мое счастье, Мейлер проиграл Хеллеру, а сам достался Апдайку. Ну, а уж того вполне технично сделал Шолохов.
Кстати, Шолохов я, да Бабель были единственными здесь, кто писал на русском из прошедших первый тур.
– Почему так мало наших на этом турнире лучших? – спросил я кого-то из судей. – Ну, русскопишущих?
– Ты что, чувак, ПРАВДА не понимаешь, почему на этом турнире ЛУЧШИХ так мало ваших? – спросил он.
Я заткнулся.
ххх
Постепенно в зале остались ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сильнейшие.
И среди них я с удивлением – я и правда хорош, но мне никогда не везет – обнаружил себя.
Со Стейнбеком у нас вышла ничья, и нам пришлось отправиться на переигровку.
Мне повезло с заданной темой, да и вторым всегда быть легче, чем первым, так что я легко сделал его повестушкой про гастарбайтеров. Еще бы. В его время и слов-то таких не знали. Но Джон не обиделся.
– Обязательно выпьем, – сказал он.
– Виски, в Монтеррее, на какой-нибудь пустой бочке у причала, – сказал я.
– И чтобы волны бились об камни, и брызги до ног долетали, – сказал я.
– Если они там еще есть, эти бочки и этот причал, – сказал он.
– Если они там еще есть, – сказал я.
Мне стало грустно и я заплакал.
Но у меня не было выбора. Я победил Стейнбека.
А дальше на татами вышел Хэм.
– Привет, малыш, – сказал он.
– Привет, Хэм, – сказал я.
– Вижу, ты учишься, – сказал он.
– А как же, – сказал я.
– Держи нос по ветру, – сказал он.
– Буду, Папа, – сказал я.
– Ты ничего, – сказал он.
– Сейчас увидим каков ты в деле, – сказал он.
– Давай, Папа, – сказал я.
– Ладно, – сказал он.
– Ладно, – сказал я.
– К бою, – скомандовал рефери.
Хэм играл нечестно. Он печатал, глядя на меня со снисходительной улыбочкой и я понял, наконец, почему она так раздражала Фитцджеральда. Это было что-то вроде сигарной вони в лицо сопернику во время шахматного турнира. Ладно. Шахматы так шахматы. Я сделал ход конем. Это был рассказ в стиле раннего Хэма, но с моей начинкой. Скульптура изо льда с бушующим внутри нее серным пламенем ада. Сумасшедшая в теле леди. Шлюха в передке святой. Я обжегся, когда писал этот рассказ. Хэм даже решения судей ждать не стал.
– Ты мужчина, малыш, – сказал он.
– Ты Великий мужчина, Хэм, – сказал я.
– Просто в этот раз мне повезло чуть больше, – сказал я.
– Ни хрена тебе не повезло, – сказал он, и я согласился.
– Я заслужил, – согласился я.
– Ты заслужил, – сказал он.
Из уважения судьи позволили ему еще раз застрелиться.
Мне снова стало грустно. Но это уже не имело значения.
Все они были мне как отцы родные.
Но я пришел побеждать.
Да они и сами себе выбора не оставили.
Это же они и научили меня побеждать.
ххх
Фитцджеральд, позер этакий, вышел в костюмчике.
Ладно, я вытер пот и кровь с торса, и пожал ему руку. Он сказал, не отпуская ее:
– Вы, молодой человек, полагаете, что у меня хер маленький?
– Нет, сэр, – сказал я.
– Вы все полагаете, – сказал он, – потому что Зельда, пизда такая, об этом только и твердила, и внушила мне, а Хэм, пиздобол старый, не удержался и написал…
– Нет, я так не думаю, – сказал я.
– Думаешь, – сказал он и добавил, – поэтому я твои мозги по стенке размажу, говнюк, понял?!
– Я вас понял, сэр, – сказал я.
Я не мог не быть нежным с человеком, написавшим «Ночь нежна». Но я победил и его. Он, как обычно, запутался на подходе к финалу, а я возьми, да и обойдись простотой, но не той, что от убогости, а настоящей великой простой одеяний Древнего Рима. Мой лаконизм превзошел лаконизм Хэма. И все это – напоминаю – с начинкой из кипящего сероводорода Миллера.
– Сэр, я правда думаю, что у вас большой, – сказал я, когда Фитц, стараясь не помять костюмчик, прилег на татами.
– Ну, у тебя, парнишка, еще больше, – сказал он ворчливо.
Он выглядел одиноким и несчастным. Как парень с дыркой в голове, плавающий в бесконечности на матраце посреди своего бассейна в роскошном доме у залива. В доме, не принесшем ему счастья.
Мне опять стало очень плохо, но это, как и раньше, не имело значения.
Из глубины зала на меня с интересом посматривали Гашек, Костер и какой-то немец, сбацавший «Нибелунгов». ..
– Вы, трое, – сказал я.
– Идите сюда все СРАЗУ, – сказал я.
И понял, что потерял чувство меры. Потому что здесь слов на ветер не бросают. Они поднялись все трое. Сразу. Что же. Я сам себе выбора не оставил.
Встал в защиту и принялся ждать…
ххх
Пыль от дороги забивалась в нос, так что я чихнул, прикрыв рот.
Отнял руку, а у дороги уже стоял «Мерс». Вчерашний попутчик. Парень и правда меня не обманул. Я сел в машину, положив на заднее сидение золоченную статуэтку.
– Вижу, ты чемпион, – сказал парень.
– Да уж, я постарался в этом году, – сказал я.
– А где твоя печатная машинка? – спросил он, уважительно глядя на мои перебинтованные руки, синяки на лице, и кровоподтек на виске.
– Пришла в негодность, – сказал я.
– Следи за дорогой, – сказал я.
– А то мало ли что, – сказал я.
– Всякие там аварии, – сказал я.
– Вот так-то вот, – сказал я.
Снова вспомнил Хэма и надолго замолчал. Водитель ждал. Я вытер слезящиеся от боли глаза и только тогда он спросил:
– Так как насчет моего предложения поехать в Сорренто?
– Крышевать проституток? – напомнил он.
– А свободное время там у меня будет? – спросил я. – Я же пишу еще иногда.
– Полно времени, – заверил он.
– Ладно, – сказал я, – позвоню жене уже из Сорренто.
– Разворачивайся, едем, – сказал я.
– Прямо отсюда? – сказал он.
– Прям сейчас? – сказал он.
– Так тебе нужен вышибала? – сказал я.
– Такой – да, – сказал он.
Развернул машину через двойную сплошную, и и мы поехали вслед за Солнцем, на Запад. Я поймал «Классик ФМ», включил радио погромче, и достал из рюкзака книгу. Ее автор в этом году пропустил турнир по семейным обстоятельствам.
«История сотворения мира в 11 с половиной главах»
Я начал читать.
Пора была начинать готовиться к следующему году.
КОНЕЦ
Владимир Лорченков, 2005—2009 гг.






