Беда Келлерман Джесси
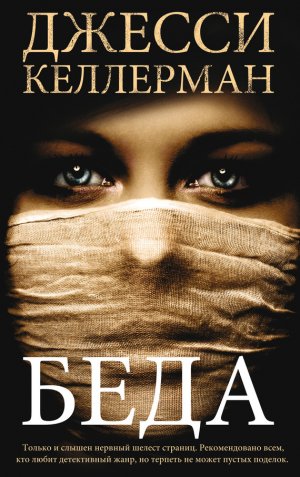
Боже, боже, он меня ножом…
Мужчина сделал еще шаг, а затем увидел что-то — за пределами экрана, — втянул руки в рукава пальто. Ив вопила, вопила, вопила, и крик ее был похож на песню:
Помогите, умоляю…
Послышался еще один голос:
Эй!
Джона увидел в кадре самого себя. Мужчина оглянулся на камеру. Вид растерянный.
Поглядите на меня.
Мужчина поглядел на него.
Никто не причинит вам зла.
Умираю!
Все будет хорошо. Мистер, послушайте меня? Мистер? Сделайте шаг назад.
Мужчина попытался обойти его, и Джона шагнул вперед, на перехват.
О’кей, стойте, стойте, я бы не хотел…
Ив кинулась прочь от них, через улицу. Мужчина шагнул следом, Джона схватил его за руку.
Послушайте, я бы не хотел (Ив исчезла из кадра), никто не хочет…
На экране та сцена вышла неуклюжей, бездарной, совсем не такой, как запомнилось. Тот Рэймонд, с которым Джона имел дело душной ночью, прорывался вперед, а Рэймонд, заснятый на камеру, отступил назад, поддаваясь Джоне, только Джона тогда этого не понял. Вот, значит, как все было на самом деле. Он смотрел и осмыслял заново, твердая уверенность съежилась, потом и вовсе испарилась. В этот миг, вбуравливая ему в голову невероятную истину, произошло нечто чудовищное: Джона получил возможность ясно увидеть растерянность, страх и тупое доверие на лице Рэймонда Инигеса.
Кто-то навел камеру крупным планом.
Падение, запомнившееся как простейшее движение, на самом деле состояло из нескольких элементов: Рэймонд подался назад, увлекая за собой Джону; Джона задергался; Рэймонд покачнулся и упал набок. Они падали вместе, Джона ударился головой о крышку мусорного бака. Ноги подкосились, и он рухнул, увлекая за собой, сверху, Рэймонда, и при падении снова стукнулся головой — на этот раз о бордюр. Нож вошел в шею Рэймонда на стыке с подбородком. Рэймонд перевернулся, хватаясь за землю, за горло. Замер, остался лежать.
Вот как все было.
На экране Джона нашарил мобильник и выронил его. Потянулся за ним, отыскал, набрал номер, снова уронил, потянулся…
затемнение
Часть вторая
Психиатрия
18
— Они выращивают людей как скот.
— Кто?
— Польское правительство. Держат людей в кадках. В инкубаторе сто двадцать восемь дней, столько дней нужно, чтобы стал плодоносящим, тогда плоть имеет свойства, соответствует ста двадцати восьми языкам мира, язык — это огонь, они растят людей на топливо, там такая комната, стены девять тысяч кубических футов толщиной, и сотня — сот — сот — они, все, они, они закачивают в мозг электричество, сок, питают их соком из Флориды, они там американо-польское консульство построили.
С чего же начать?
— Сквозь ваш мозг пропускают электричество?
— Нет. Это поляки. Да. У меня электричество в мозгу, это они его туда засунули.
— Кто — они?
— Вы меня обманываете.
— Кто засунул электричество в ваш мозг?
— Восточноевропейские евреи-ашкенази. Ты лжец.
— Мистер Хули…
— Они разводят их и едят, жгут тела, чтобы получить топливо, обогревать потайные помещения польской разведки. Они выращивают эмбрионы. Их можно есть с голоду, но они сердятся, потому что они им нужны на топливо, чтобы делать апельсиновый сок.
— Ясно.
Страница 20 «Руководства для студентов третьего года обучения».
Практика в психиатрии дает вам возможность познакомиться с одной из главных проблем современной медицины. Лечение психических расстройств составляет крупнейшую статью в бюджете министерства здравоохранения. Каждый терапевт в своей практике столкнется с пациентами, которые помимо помощи, за которой они обращаются к нему, нуждаются также в наблюдении у психиатра.
Практика в психиатрии не так утомительна физически, как другие, благодаря регулярному расписанию и сравнительно спокойному темпу работу. Однако она может не менее — а то и более — других выматывать эмоционально. Среди студентов нередки случаи депрессии в мягкой форме, противоречивые впечатления от методов терапии. Эти чувства не следует считать чем-то необычным или признаком профессиональной слабости. Не следует и пренебрегать ими: студентов настоятельно просят обращаться к кураторам или звонить в Службу Здоровья (х5-3109), чтобы обсуждать и решать проблемы по мере их возникновения.
Со страницы 14 той же книги:
Я СХОЖУ С УМА,
или
ПСИХИАТРИЯ ДЛЯ НЕПСИХИАТРОВ
Те из вас, кто думает стать мозгоправом, могут пролистнуть эти страницы и почитать что поинтереснее, например комикс.
Для прочих практика в психиатрии сводится к двум словам: СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Можно выспаться или наверстать с учебой. Один из авторов подготовил целую статью, пока отбывал практику в психе, и ее даже напечатали (см. Миссур. Жур. Мед. Том 13. № 2), так что опыт пошел нам на пользу.
Вместе с учебным корпусом больница Верхнего Манхэттена заняла нейтральную зону между Верхним Ист-Сайдом и испанским Гарлемом, а потому обслуживала две принципиально разные группы населения: матрон с Парк-авеню — высокая прическа, целый гарем одетых в свитера дочерей — и рядом испанские бабульки, abuelitas, бредут, опираясь на ходунки от Medicare. Вообще-то не совсем Верхний Манхэттен, разве что позабыть о существовании улиц к северу от Девяносто шестой, как многие и забывают, в том числе составители карт для туристов: они внушают приезжим забавную мысль, будто мир заканчивается у театра «Аполлон».
Основное здание больницы представляло собой такой же контраст: старая башня-развалюха с видом на север, на стройки, и сверкающая новизной пристройка, проект награжденного премией Притцкера архитектора, который добивался — и добился — соблюдения всех правил фэн-шуя. Центральный атрий со стеклянным потолком и стеклянными стенами обеспечивал естественным освещением все палаты, холл превратился в гигантскую оранжерею. Рубашки прилипали к спинам, зато шли в рост экзотические растения.
Отделение психиатрии располагалось на двух неофэньшуенных, без естественного освещения и растительности, этажах в старой части здания. В «Большом Грине», как называли местные это отделение, стены были веселенького желтого цвета. «Грином» отделение прозвали не в честь Дартмуртского парка или Фенвея и не ради множества поедавшихся там консервированных овощей, а благодаря здоровенной вывеске, сообщавшей, что эта часть больницы была основана на щедрые пожертвования фонда Джеймса Би Грина. Другие доски прославляли спонсоров медсестринского поста, дневного стационара, комнаты отдыха и Ларсоновского центра электроконвульсивной терапии. Центральный коридор-лабиринт был построен на деньги Фредерика и Бетти Холл. Холл-холл — но так его почему-то никто не называл.
По сравнению с хирургией, тут, конечно, лафа: приходишь в восемь, уходишь в пять, а то и раньше, если дел особых нет. Утреннее собрание — уютная беседа за столом без пациентов, а там и ланч, часа на полтора. После ланча — обход, распределение лекарств, можно побеседовать с пациентами, подбодрить, тут рабочий день и закончился. В паузы ординаторы отправлялись побегать трусцой на северной окраине Центрального парка, возвращались потные, розовощекие.
Трое студентов (считая Джону), соцработник и двое ординаторов составляли команду доктора Хьюго Ролштейна, длинноволосого и мечтательного реликта эпохи Фрейда. Доктор Ролштейн плевать хотел на современную моду тщательно отмерять лекарство и не тратил время на общение с пациентами, полагаясь на данные из вторых рук: по ним он составлял причудливые этиологические анализы с упором на собственную патентованную психометрию — Кривая Анально-Орального развития Ролштейна. Большую часть досуга у него поглощало решение шахматных задач, остальное время — утомительное усердие по освоению всех романов Энтони Троллопа.
Основная работа ложилась на плечи старшего ординатора. Росточком полтора метра, только что с конвейера, ни одного изъяна в сборке, Бонита Кван получила диплом и защитила диссертацию в «Хопкинсе». Ребенком она гастролировала по миру — скрипачка-вундеркинд. Один из студентов попросил ее подписать диск. На оргсобрании она заявила, что ее интересует перевод народных баллад региона Аппалачей на мандаринский диалект, творчество Густава Климта и разработка компьютерной модели тревожности (на нейронном уровне) у всего класса млекопитающих.
Бонита все исполняла с предельной серьезностью, должным образом умеряя недисциплинированные поползновения и расползания доктора Хьюго. Диагностика — она же «роллы Рола» — проводилась в безопасном убежище кабинета Ролштейна и могла циклиться по часу на одном пациенте. Сдвинуть обсуждение с мертвой точки удавалось только Боните, которая намекала, что вопрос о том, видел ли человек, воображающий себя де Голлем, дивную весну в долине Луара, пожалуй, исчерпал себя.
Коек в больнице хватало на пятьдесят пять человек — большинство привозили на «скорой» или переводили из других отделений больницы. Грубо говоря, диагнозы делились на психозы и депрессии, хотя граница была не так уж отчетлива. Была женщина, пытавшаяся покончить с собой после того, как муж и четверо детей погибли при пожаре. Она не получила образования, не имела ни одной родной души в Соединенных Штатах, осталась без сбережений, а страховая компания отказывалась оплачивать ей курс лечения диабета, заподозрив (ошибочно, как клялась эта бедолага), будто у нее появился спонсор, готовый ее содержать. Если уж такое несчастье — не причина для самоубийства, то что же тогда считать разумной причиной?
А ничего. Рецидивирующее желание покончить с собой — симптом душевного недуга, утверждал «Диагностический и статистический справочник Американской Психиатрической Ассоциации» (четвертое издание, стр. 327).
— Мне очень жаль, — бормотал Джона.
— Вам жаль, что приходится меня выслушивать. Лучше бы в гольф поиграть.
Подобная проницательность — едкая, словно кислота, откровенность чистейшей меланхолии — в психиатрическом отделении редкость. Большинство пациентов проводили одурманенный день перед телевизором: колени все в крошках, пальцы машинально приглаживают замаслившиеся, неухоженные волосы. Они говорили то ли друг с другом, то ли с самими собой — разговор никуда не продвигается, каждый собеседник бежит по замкнутому кругу собственного безумия.
Шизофрения наносит двойной удар: сперва выхолащивает речь и чувства, затем напяливает на пустой остов маску паранойи и галлюцинаций. Со второй проблемой лекарства довольно успешно справляются, а с первой ничего поделать не могут, и потому пациенты не становятся от этого лечения более внятными — они раздавлены и бессильны. Речь инопланетна, мозаика несовпадающих осколков — от невинной болтовни к глупости и тут же к зловещему намеку. Проводить опрос такого пациента все равно что увязнуть в на редкость неудачном свидании вслепую.
Вы в последнее время работали?
Конечно! Надо стараться. Не сидеть на месте. Совершенствуешься на практике.
Что вы имеете в виду?
Я когда-то подумывал научиться видеть, но сколько времени уходит на это у пророков? До фига. Мой отец отправился учиться на дорогу. Они пошли рыбачить.
Рыбачить.
Я что и говорю: совершенствуешься на практике.
Это именовали «полетом мыслей», однако образ неточный: не было ничего возвышенного и стремительного в этих семантических катастрофах, слова сталкивались и сгорали. И если выслушивать эти монологи было скучно, мучительно, порой и страшно, то каково же тем, кто их произносит: жить в плену разума, который борется с собой, сам себе втыкает кляп, подрезает себе язык.
Кроме человека, опасавшегося польского заговора, — заговор стремительно расширялся, вбирая болгар, румын, русских и достойное жалости население Джибути — здесь же наблюдались женщина, которая считала себя всесильной и страдала неукротимой жаждой, могла выхлестать галлон контрастного красителя; мужчина, трещавший без умолку, чтобы заглушить голос покойного дяди, священника, «червя, живущего у меня в ухе»; водитель автобуса, поругавшийся с патрульным полицейским, который якобы угрожал сунуть жезл ему в зад (возможно, угроза не мнимая, допускал доктор Хьюго, цитируя Абнера Луиму), а также имелся одноногий наркоман, он же Джон Леннон, — в доказательство он исполнял «Милый дом мой, Алабама».
Джона предложил отправить одноногого на музыкальную терапию.
— Там он разволнуется. Считает себя автором любой песни, которую услышит.
В ответ нужно смеяться. Не засмеешься — конец тебе. Мозг — источник любой боли, от подростковых переживаний до ожога лопнувшего аппендикса. Значит, психическое заболевание — квинтэссенция боли, боль, которая не требует физиологических стимулов. Подобно тому, как героин вызывает эйфорию, оторванную от реальности, а потому превосходящую любое земное счастье, душевные недуги продуцировали чистое страдание, не имеющее аналогов. Коридоры «Большого Грина» текли туманами страдания. Мука выдавала себя невольными телодвижениями, постоянным физическим возбуждением: глаза рыскают, тревожно высматривая, что еще напугает, что вызовет подозрение. О невыносимости этих страданий можно было судить по множеству запретов в уставе отделения: больным не давать ручек, безопасных бритв, маникюрных ножниц, CD, камер, мобильных телефонов, айподов.
— Айподы под запретом?
— Вытаскивают жесткий диск и режут себя. — Бонита указала на четыре отверстия, зиявшие в потолке комнаты отдыха. — Пришлось снять индикатор дыма. Одна больная взломала его и осколком попыталась вскрыть вены.
Страдание вздымалось, пенилось, отступало, приливало. Источником были пациенты, но страдание разливалось в их семьях, среди друзей и близких. Те, вменяемые, и терзались, и в то же время томились, стыдились того, во что обратились любимые, еще более стыдились этого стыда, злились за то, что им причиняют такой стыд, и вновь их грызла совесть — как же им не хватает любви и терпения! Чудовищный цикл негативных эмоций, Джоне он был знаком лучше катехизиса.
Больше всего его напугал первый на этой практике «Код». В нормальных отделениях «Код» — остановка сердца. По тревоге все врачи несутся, размахивая удостоверениями, как томагавками, показать класс — вернуть к жизни закосившего, а убедившись (чаще всего так оно и бывает), что ситуация стабилизировалась и без них, еще побродят вокруг, беспокойные, разочарованные, словно несогласные после митинга.
В психическом отделении «Код» — буйный пациент, расшвыривающий мебель по палате. Он грозит нанести кому-нибудь увечье или не в шутку пытается это проделать. На второй день практики, проводя опрос только что поступившего пациента, Джона услышал позывные и крики, высунул голову из палаты поглядеть, не нужен ли в общем переполохе и он. Молодая женщина с пеной на губах извергала ругательства и рыдания, а несколько бравых санитаров, с помощью копа пристегнув ее руки и ноги к койке, воткнули шприц в бедро. Женщина продолжала бороться — и вдруг затихла, замерла, как неживая, как пораженная молнией, капелька слюны приклеилась к обмякшей щеке. И хотя Джона знал, что насилие творится в интересах самой же больной, смотреть на это он не мог: пациентка была черноволосой, и он дорисовал под этим волосами лицо, которого, он знал, там быть не может.
За последние пять лет Джона овладел искусством раздвоения — иначе не справишься со всеми своими обязанностями и привязанностями. Однако в первую неделю практики он достиг нового уровня диссоциации.
На работе — профессионал, умеющий поладить с пациентом и посмеяться черному юмору врачей. Начальники оценили его знания, хвалили за выдержку. Он знает, как успокоить больного, говорили они. Джона пояснил, что был волонтером.
Но стоило ему выйти из больницы, как сердце пускалось в перепляс и со всех сторон Джону осаждали те самые идеи, которые он в течение рабочего дня выслушивал от людей с серьезной — клинической — паранойей.
Ты — великий художник.
Мы будем творить вместе.
Он чувствовал, как ее взгляд сверлит ему затылок, когда спускался в метро. Слышал ее смешок, когда поскальзывался на крыльце своего дома. Светофоры и витрины магазинов отражали на миг ее лицо — и тут же лицо пропадало, стоило обернуться. Он переходил 12-ю улицу, приближаясь к вязу — ее вязу, под которым Ив каждый день на протяжении двух месяцев встречала его, распахивала объятия, будто принимая вернувшегося с войны героя, — и глотка сжималась, накатывала тошнота, и так-то далеко не отступавшая.
Вечером четверга Джона раскрыл свой медицинский справочник (четвертое издание) на разделе «Тревожность». Его поведение совпадало с симптомами слишком большого количества расстройств, не втискиваясь в классификацию синдрома общей тревожности или посттравматического синдрома. И это еще более напугало Джону: если уж вздумалось сходить с ума, надо это делать хотя бы в соответствии с рубриками признанного медицинского руководства.
Принципиальная разница между Джоной и его пациентами заключалась в том, что они страшились невероятного, а он видел самого себя в реальности. Возможно, что-то в том фильме было постановочным (он молился об этом, отрезанный сосок преследовал его в страшных снах), однако он, Джона, был настоящий. Драка была настоящей. Подлинная видеосъемка убийства понарошку — и нечаянная, но реальная смерть.
Выходит, правы были юристы, подавшие против него иск, — не разобрался в ситуации, набросился на «опасного инородца», сочтя его за угрозу? Правы они? Почему он решил, что нападающий — Рэймонд? У Рэймонда был нож, он разговаривал сам с собой, а Ив уползала от него на четвереньках и кричала, — и все это, как он теперь понимает, еще ничего не доказывает. Теперь, заполучив улики и намеки, он видит: изначально что-то было не так. Прежде всего, стоило задаться вопросом, зачем женщина забрела посреди ночи в опасный район. Следовало заметить, как медленно она ползет, распознать хореографию, сыгранность всей мизансцены. Он мог бы различить тревогу и тупое доверие на лице Инигеса — они стали очевидны, как только он поглядел на это лицо в другом ракурсе и не ослепленный адреналином. Мог бы и камеру увидеть, и по-любому следовало звонить копам, а не разыгрывать из себя Супергероя.
А она почему промолчала? Камеру настраивала?
О, это замечательно, так спонтанно, мне нравится, нравится, блестяще, не противься этому, милый, отдайся-отдайся-отдайся.
И он по ошибке — страшнейшей из ошибок — убил человека. А она пока что манипулировала кадрами.
И теперь она отступила в тень, дает ему время усвоить новую информацию, однако в любой момент может объявиться — как в ту первую ночь у него на диване, как в тот день в книжном магазине. Уже тогда она выслеживала его? Почему бы и нет. А может, и до того выслеживала. Может, и та изначальная сцена — подстроена. Как далеко в прошлое отматывается клубок безумия? Ответ: начнешь разматывать самого себя, никогда не остановишься.
Но рисковать он не намерен.
Во второй понедельник новой практики, перед уходом на работу, Джона выглянул из окна и увидел на углу женщину в пуховике. Ростом и фигурой она так напоминала ее, что Джона как последний идиот прихватил сумку и полез вниз по пожарной лестнице. Только на нижней ступеньке разглядел, что это старик с сигарой.
Рисковать не намерен, твердил он.
Из ночи в ночь проблемы со сном. Диск закопан в ящике стола, но и сквозь деревянную столешницу — бьется, пульсирует. Того гляди, комната вспыхнет адским пламенем.
Он ни с кем не делился. Какой смысл? Ему от этого лучше не станет, Рэймонда Инигеса не воскресишь, а Симон Инигес и Роберто Медина и так надеялись его засудить. Если он признает свою ошибку, пусть и действовал из лучших побуждений, вряд ли он станет в их глазах героем. Да и кому рассказать? Родителям? Вику? Лансу? Напугать их до полусмерти? Белзеру рассказать?
Повесь на себя табличку: «Прошу вас, отдайте меня под суд». Давай уж сразу. Полно, сынок, что сделано, то сделано.
Он не мог сообщить в полицию о преступлении — ведь единственное преступление совершил он сам, Ив ничего не сделала. Болтала много да трахала его в публичных местах — не более того. Никогда не угрожала, ни намека, что может причинить ему вред. И не причинит никогда. Она же его любит.
Вот так и выматывала его тревожность: щелчок переключателя — и он жалкий безумец, сознающий при этом, что щелкнул-то переключателем он сам. Ив довольствовалась легчайшим намеком и тут же отступала в сторону, предоставляя Джоне провариться в молчании. Она знала, что его темное воображение, неустанно работающий механизм по производству вины, сам докончит остальное. Знала, что Джона не справится с грузом «а что, если». А что, если он — убийца. А что, если Ив сделает с ним то же, что с Рэймондом. А что, если ничего с ним не сделает.
Молчание. А что. Если. Страх. Все три слова — синонимы. Один шанс выиграть и миллион — проиграть.
Он пожирает себя изнутри.
Ты — великий художник.
Она убеждена, что все это ему по нраву.
Он думал, не передать ли диск в полицию или прокурору. Каковы могут быть юридические последствия? Преступником он себя все-таки не считал. Он действовал решительно при виде чужой беды. Он ошибся, но с людьми такое бывает. Столь же свойственно людям и строго судить других за ошибки: превозноситься морально. Если он сдаст эту запись, вся вина обрушится на него, на него одного. Насколько Джона понимал, Ив не могут судить за то, что она стояла себе в сторонке и помалкивала.
Или все-таки могут? Он понятия не имел о юридических тонкостях. Во всяком случае, она не побоялась послать ему этот диск. Догадывалась, возможно, что ему пороху не хватит кому-то еще показать. И была права. Теперь они связаны вовек этим общим знанием, заключены во вселенной для двоих — в точности как Ив и добивалась.
19
Пятница, 19 ноября 2004
Психиатрическое отделение, вторая неделя практики
— Опять жужжите, — сказала ему Бонита.
НОМЕР НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Он выключил телефон и принялся за буррито.
— Это мама.
— Похоже, она вас сильно любит, шестой раз за десять минут звонит.
— В самом деле? — Он обмахнулся промасленной бумажной тарелкой. — А я и не заметил.
Ближе к вечеру он вынырнул из метро на Первой авеню, и вот она: без зонтика под дождем, вытянутыми руками раздвигает медлительный в пробке транспорт и ухмыляется, ухмыляется.
— Любовь моя!
Он дернулся, как деревянный солдатик, выглянувший на миг из напольных часов, — за угол на 14-ю, нырнул в сэндвичную у метро, подбежал к прилавку, лицом-к-защитной-усмешке-лицу столкнулся с прыщавым парнишкой, который приветствовал его: Что желаете?
Затвердевшие края сыра, расползается комкастый консервированный тунец, серые, холодные куски.
Рядом с ним двое мужчин в пятнистых джинсах (вошли в моду эти обляпанные краской) и свитерах строительной компании уминали «субмарины» с тефтелями. Сложены, точно броненосцы, сплошь плечи и шея. На одном кепка «Джайнтс» с длинным и плоским, в наклейках, козырьком, на другом синяя бандана, повязанная как перед тренировкой, шевелится в такт усердно работающим челюстям. Прилежно жуя, мужик столь же прилежно изучал напечатанный на салфетке состав «субмарины». Который в кепке — ему: «Йо, друг, что-то новое вычитал?»
В надежде переждать Джона взял большую порцию напитка, ему протянули картонный стакан, скрюченные пальцы Джоны оставляли уродливые следы на вощеной поверхности. Он направился к автомату с газировкой, стоял спиной к входу, подливал воды по сантиметру, полсантиметра, ждал полного отстоя пены, снова подливал. Субмаринщики доели и вышли. Картонный стакан наполнился. Джона отлил немного и начал сначала.
— Подливать не разрешается.
Джона спросил:
— Там, у входа, стоит женщина — темные волосы, рост метр пятьдесят семь примерно, лиловая юбка, куртка-пуховик?
— Я никого там не вижу.
Джона вышел, так и оставив стакан с шипучкой на прилавке, и побрел на восток, мимо индийских закусочных, Непорочного Зачатия и почты. Почувствовал себя в безопасности — ушел от нее, ловко проделано, Супермен, — и тут ему на плечо легла чья-то ладонь.
Он подлетел, его развернуло на сто восемьдесят градусов, Джона врезался в белую девушку с дредами, та выкрикнула: «Блядь!» — и умчалась прочь, крошечная фигурка, затерянная в огромных джинсах с замусоленными, ободранными манжетами.
Ив расхохоталась:
— Не пугай туземцев.
Волосы ее бронзовели в отсвете неоновой вывески «Миллер Тайм». Впервые Джона увидел ее с косичками — еще на пять лет моложе показалось и без того юное лицо. Красива, с этим не поспоришь, непроизвольная эрекция заставила Джону сунуть руки в карманы и бороться с желанием, представлять рубцы и шрамы, что спрятаны под пуховиком.
— Не буду, — пообещал он.
— Не будешь — что? Пока я не сказала ничего, на что стоило бы ответить. Разве что ты решил согласиться с моим предупреждением насчет туземцев, которых не надо пугать. Если так, я спорить не стану. Это было незначительное замечание, так, чтобы разговор завязать.
— Не буду разговаривать с тобой.
— Мы находимся в общественном месте, Джона Стэм. Стоим посреди улицы. Кто запретит мне приходить сюда? — Жестом она охватила башни Стайтауна. — Любимые воспоминания. Детство. Лилейные долины юности. Почему ты избегаешь меня?
Он развернулся, чтобы уйти, но она преградила ему путь.
— С дороги!
— Как ты груб, — вздохнула она и, когда Джона попытался обойти, танцевальным па вновь оказалась перед ним. — Видимо, ты получил мой подарок?
Он оттолкнул ее руку, пошел прочь.
— Это было «да»?
— Ты больна, — сказал он.
— Ц-ц-ц.
— Я обратился в полицию.
— Нет, не обратился, — сказала она.
Он промолчал.
— Что-то ты холодноват со мной.
— Найди себе другого для этих безумных выходок.
— У тебя лучше всех получается.
Он промолчал.
— Я ждала тебя, ждала, и все напрасно. Ждала по утрам, а ты все никак не выходишь. Что такое? Звоню, а ты не берешь трубку. Ты получаешь мои сообщения? Я люблю тебя. Тогда я сказала себе, Ив, сказала я, отправляйся прямиком туда, где все началось. Пошла в больницу, но и там тебя не было. Пришлось изобрести новый план, и вот я здесь. Сработало. Почему же ты уходишь?
— Не прикасайся ко мне.
— Прошло три недели, ты вот-вот лопнешь.
Он снова попытался обойти ее, и снова Ив преградила ему дорогу, закинула ему руки на шею. В ужасе он попятился, но тем самым лишь потянул ее на себя.
— Отпусти!
— Другая женщина? — задала она вопрос. — Эта Ханна?
— Отпусти меня, Ив!
— Неужели ты не видишь, как я тебя люблю?
— Последний раз говорю: отпусти!
Она принялась целовать его в шею, в подбородок:
— Я лучше ее!
Он отпихивал Ив, отворачивался, пряча лицо, удерживая ее на расстоянии вытянутой руки, но с трудом. Давление на шею росло: Ив поджала ноги и повисла у него на шее живым ожерельем, ярмом, трофеем исступленного насильника. Позвоночник неудобно выгнулся, торс пронизала боль, Джона со стороны услышал свои унизительно-бабьи постанывания. Ив присосалась к его лицу. Представь, что это ребенок, ты же не ударишь ребенка, сколько бы он к тебе ни лез. Нет, он ее не ударит. Что угодно, только не это, ведь именно этого она добивается. Он вдавил пальцы ей в солнечное сплетение, Ив обеими ногами оплела его талию, зажав вторую его ладонь. Он не станет ее бить. Он воткнул большой палец в ямочку ее горла, нажал сильнее, противоестественные, немыслимые для него поступки, но пришлось. Притворимся, будто душим надувную резиновую куклу. Палец уже на фалангу ушел в ее горло, Джона чувствовал, как прогибается внутри трахея. Но Ив все цеплялась за него, давясь, из угла ее рта ему на шею побежала струйка слюны. Больше держать ее он не мог, рухнул на колени, и она тут же воспользовалась моментом, напрыгнула на него сверху, животом ему на спину, головой к копчику, уронила его лицом вниз на мокрый асфальт. Бедрами она сжимала его голову, тянула, словно его шея была бутылкой шампанского, а череп — неподатливой пробкой. Колготы наждаком скребли ему щеки. Ив впилась ногтями ему в подколенные сухожилия, погрузила нос в его задницу, будто решила насквозь прогрызть ему штаны и добраться до сути. Никогда еще не доводилось Джоне созерцать нью-йоркский асфальт со столь близкого расстояния. Трещины забиты грязью, грязь лезет под ногти, когда он пытается отжаться и встать, ладонь скользит в месиве из окурков и газетных обрывков.
Он оторвался от земли, но внезапная вспышка света ударом под дых бросила его назад. Тощий парнишка в балахоне с меткой нью-йоркского универа навел на него свой фотоаппарат. Джона обругал его, смаргивая слепящие красные точки и зеленые разводы, и мальчишка побежал дальше. Прошли две женщины, одна из них самой себе буркнула: «Съемки». Да что такое творится с ньюйоркцами? У всех на глазах два человека борются, барахтаются в грязи под дождем, а они воображают, что это искусство? Ему бы супергероя играть, который прочел в газетах о подвиге Джоны Стэма и рыщет ночами по Манхэттену в надежде спасти девицу в беде. А ведь со стороны, должно быть, злодеем сейчас кажется он.
Резким усилием Джона поднялся, Ив откатилась на спину. Падая, она успела ухватить его за рубашку, оторвала верхнюю пуговицу. Уцепилась за его ногу, оплела плющом.
— Отпусти, на хрен, мою… отпусти! — Он дергал ее за уши, снова сдавил горло. — Я тебе шею к черту сломаю.
— Следи за своим добром, — посоветовала она, указывая кивком; Джона обернулся и увидел парня, подобравшего рюкзак.
— Эй! — завопил Джона. — Рюкзак мой.
Парень глянул на него, на Ив и пошел себе, уронив рюкзак в канаву.
— Все-то я о тебе забочусь, — сказала Ив.
Он прошептал прямо ей в ухо:
— Получи удовольствие — это в последний раз. — И локтем двинул в висок.
Ив обмякла, он стряхнул ее с себя, поднял рюкзак и двинулся, шатаясь, прочь.
Не прошел он и пяти шагов, как позади раздался душераздирающий вой.
Ловите его, он украл мою сумку!
Инстинкт советовал: остановись, оправдайся. Какого черта, какую еще сумку!
Нет! Он побежал.
Остановите его! Кто-нибудь, хватайте его!
Он пролетел по авеню А, рюкзак спереди, словно пивной живот, колотит его нещадно, и вот он уже выудил ключи, нащупывает ключ от подъезда, зажал в пальцах, оглянулся…
Остановите его!
Он не увидел, откуда обрушился удар, почувствовал только, как хрустнула челюсть, словно он пытался откусить кусок мрамора, и резко, до тошноты, поменялся угол зрения, — так, наверное, чувствует себя воздушный змей, попав в губительную воронку ветров.
Он открыл глаза, лежа на спине среди четырех колонн, обтянутых белой джинсовой тканью в пятнах краски. Два широких, недобрых, неодобряющих его черных лица смотрели на Джону с высоты, как будто с очень большого расстояния. Может, он лежит в могиле и сейчас его засыплют песком и грязью? Очень больно, не пошелохнуться.
У того, с кепкой, в руках его рюкзак.
— Он жив? Джона?
— Вот ваша сумка, — сказал который в кепке. — Мой приятель побудет с вами, а я вызову копов.
Ив провела ноготками по лбу Джоны.
— Любовь моя… Все в порядке, — сказала она тем мужчинам. — Это мой муж. Мы поссорились. Теперь мы помиримся.
Негры переглянулись.
— Любовь моя, как ты?
Джона простонал.
— Большое спасибо.
— Точно не хотите вызвать полицию?
— Спасибо. Точно. Вы так мне помогли.
Который в кепке покачал головой, который в бандане пожал плечами, и они побрели дальше.
— Стойте! — каркнул им вслед Джона.
— Ш-ш, — удержала его Ив. — Отдохни, любовь моя. Оправься. Приди в себя. Небесные слезы тебя омоют. Они исцеляют. Ш-ш…
Дождь нарастал, в трещиноватом асфальте собирались лужи. Волосы Джоны промокли, пропитались соками города, рубашка отяжелела от воды. Лицо Ив словно плыло над его лицом, капающие кончики косичек будто плачущие ветки вяза, ее дерева. Дождь жалил глаза, вода затекала в нос. Плачут карнизы. Пахнет падалью и кошачьей шерстью. Он захлебнется и утонет посреди Ист-Виллиджа.
— Это судьба, — приговаривала Ив. — Я — твоя миссия, Джона Стэм. А ты — моя. Куда бы ты ни пошел, я — камни у тебя под ногами. Когда ты ночью возвращаешься домой, я — твоя постель. Пока ты живешь, я — твой воздух, когда ты умрешь, я стану принявшей тебя землей. Я повсюду, Джона Стэм. С этим бессмысленно спорить. — Она улыбнулась. — А теперь — провожу тебя наверх и заварю чай?
Он заставил себя встать. Боже, голова разрывается.
— Можем мы вести себя цивилизованно? Или я вынуждена буду прибегнуть к крайним мерам?
Он поискал в кармане куртки ключи.
— Ответь же мне!
В кармане куртки пусто.
— Ты это ищешь?
И она убежала, а он, рванувшись следом, поскользнулся на мокрой бетонной ступеньке, хотел ухватиться за каменные перила, ухватился неудачно, ободрал с тыльной стороны ладонь.
— Уверен, что без этого не обойтись, чувак?
— Я же сказал: я все оплачу.






