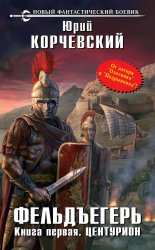Пастырь добрый Попова Надежда
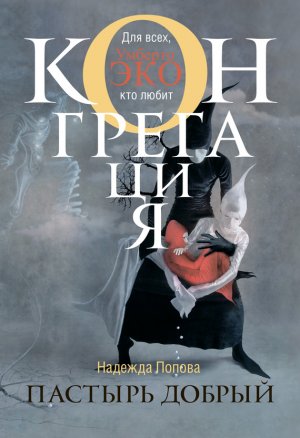
За едва передвигающей ноги Хельгой Крюгер все трое брели, насилу сдерживая нетерпение; Ланц и Бруно смотрели ей в спину по-прежнему удивленно, настороженно, словно ища подвоха, и Курт, приостановившись, кивнул в сторону тощей скрюченной фигурки.
– Как вам такое укрепление веры? – шепнул он тихо. – Выбирайте: везение или благоволение свыше?
– Ты-то ведь полагаешь это совпадением? – откликнулся Ланц, и Курт отмахнулся, ускорив шаг и усевшись на скамью против старухи, примостившейся на застланной потрепанной дерюгой постели.
– О чем же говорить-то будем? – тяжко вздохнула она, переводя взгляд с одного гостя на другого. – Мне думалось – вы за мною пришли…
– Не совсем, если я правильно понял, что означает твое «за мною», – возразил Курт серьезно. – Преследовать тебя за твое родство мы не намерены, это теперь, знаешь ли, не принято.
– Странные настали времена, – качнула головой старуха. – Так для чего ж тогда я вам понадобилась, если не в узилище?
– Для ответов на вопросы, Хельга, не более. Ты ведь еще помнишь, как все было, или…
– Ну, как же, конечно, помню все, как вот вчера. Господь меня не только долгою жизнью наказал, но и ясным разумом и отчетливою памятью, хоть и рада была бы помутиться и позабыть. Только ведь, коли вы меня нашли, так значит, и знаете все это не хуже меня самой; чего ж вам еще надобно?
– Не хуже тебя… – повторил Курт. – Нет, думаю, «не хуже тебя» этого не знает никто. Есть один, самый главный вопрос, на который, кроме тебя, ответить некому – более никого в живых не осталось из тех, кто был на берегу Везера в тот день. Я не надеюсь, что ты вспомнишь, однако не могу не спросить, ибо именно за тем мы и искали тебя: ты сможешь теперь сказать, пусть и не с точностью, где могила Фридриха Крюгера?
– Могу, и с точностью, – тихо прошамкала старуха, и ее острое плечо, скошенное кверху, нервно передернулось, словно ее кольнули в бок острой иглой. – Была б на речке той сейчас – пальцем бы указала. Помню все, словно оттуда лишь только сей же час ушла, все до слова помню, до шага, все до травинки, майстер инквизитор. Описать вам, где, не сумею, однако ж сама – помню.
– Невероятно… – повторил Ланц ошарашено, не сумев или позабыв сдержаться. – Я не припомню уже, что говорил жене в день венчания или духовнику на первой исповеди, а чтоб вот так, спустя сто лет…
– Быть может, и впрямь Господь решил, что я должна вас дождаться? – шепотом прошамкала старуха. – Не искупить вины отца, но самого его упокоить давно уж было надо. Ему там тесно, ох как тесно; выбраться хочет – и выберется, чувствую. Тогда маленькая была, не соображала, а теперь уж знаю: такой – выбьется рано или поздно.
– Что ж молчала столько лет? – спросил Ланц хмуро. – Не говорила ни с кем, смерти ждала… Отчего к нам не пришла?
– Боялась я поначалу, – пояснила она просто. – Оно ведь как – ждешь-то ее ждешь, зовешь, а все же боишься; а уж такую, как вы бы мне дали – такой и врагу пожелать не захочется. Теперь уж бояться перестала, а все же – как к вам идти? Куда? Я уж давно не девица, по дорогам разгуливать.
– А придется, – возразил Курт решительно, скосив взгляд в окно, где за ранними сумерками уже едва проступал в небе сереющий солнечный ком.
* * *
Отговорить его ехать вечером, когда все более стынущую землю уже окутывали ранние октябрьские сумерки, наполненные снова холодным туманом, не смогли ни Ланц, ни Бруно; Хельга Крюгер ничему не возражала, и новость о том, что ее повезут вновь к стенам некогда родного города, восприняла с равнодушием. Бесконечные разъезды, впрочем, и самому Курту надоели ничуть не менее, нежели прочим членам их небольшого розыскного отряда, пробуждая глухое раздражение. Посему, явившись снова к старосте, он не сумел (да и не захотел) найти в себе силы на вежливые разъяснения, попросту снова ткнув в перепуганную физиономию Знаком и потребовав предоставить запряженную повозку и пару лопат здесь же и сейчас. На робкое «но как же…» он лишь бросил: «Немедленно» – тоном, от которого староста будто подернулся ледяной коркой и послушно закивал с таким видом, словно мечтою всей его жизни был вот этот самый вечер, когда он должен будет вручить свое кровное имущество майстеру инквизитору. Упомянутое имущество, предоставленное в распоряжение следователей спустя полчаса, состояло из раздолбанной телеги, в каковой, судя по ошметкам коры и острым сухим щепкам, еще вчера перевозили дрова, и кряжистой молодой лошадки, косящейся на своих рослых собратьев испуганно и даже, мнилось, с почтением, отчего на миг пришло в голову, что в фырканье друденхаусских жеребцов проскользнули, быть может, произнесенные на их лошадином наречии заветные слова «Святая Инквизиция; подчинись»…
Старуха Крюгер собиралась долго, невыносимо медлительно шаркая из комнаты в комнату, перекладывая с одного места на другое какие-то мешочки и коробочки, невнятного назначения тряпки, что-то бормоча себе под нос, и спустя еще четверть часа Курту уже не казались такими уж бессмысленными некоторые предрассудки, бытующие и по сию пору в народе касательно бубнящих горбатых старух. Когда же, наконец, завалив повозку одеялами, покрывалами и еще Бог знает чем, та готова была тронуться в путь, начало уже темнеть, и на зарывшуюся в этот тряпичный сугроб соседку крестьяне, высунувшие-таки носы из-за оград и ставен, смотрели оторопело и с неприкрытым ужасом. Если кто-либо из них уже успел вызнать у старосты, что именно потребовал Курт, сейчас добрые дорферы наверняка переваривали мысль о том, что трое приезжих инквизиторов собрались закопать несчастную старушку.
Обратный путь оказался еще более мучительным и выматывающим (прежде всего, нервы), нежели дорога до Фогельхайма – лошадка старосты ни в какую не желала двигаться быстрее среднего пешехода, и вскоре Курт понял, что у него есть немалый шанс, уснув, опрокинуться с седла под колеса монотонно скрипящей телеги. Туман сгущался все плотнее, ощутимо стискивая со всех сторон, словно стеганое одеяло, оседая на одежде тяжелыми каплями; с волос вскоре мерзко потекло за шиворот, и он от души пожалел подопечного в суконной одежде, съежившегося в седле, словно вымоченный дождем воробей под крышей. Фляжки со шнапсом, до сей поры почти не востребованные, теперь стали прикладываться к губам чаще, согревая скверно и ненадолго, и умноженный холодом все более одолевающий путников сон заставлял коситься на скрючившуюся в телеге Хельгу Крюгер с нескрываемой завистью. Наконец, махнув рукой на условности и приличия, Ланц распорядился сдвинуть старуху в сторону, дабы освободить еще одно место; засыпая в свой черед на трясущейся повозке в ворохе намокшего тряпья, Курт успел подумать о том, что даже в его весьма увлекательной личной жизни такие соседки по ложу еще не встречались.
Утром, наступления которого все ожидали с таким нетерпением, туман, вопреки предположениям, не развеялся, собравшись еще непроницаемее и ставши похожим на разбавленное водою молоко, и дорога теперь виделась не более чем на десяток шагов вперед. Солнце выползало до одури медленно, почти неразличимое за этой завесой, едва прогревая водяную взвесь; лишь ближе к полудню, когда справа блеснула темным свинцом лента Везера, мутная пелена начала осыпаться холодными бусинами, и спустя полчаса стало ясно, что туман уступает место мелкому моросящему дождю.
– В тот день тоже шел дождь…
От скрипучего голоса, внезапно сорвавшего мертвую тишину, подопечный дернулся, а придремавший прямо в седле Ланц, вздрогнув, рывком поднял опущенную на грудь голову, сонно озираясь.
– С самого утра шел дождь, – повторила Хельга Крюгер, кутаясь в одно из своих многочисленных одеял. – Отцу это отчего-то было в особенности приятно. В то утро он выглянул в окно и сказал: «Дождь. Хорошо»…
Курт приподнял лицо к небу и, щурясь, оглядел непроницаемый пласт сизых туч.
– Как ты теперь думаешь, – спросил он тихо, отираясь мокрой ладонью, – в это утро он уже знал, что будет делать?
– Накануне вечером уж знал, как теперь мыслю, – шамкнула старуха, передернув сухими костями плеч. – Готовился. А утром уж и подавно. Проснулся такой торжественный. Мне уж подумалось – праздник какой, да я позабыла… А перед тем, как уйти из дому, он вдруг распахнул дверь в подпол и велел сидеть там. Перепугалась я – страсть; он ведь меня никогда не наказывал. Не бил, не кричал никогда. А тут вдруг – в подпол. Я – в слезы…
Старуха умолкла, плотнее замотавшись в одеяло; Курт втиснул голову в плечи, безуспешно пытаясь укрыться от стекающей за воротник воды, припомнив – «не видели средь идущих за ним детей одного лишь ребенка младше двенадцати лет»…
– Ты слышала его флейту в тот день? – уточнил он, и Хельга Крюгер кивнула:
– Слыхала, как же. Слыхала, как играет – только не снаружи, а как будто он в голове у меня устроился. Мне после сказали, как все было, а тогда я ничего не поняла – сидела и боялась только.
– Чего боялась?
– Да всего. Сперва он меня вот так вот запер; он так никогда не делал. И музыка эта чудная… А кроме того, перед тем, как уходить, он мне еще на шею повесил дрянь такую – череп крысий; «не снимай», сказал. Снимешь, сказал, беда случится. И глаза такие были жуткие… Я и не сняла. Не посмела. А только боязно было сидеть вот так, в темноте, одной, да с мерзостью этой на шее… Когда сказали потом, что отец мой колдун, я, знаете, и не подивилась этому – вроде как всегда о том знала, только думать себе заказывала.
– Выходит, – чуть слышно заметил подопечный, – дочь осталась не случайно. Берег.
– Quam belle[138], – покривился Курт. – Наш детоубийца – любящий отец. Запишем в святые – покровители семьи?
– А я-то полагал – ты ее проверить пожелаешь, – ядовито отозвался Бруно. – «Ведьмина кровь», знаешь ли, передача дьявольской заразы по наследию; или нынче эта теория не в моде?
Курт бросил взгляд на притихшую снова старуху и сдал коня назад, понизив голос:
– Как бы ни было все на самом деле, что бы он ни задумал, отчего бы ни сохранил дочь – из жалости ли, любви ли или с замахом на неведомо какое будущее – положение таково, что ей самой до могилы осталось два шага. Теория? Теория – она и есть теория. Применяется по ситуации. В данный момент ее возможное участие в отцовских планах значимости не имеет… Зараза, – прошипел он сквозь зубы, когда одна из капель, благополучно миновав воротник, шлепнулась ледяным камешком за шиворот, и зябко поежился, в очередной раз потянувшись к полупустой фляжке. – Следователи, прости Господи. До простой вещи не доперли – в середине октября плащ в дорогу взять… Эй, – окликнул он, повысив голос и от души долбанувши в борт повозки ногой, дабы пробудить заклевавшую носом старуху, – долго еще? Ты точно помнишь, куда ехать?
– Все в точности, – отозвалась та уверенно. – Только теперь не ехать – идти надобно; я смотрю – тут заросло все за эти годы. Кустов и деревьев много выросло. Сворачивать надо с дороги и идти к реке, а там уж и недалеко.
Курт покривился, припомнив, как Хельга Крюгер ковыляла по комнатам своего дома, однако промолчал, с тяжким вздохом сползя с седла, и обернулся на расплывчатую неровную линию городских стен вдалеке – серого камня было почти не видно за колеблющейся водной пеленой.
– По-моему, дождь стал сильнее, – вслух повторил его мысль Бруно, на сей раз без язвительности и даже, кажется, с заметной опаской. – Скажи, что я зря сею панику, но хочу отметить некий факт: в тот день тоже шел дождь; и – вода, ты говорил, его стихия?..
– Панику сеять, безусловно, понапрасну не следует, но поостеречься не помешает; словом – смотри в оба. И не только за тем, встанет ли Крюгер.
– Полагаешь, – вмешался Ланц недоверчиво, – все же нам могут попытаться помешать? До сей поры мы никого не видели.
– Это меня всего более и настораживает, – возразил Курт убежденно. – Самое время. А кроме того, как только что верно отметил Бруно, такое совпадение в погоде вполне может быть и неспроста; помни о том, что он уже почти выбрался, он почти на свободе, он уже обладает довольной силой для того, чтобы убить – пусть и пока лишь одного и пока лишь ребенка. И нам не известно, что сейчас происходит в Кёльне; быть может, уже не одного и уже не только ребенка. И никто не знает, чего мы можем от него ожидать здесь, поблизости от места его… сказал бы «упокоения», если б не обстоятельства… Так куда идти? – нетерпеливо прервал он самого себя, обернувшись к Хельге Крюгер, и та махнула костлявой рукой в сторону теперь уже невидимого Везера:
– Так к реке ж, говорю. Там уж покажу. Я сейчас только…
За тем, как старуха сползает с болтающейся из стороны в сторону телеги, Курт наблюдал со все возрастающим нетерпением, и когда Бруно уже шагнул было вперед, дабы оказать ей помощь, Ланц, попросту ухватив бормочущий мешок с костями за шиворот, одним сильным рывком приподнял оный над бортом телеги и установил на взбитую слякоть по другую сторону.
– Веди, – велел он коротко.
– Ты уверена, что помнишь, куда идти? – уточнил Курт с сомнением, и та кивнула, засеменив к реке по хлюпающей грязью траве:
– А то ж. Это верно, и день я тот помню, и что говорили тогда, и что я делала – ясно помню, яснее, чем какой иной день в жизни, и где могила – помню… А только ведь, кроме того, знаю просто. Верно, кровь зовет…
– Теория по ситуации, значит? – тихо пробормотал Бруно; Курт покривился, перехватив его многозначительный взгляд, и промолчал.
– Они, может статься, и правы были, – продолжала старуха чуть слышимо, словно говоря с самой собою, – когда хотели и меня туда ж, к нему. Злое семя, они сказали. Я после уж поняла, когда подросла, – верно говорили. Я ведь оттого и замуж не шла, и детей не имела. На что его множить, семя это, к чему кровь нечистую плодить? Я решила так, что пусть она со мною в могилу отыдет, на мне и кончится.
– Мечта инквизитора, – с тусклой иронией отметил подопечный. – Гляди, на костер не запросится?
– А ты спроси, – отозвался Курт, ладонью сгоняя с волос ледяную воду и с чавканьем вытаскивая сапоги из липкой глинистой грязи. – Еще немного – и запрошусь я.
– Разумеется, тебе хуже всех, – согласился Бруно. – Я тащу две лопаты, тяжеленные, как чертова душа, и веду коня в поводу, но мне не на что жаловаться. Хотя кто-нибудь мог бы и помочь.
– «Кто-нибудь» прикроет тебя, случись что, посему этот кто-нибудь имеет свободные руки.
– Единственное, что мне до сих пор угрожало, это опасность отморозить ноги и подцепить горячку, а теперь – еще и немалая вероятность вывихнуть плечо.
– Слабак, – тяжело отфыркиваясь, как понуро бредущий позади курьерский, выдохнул Курт, перехватив одну из лопат, и впрямь весящую прилично, с плеча подопечного.
Идти становилось все труднее даже не с каждой минутой, а с каждым шагом – дождь и в самом деле усилился, мало-помалу переходя из моросящей крошки в самый настоящий, осенний, секущий; в сапогах, облепленных комьями мокрой земли, сопревшей травой и мелкими корешками, пакостно чмокало, и неспешно ползущая впереди Хельга Крюгер начинала пробуждать уже откровенное раздражение.
– Вон оно, томесто, – наконец проскрипела старуха, и Курт облегченно вздохнул, проследив взглядом за трясущимся сухим пальцем, указующим на близкий берег Везера. – Там в те времена голо было, теперь, вижу, деревья выросли… Но это там, подле обрыва.
– Да, – подтвердил он недовольно, – деревья. К слову, за кустами, через которые мы идем, можно укрыть по меньшей мере троих. Прямо вот тут, в пяти шагах от нас.
– Ты параноик, абориген, – впервые за последние полчаса разомкнул губы Ланц, на миг полуобернувшись. – А с тобой и я стану.
– Не самый бесполезный недуг, – буркнул Курт, озираясь. – Реже прочих приводит к летальному исходу.
Сослуживец лишь скептически покривил губы и вновь умолк, тяжело переведя дыхание.
Спустя четверть часа, которые потребовались на то, чтобы добрести до невысокого скользкого обрыва, дождь уже лил вовсю, скапливаясь в лужи под ногами, и стылый ветер бросал воду в лицо большими колючими горстями. Старуха Крюгер, замотанная в обрызганное грязью одеяло и оттого похожая на нахохлившуюся мокрую ворону, остановилась в десяти шагах от кромки берега, указав дрожащей посиневшей рукой прямо перед собою.
– Здесь, – произнесла она тихо, и очередной порыв ветра едва не сбил ее с ног, выплеснув на путников ведро ледяной воды. – Вот это самое место.
– Уверена? – уточнил Курт, вновь тщетно пытаясь отереть лицо вымокшей насквозь перчаткой; та кивнула:
– Здесь это, майстер инквизитор. Знаю. Помню и – знаю; чувствую. Тут он. Прямо вот тут вот, – повторила Хельга Крюгер, без колебаний ткнув пальцем себе под ноги, и Ланц невольно отступил назад, глядя в темную слякоть пристально, словно бы тщась увидеть останки погребенного углежога сквозь слой тяжелой мокрой земли. Старуха повторила его взгляд, мелко смаргивая текущую по лицу воду, и тяжело вздохнула, отойдя в сторону: – Простите, майстер инквизитор, я присяду вот тут вот… Сил никаких нету…
– Не стоило б наземь-то, – неуверенно возразил Бруно, глядя, как она опускается прямо в мокрую траву. – Застынешь.
– Чего мне уж бояться? – шепотом возразила та, закрывая глаза. – Уж ерунда все это…
На засыпающую под дождем ценную свидетельницу Курт бросил взгляд мельком и отвернулся. Еще час назад он наверняка высказался бы о тяготении крестьянства к грязи, однако сейчас лишь жалкие обломки самоуважения и брезгливости мешали самому усесться прямо в эту промозглую мешанину.
– Последний рывок, – выдохнул он, с размаху воткнув лопату в пронизанную мелкими корешками землю, и широко повел рукой, приглашающе кивнув Бруно: – Приступай.
– А почему опять я? – насупился тот недовольно.
– На белом свете, Бруно, есть два типа людей: одни со Знаком, а другие копают, – пояснил Курт наставительно и, встретясь с убивающим взглядом подопечного, вздохнул: – Вместе будем ковыряться, не напрягайся. Надеюсь, вся наша затея не окажется злой шуткой старческого слабоумия. Последний раз, – чуть повысил голос Курт, обернувшись к неподвижной старухе, – ты точно уверена, что это здесь?
Та не ответила, не повернув к нему даже головы, оставшись сидеть, как сидела, закутавшись в одеяло и закрыв глаза; Ланц толкнул ее в плечо, окликнув, и Хельга Крюгер, пошатнувшись, запрокинулась на бок, обдав его сапоги роем грязных брызг. Несколько мгновений протекли в безмолвии; наконец, медленно присев у недвижного тела на корточки, Ланц осторожно коснулся оголившейся дряблой шеи двумя пальцами, замерев на миг, и, убрав руку, молча перекрестил ворох костей и тряпья, минуту назад бывший дочерью Крысолова.
– Она уверена, – просто ответил Курт сам себе.
– Это надлежит понимать как очередное укрепление веры? – так же тихо произнес подопечный; он пожал плечами:
– Как тебе угодно. Говоря объективно, это просто смерть древней старухи, которой не давало уйти в мир иной незавершенное дело. Теперь она сочла свой долг уплаченным.
– А что на самом деле?
– Если мы так и будем стоять здесь и просто разглядывать труп, мы этого не узнаем, – вздохнул Курт, берясь за сырой склизкий черенок. – Что на деле – увидим; предлагаю начать докапываться до истины.
Бруно бросил последний взгляд на тело, лежащее в залитой водой траве, и медленно отвернулся, с угрюмой решимостью вогнав в землю кромку лопаты.
* * *
Полчаса прошли в молчании – Ланц, несколько раз предложив помощь и услышав в ответ отказ, прохаживался чуть в отдалении, не зная, куда себя деть, и явно не принимая всерьез просьбу младшего сослуживца быть настороже; у новоиспеченных же гробокопателей сил на разговоры не осталось – кромки лопат оказались наточены никудышно и с невероятным усилием прорезали скрепленную корнями глинистую почву, дождь обваливал края только выкопанной ямы, заполняя ее вязкой слякотью, земля ехала под ногами, перепачканные рукояти лопат выскальзывали из мокрых ладоней, и оба вскоре вывозились в грязи по пояс.
– Это и есть то самое «носом землю рыть»?», – соскребя остатки сил, выдохнул Бруно; Курт лишь искривил губы в нечто, весьма отдаленно напоминающее улыбку, и вновь с остервенением вгрызся в утрамбованную десятилетиями почву.
Еще через полчаса он сбросил тонкую кольчугу, надетую под куртку, и пояс с оружием, вдруг ставший неимоверно тяжелым, а спустя еще часа два, когда он уже готов был проклясть все на свете не подобающими следователю Конгрегации словами, почти уверясь в том, что старая карга все напутала или даже и вовсе измыслила сама себе, подопечный, выкопнув очередной сырой плотный ком, выбросил на поверхность легко узнаваемый предмет.
– Кость, – констатировал Бруно с невероятным облегчением в голосе. – Кто бы мне сказал, что я буду так рад увидеть кусок прелого скелета.
– Перерыв, – отозвался Курт, тяжело опершись о край ямы, и с натугой вытащил себя на траву; ошметки былого самообладания осыпались, посему, не имея теперь уже сил думать ни о чем, кроме ноющего тела, он, ничтоже сумняшеся, уселся прямо на омерзительно холодную землю, свесив с коленей гудящие руки и уткнувшись в них лицом.
– Слабак, – бросил подопечный, оседая по ту сторону ямы; Курт покривился, приподняв голову, но даже на традиционное «отвали» сил не нашлось.
– Полагаешь, оно? – хрипло от ветра и сырости спросил Ланц, приблизясь, и опустился на корточки у развороченной могилы, глядя с сомнением на серую кость, похожую на сухую ветку; Курт отер лоб рукавом, с усилием улыбнувшись:
– Полагаю, Дитрих, навряд ли берег Везера усеян захоронениями. Да, думаю, мы нашли то, что нужно.
– И что теперь? – уточнил подопечный, демонстративно подставив замаранную глиной ладонь под струи дождя. – Сжечь, ты сказал?
– Для начала, откопать полностью; и теперь аккуратнее, не втопчи какой-нибудь обломок в землю, а самое главное – ищи флейту. И – Дитрих, добудь огня. – Ланц бросил скептический взгляд в темно-серое небо, с удвоенной силой извергающее все новые ведра воды, и он понуро развел руками: – Изобрети что-нибудь. Попробуй вон под теми деревьями – там почти не течет; может, хоть это сойдет за Господне благоволение? Тем паче, дерева – три… Поспеши. Бог знает, чего можно ожидать, когда мы выкопаем эту мерзость, и лучше, чтобы к тому времени огонь был наготове. Дело это, предчувствую, долгое, посему мы пока передохнем, а ты приступай.
– Слушаюсь, – усмехнулся сослуживец, поднимаясь и разминая шею с таким хрустом, что Бруно поморщился. – Разбужу, как закончу. Дня через два, когда просохнет.
– Что-то никакой торжественности в моменте, – проводив взглядом поскальзывающуюся в лужах фигуру Ланца, вздохнул подопечный, пытаясь грязным пальцем оттереть пятно с безнадежно угвазданного рукава. – Я как-то иначе себе все это видел – десяток арбалетчиков целится в могилу – а ну как встанет? – вокруг пара экзорсистов с возвышенными физиономиями, кучка инквизиторов с факелами… Ну, и какой-нибудь придурок роется в земле.
– Добро пожаловать на следовательскую службу! – отозвался Курт с утомленной усмешкой и, закрыв глаза, поднял голову, подставив лицо падающей с небес воде, смывающей с щек брызги грязи; к студеному ветру и дождю он уже притерпелся, к тому же в работе взмок, и сейчас равнодушно думал о том, что через минуту вновь начнет коченеть, а расстегнутая до половины куртка завтра наверняка аукнется горячкой и кашлем.
Вскоре действительно стало невозможно холодно, и он запахнулся, втянув в плечи голову; вокруг стояла сплошная пелена уже не дождя – почти ливня, и, глядя на то, как Ланц укладывает хворостины и еловые лапы, с которых наземь бежала вода, он всерьез засомневался, что из этой затеи хоть что-нибудь выйдет.
– Теперь я знаю, на чем сколотить состояние, – заметил подопечный, поднимаясь и помогая Ланцу уложить поперек вороха веток толстый смолистый сук, не успевший еще вымокнуть до сердцевины. – «Походный набор инквизитора» – огниво и бутыль со смолой. Как полагаете, многие купятся?
– Я бы сейчас за эту самую бутыль душу продал, – буркнул Дитрих зло. – Поторговался бы, да и продал. Дай флягу.
– А почему опять я? – возмутился подопечный, и Ланц повысил голос:
– Хоффмайер, я не в духе пререкаться! Флягу. Абориген, твою тоже.
Курт нехотя отстегнул пузатый сосуд, помедлив, откупорил и приложился к холодному горлышку, лишь после этого перебросив Ланцу.
Щедро политые шнапсом и дождем еловые ветви окутались дымом, стелющимся по земле и вьющимся вокруг ног под порывами ветра; крохотные, слабые язычки пламени пробивались с неохотой и треском, разгораясь медленно и плюясь во все стороны искрами. Ланц, суетящийся вокруг и опасливо, боясь ненароком погасить, поправляющий костер, сейчас походил на чародея, творящего неведомую волшбу, каковое сходство усиливалось, когда тот окроплял постепенно растущее пламя новой порцией драгоценного напитка, отчего сквозь сизый дым прорывалась инфернально-синяя вспышка.
– Итак, поскольку я не колдун и не чудотворец, – словно отозвался на его мысли Ланц, – и не могу удерживать это извращение в рабочем состоянии вечно – советую взяться за лопаты, и давайте покончим с этой пародией на расследование.
– На уничтожении флейты дознание не завершится. – Курт поднялся, подобрав упавшую в грязь лопату, и вернулся к прерванной работе, кривясь от резкой боли в мышцах. – Остаются еще те, кто затеял все это, – вполне живые и здоровые. И если кто-нибудь подскажет мне, где их искать, буду признателен безмерно.
Ланц поморщился, покрыв костер охапкой еловых лап и еще парой толстых веток, вновь оросив эту конструкцию порцией шнапса, и промолчал, бросив в сторону младшего сослуживца взгляд, весьма далекий от благостного.
Безмолвие царило еще долго; Курт и подопечный смотрели лишь себе под ноги, дабы не наступить на сокрытую в земле флейту, опасаясь неведомо чего – то ли некоей пакости, которую может выкинуть этот таинственный предмет, соприкоснувшись с человеком, то ли боясь сломать ее, не зная вместе с тем, существует ли сама вероятность подобных действий в отношении вещи, которая должна предстать перед ними неповрежденной после столетия в вечно сырой земле. Ланц тоже хранил молчание, все внимание уделяя поддержанию огня и в итоге выложив подле вскрытой могилы костер такого размаха, что в иное время над ним преспокойно можно было бы зажарить половину бычьей туши, а ветви полуголых деревьев поверху запылали бы уже через минуту; сейчас же столь пространных габаритов кострища хватало ровно на то, чтобы не позволить дождю и ветру убить пламя.
– Есть, – вдруг проронил подопечный внезапно осевшим голосом, застыв с занесенной над землей лопатой, и Курт замер тоже, глядя под ноги.
К ногам упала мелкая снежно-ледяная крупинка, утонув в грязи возле узкой, в палец, палки, в которой не с первого раза можно было узнать деревянную флейту.
Бруно наклонился, потянувшись подобрать, и Курт перехватил руку, отдернув подопечного назад:
– Не трожь.
– Неужто… – начал Ланц, подойдя, и не докончил, остановившись у края осыпающейся ямы, глядя вниз настороженно и неверяще; Курт молча поднял голову, ощутив, как по щекам забарабанила снежная крупа, и встряхнулся, сбрасывая внезапно овладевшее им неприятное оцепенение.
– И что с ней теперь… делать? – неуверенно поинтересовался Бруно, не отводя взгляда от покоящейся в костяных обломках флейты – дождь смывал с нее землю, и из-под слоя грязи обнажалось светлое, словно лишь вчера обструганное дерево. – Как ее…
Курт, не ответив, перехватил лопату поудобнее, поддев тонкую деревянную трубку вместе с комом земли, и, выбросив на траву, выкарабкался следом.
– Очень осторожно, – пояснил он, наконец, отшвырнув лопату прочь, и, подав подопечному руку, выдернул его наверх. – И быстро. Что-то паршивое у меня предчувствие. Что-то не так.
– О да, – нервно ухмыльнулся Ланц, возвратившись к костру и швырнув в пламя сразу охапку толстых, с руку, веток; вынув пробку фляжки, мгновение помедлил и крестообразно плеснул поверх. – Все не так. Прах не восстал, воды потопа нас не захлестнули, свирепые малефики не накинулись; в самом деле – ну, что это за завершение дела для Курта Гессе, если он не порезан в трех местах, не валится с ног и не сидит на трупе противника…
– Я серьезно, Дитрих. Уж больно все просто…
Выдать очередную шпильку Ланц не успел, как и сам он не успел понять, что именно заставило его отшатнуться – то ли неслышимый отзвук, то ли неощутимая вибрация воздуха; отскочив в сторону, Курт успел увидеть мелькнувшую перед глазами молнию арбалетного болта и услышать визг курьерского, завалившегося набок в густом облаке землистых брызг.
Глава 18
– Что за… – проронил Бруно растерянно, глядя на содрогающуюся тушу коня, пробитую почти насквозь; по нервам ударил необыкновенно явственно слышимый свист второй стрелы, и, казалось, Курт даже успел увидеть ее полет, разбивающий в пыль воду и снег, низвергающиеся на землю.
Ухватив подопечного за шиворот, он запрокинулся назад, рухнув в наполняющуюся водой могилу, подняв столб жидкой грязи, услышав, как тяжелый болт вмазался в край ямы.
– В порядке? – бросил Курт; внизу шевельнулось.
– В полном, – отозвался Бруно, приподняв голову с темно-коричневых осколков черепа и яростно отплевываясь. – Я валяюсь в луже, на меня улегся потный инквизитор, и я целуюсь с дохлым скелетом малефика; я в полном порядке.
– Полагаешь, с живым скелетом целоваться приятнее?.. – пробормотал Курт, сползая с него в сторону, и, с трудом умостившись на корточки в изножье могилы, повысил голос: – Дитрих?
– Жив, – донеслось сверху. – Даже противно – ты снова прав… Откуда стреляли, заметил?
– От леса, – уверенно сказал Курт; ладонь привычно шлепнула по бедру, и он выругался, ощутив пустоту вместо приклада арбалета – ремень с оружием остался лежать на траве, в пяти шагах от ямы, рядом с кольчугой.
– На их месте, – заметил Бруно, тоже поднявшись и усевшись рядом, – я бы сейчас подбирался поближе, пока мы тут прохлаждаемся…
– Дерьмо! – рявкнул вдруг голос Ланца, когда в землю подле могилы что-то ударило со звучным чавканьем. – Либо они меня видят, либо… Гессе, ты там почивать вознамерился?
Курт покривился. Стоит высунуть голову из-за края ямы, и следующий болт, судя по всему, получит немалый шанс отыскать-таки свою цель; однако же сидеть в этой луже вечно и впрямь нельзя…
– Руки! – потребовал он, смерив взглядом высоту пологой, осыпающейся от малейшего движения земляной стены последнего жилища Крысолова.
Бруно крякнул, когда носок сапога уперся в его сложенные ладони; подпрыгнув, Курт перевалился через осклизлый край могилы, оставшись лежать плашмя, и, свесив руку вниз, с натугой выволок подопечного следом. До брошенного в траву арбалета он добрался ползком, вновь разразившись бранной тирадой, когда оружие, облепленное прелыми листьями и травой, пришлось буквально выковыривать из грязи.
– Теперь ты доволен? – поинтересовался Ланц, тоже покоящийся всем телом в хлюпающем месиве; Курт молча поморщился, взведя струну, и приподнял голову, пытаясь увидеть купы голых деревьев неподалеку. Минута протекла в молчании и неподвижности.
– Ждут, когда высунешься, – предположил Бруно; Курт отмахнулся, осторожно приподнявшись на локте, всматриваясь в тусклую стену небольшого леска, почти невидимого за дождем и все густеющей снежной крупой, готовясь в любую секунду снова рухнуть лицом в землю.
– Ну, – пробормотал он, приподнявшись на корточки и подобравшись, словно намерившаяся к прыжку кошка, – cum scuto[139]…
До леса было чуть больше, чем с полсотни шагов, но Курт пробежал всего пять-шесть, вновь упав; сзади донеслось чавканье – Ланц, поскальзываясь, догнал его, приземлившись рядом тоже со взведенным арбалетом в руках, и, выждав полминуты тишины, переглянулся с младшим сослуживцем, непонимающе и с подозрением хмурясь.
– Не ушли ж они, в самом деле… – произнес он растерянно.
Курт приподнялся, чувствуя, как от напряжения сводит ребра, зудящие в предощущении пробивающей их стрелы; вода заливала лицо, в глаза била острая, колючая снежная крошка, мешая смотреть, и даже если стрелявший стоял за ближайшим деревом, увидеть это сейчас было попросту невозможно.
– Зараза… – прошипел Курт зло, снова привстал, упершись коленом в землю и держа оружие наготове, и, так и не уловив ни одного движения, обернулся на миг, повысив голос: – Бруно, держать огонь, глаз с флейты не спускать, головой ответишь!
– Может, просто в костер ее, пока не затух? – крикнул тот в ответ, и Курт, не глядя, погрозил за спину кулаком:
– Без самовольства! Бог знает, что тогда может начаться, – пояснил он тихо уже Ланцу, поднимаясь теперь на ноги, и, пригнувшись, рванул к деревьям.
Тело вновь среагировало первым, когда мозг еще не успел толком осознать, для чего, собственно, надо упасть, откатившись вправо; рядом чавкнуло, и болт вперился почти целиком в землю возле его ноги.
– Сдается мне, нас попросту подманивают, – сообщил Ланц, подобравшись к нему, на сей раз – ползком. – Не стоит ли возвратиться и закончить с этой дудкой?
– Повторю, нам неизвестно, как все пройдет, – отозвался Курт, пытаясь всмотреться из-под ладони, ограждая глаза от воды и снега. – Знаешь, что, случается, вытворяют подобные личности, когда уничтожают принадлежащие им артефакты?
– И что же, о великий знаток тайн? Просвети меня.
– Всякое. – Курт опрокинулся на спину, дозаряжая арбалет по максимуму – на все четыре снаряда. – Бывает, тихо-мирно покидают наш грешный мир навеки, а бывает, что начинается такое, после чего бегать под стрелами и искать драки – это последнее, на что у тебя останутся силы… Это рrimo. Посему – secundo – да, понимаю, подманивают, однако сидеть у трупа Крюгера и ждать, не соизволят ли они подойти сами, мы не можем: обрати внимание на тот факт, что погода лучше не становится, и мы не знаем, к чему все идет. Если это связано с Крысоловом, – как знать, быть может, когда ливень достигнет определенной силы, он сможет наскрести довольно и своих сил на какую-нибудь пакость? Conclusio: вначале надо бы разобраться с тем, что легче, – с простыми смертными; вынуть, allegorice loqui[140], из задницы занозу, прежде чем садиться за игру.
– Уверен, что там простые смертные?
Курт пожал плечами, снова перевернувшись на локти и осторожно приподнявшись.
– В сравнении с Крысоловом, я так чувствую, сейчас всякий – лишь простой смертный. Прикрой.
Последняя перебежка была короткой – теперь он успел уловить движение впереди, прежде чем упасть снова в грязь; мимо просвистели навстречу друг другу два болта – один вонзился всего на вытянутой руке от него, другой умчался к оголенным октябрем деревьям впереди, и сквозь плеск дождя о землю донесся сдавленный вскрик.
– И верно, простые смертные, – заметил удовлетворенно Ланц, перезаряжаясь и подползая ближе. – Не сгнил я еще на сидячей службе…
– Сгниешь на лежачей, если дальше так пойдет, – откликнулся Курт разозленно, обернувшись назад, где у втоптанных в землю костей Крысолова остался Бруно; сослуживец повторил его взгляд, посерьезнев.
– Вообще оставлять Хоффмайера одного… – проговорил Ланц неуверенно. – А если они нас не выманивают к себе, а отманивают – от могилы и флейты? На него обрушатся основные силы, а мы будем плутать тут в кустах… Словом, вот что, абориген. Ты здесь самый подготовленный к любому повороту дела – лучше всех осведомлен касательно потусторонних явлений, и оружие подходящее; посему возвращайся-ка ты к нашему дудочнику, а Хоффмайера ко мне.
– Дитрих… – начал он; Ланц нахмурился.
– Все понимаю, – оборвал он строго. – Но ты не можешь быть всюду, для того с тобой и направился я, для того, абориген, и нужны помощники.
– Какой он, к Богу, помощник – так, одно прозвание; шлепнут придурка в первую же минуту… – пробормотал Курт уныло, смерив взглядом расстояние до почти не различимой уже за снежной сыпью стены деревьев, обернулся на подопечного и решительно кивнул: – Нет, все верно. Ты прав. И еще неизвестно, где сейчас будет опаснее… Бруно!
От тщательно убиваемой в себе тревоги окрик вышел недобрым, но на то, чтобы заботиться о соблюдении норм учтивого тона, сейчас нервов уже не хватало; почти невидимый за пеленой дождя и снега, тот приподнялся, и Курт повысил голос:
– Ползком – сюда. Живо!
– Ты ж сказал…
– Живо! – рявкнул он зло, и Ланц невесело усмехнулся, понимающе хлопнув его по плечу, явно намереваясь сказать нечто в утешение или, напротив, в насмешку, но лишь снова выругался, когда Курт откатился в сторону и в землю между ними, взбрызгивая темную грязь, впился очередной болт.
– Боюсь, буду прав, – заметил сослуживец уже без улыбки, – если скажу, что целят преимущественно в тебя.
– Надеешься, вас пожалеют? – буркнул Курт, привставая. – Судя по частоте стрелков было двое, благодарствуя тебе – уже один; оружие однозарядное… Встал; бегом!
Бруно подчинился не сразу, промедлив на месте долгие два мгновения; добежав, неуклюже шлепнулся рядом, вцепившись пальцами в траву и щурясь от ветра и снега.
– Придется вспомнить все, чего успел нахвататься, – сообщил Курт хмуро. – Я остаюсь здесь, вы с Дитрихом – перебежкой к лесу; задача – навязать ближняк. До зарезу нужен живой – хоть один. Но наизнанку не выворачивайся, это пожелание главным образом не к тебе относится… Оружие держи наготове. Смотри за спину – себе и напарнику. И…
– Справлюсь, – оборвал Бруно. – У меня выбора нет.
– Стой. – Курт перехватил подопечного за локоть, не давая подняться, и, сдвинувшись чуть в сторону, всмотрелся в тусклую пелену впереди, раздраженно поджимая губы на бьющий в лицо острый снежный горох; выждав с полминуты, привстал, напрягшись каждым нервом, и на сей раз едва не упустил момент, когда надо было вновь упасть, пропуская короткую стрелу над собой.
– Что творишь!.. – прошипел Ланц; он отмахнулся и вскинул арбалет, припав на одно колено и готовясь выстрелить в первое же, что шевельнется в пределах этой гнусной видимости.
– У вас несколько секунд, – бросил он коротко. – Пошли.
Ланц сорвался с места первым, вздернув подопечного на ноги за воротник.
Когда оба скрылись за плотной стеной воды, снега и древесных стволов, Курт еще мгновение неподвижно смотрел поверх арбалетного ложа, чувствуя, что ладони и виски в испарине, несмотря на пронизывающий ветер, а губы пересохли, и сердце колотится дробно и часто, словно пчела в кувшине. Стрельба прекратилась, из чего следовало сделать вывод, что там, вне пределов его досягаемости, завязался бой, принять участие в котором он не мог и на исход которого не имел возможности повлиять никоим образом. Такое было впервые; работа в группе случалась и прежде, но – впервые главное проходило мимо, впервые последняя, основная часть расследования не подразумевала только его участия, впервые приходилось тревожиться не о себе, заботиться не о собственном выживании, беспокоиться о жизни кого-то другого, и это новое мерзкое, липкое чувство ему определенно не нравилось.
К останкам Крысолова Курт возвратился, поднявшись в полный рост, продолжая прислушиваться и всматриваться, понимая вместе с тем, что ни одной стрелы в его сторону сейчас не полетит – по крайней мере, пока. Пока живы эти двое.
* * *
Увернуться от болта на таком расстоянии – почти в упор! – было невозможно – но он это сделал; неведомо, непостижимо, как, но – тело извернулось само, на этот короткий миг словно позабыв и о ломоте в коленях, и о скрипящей пояснице, и о боли в плечах, и о без малого шести десятках лет за этими плечами. Тело извернулось, рука вскинулась – но стрела пробила пустоту и голый куст неподалеку, а только что стоявший прямо перед ним человек исчез, чтобы возникнуть за спиной и вызвать удивительно равнодушную мысль о том, что на сей раз вывернуться уже не успеть. Успел Хоффмайер; справедливости ради надо было отметить, что, невзирая на принужденную муштру, творимую Гессе на площадке меж двух башен, кою тот посещал с неудовольствием, в лучшем случае – безучастием, научился парень многому, и сейчас от удара под почку избавил лишь его клинок, вставший на пути невесть откуда взявшегося лезвия.
Сам же майстер инквизитор едва успел услышать, едва смог осознать, что позади вновь слышится движение, едва сумел развернуться лицом к противнику, краем глаза успев увидеть в пяти шагах слева скрючившийся у сосны труп со своей стрелой в шее (все ж-таки и впрямь не закис еще на городской службе!); едва успел подставить дугу арбалета под удар и выиграть мгновение для того, чтобы, бросив его наземь, обнажить клинок.
Человек напротив отскочил назад, глядя на него с интересом, склонив набок голову, точно селезень, увидавший огромную муху на заборе над собою; на губах, тонких, будто бы наполовину стертых, блуждала даже не усмешка – улыбка, словно бы тот видел перед собою нечто до невозможного веселое. Противник был вооружен всего лишь коротким ножом, похожим на тот, что Гессе демонстрировал в начале этого безумного расследования как пример оружия его уличных приятелей, да и весь его вид не был видом бойца. Еще лет двадцать назад наверняка устремился бы без раздумий вперед, на этого обманчиво безобидного щуплого человечка. Сейчас же подступил опасливо, не надеясь убить или даже просто зацепить с первого же удара, лишь прощупывая, приглядываясь – если ошибся, если притупился глаз, и он переосторожничал, прирезать остолопа с ножом всегда успеется.
Хоффмайер вскрикнул где-то в отдалении, в нескольких шагах позади, и неподконтрольное, рефлекторное движение обернуться подавил не сразу, на миг отведя глаза от своего противника. Тот скакнул вперед – не накинулся, а именно скакнул, точно уличный шут, выделывающий очередной фортель; в этих неестественных, бесполезных в бою движениях никакого смысла не было, эти ужимки не отвлекали внимания от оружия или самого бойца, не было даже нанесено ни единого удара, словно все это было проделано просто так, ради игры, просто, чтобы показать старому олуху, что не в его руках контроль над положением…
Позади захрустел кустарник, донесся скрип лезвий друг о друга – Хоффмайер, судя по всему, жив и все еще огрызается; но что творится сейчас у распотрошенной могилы хамельнского углежога, остается лишь гадать. И почему этот, с мерзкой раздражающей улыбкой, считает возможным тратить время на развлечение, коим полагает эту стычку? Почему не боится, что Гессе, оставшийся у флейты, эту флейту уничтожит, пока все они здесь, в леске?.. Значит, не все? Значит, высказанная им мысль верна – и к могиле Крысолова сейчас действительно устремлены главные силы?..
Значит, надо завершить все это и – вернуться. Быстро.
* * *
Все вышло быстро – излишне быстро для того, чтобы как следует испугаться или измыслить достойный план; раньше не просто не приходилось действовать в команде в полном смысле – не приходилось действовать в этой команде, что важнее, и не было возможности отшлифовать слаженный механизм, где роль каждого продумана и все детали взвешены. Подопечный так и ушел в этот полуголый лес, навстречу неведомо кому, как был – тоже оставив данную ему в пользование Друденхаусской оружейной кольчугу на траве; Бруно – всего лишь подчиненный, и думать за него в подобной ситуации должен он, он должен был отдать приказ нацепить эту железяку. В спешке не сообразил. Теперь неизвестно, не занимает ли сейчас мысли Курта человек, уже не существующий на этой земле. И сама эта идея – остаться у могилы Фридриха Крюгера – при всей ее очевидной верности и оправданности на деле не столь уж хороша; хотя б по той причине, что ему же придется и поддерживать костер, уже начинающий затухать под напором дождя и снега. Уже сейчас следовало бы подбросить ветку потолще, пока огонь еще способен просушить и воспламенить ее, а не умереть под нею, однако при одной лишь мысли о подобном деянии руки начинали ныть, промерзшая под ветром спина покрывалась липким противным потом, а ноги прирастали к месту…
Вот уже минуту он бродил на почтительном расстоянии от упадающих языков пламени, стискивая в руках мокрый сосновый сук и пытаясь отыскать в себе силы на то, чтобы здравый смысл победил безрассудочный, лишенный логики страх, приводя многочисленные аргументы в защиту сдающего позиции разума.
– Кругом все в воде, – пробормотал Курт, в конце концов уже вслух. – Швырнуть эту хренову ветку поскорее нужно именно потому. Дитрих возился, как проклятый, чтобы поджечь хоть что-то. Я весь в мокрой грязи…
И это, в конце концов, глупо, додумал Курт с тоской, приближаясь к нежаркому, но словно бы уже жгущему пламени еще на два шага. Глупо все – как эти резоны, так и без того очевидный факт, что никакого вреда не причинит ни этот полуумерший костер, ни светильник на столе, которого он не коснулся ни разу за последние полтора года, ни что бы то ни было еще в том же духе; и глупо будет выглядеть он сам, когда, возвратившись, Ланц и подопечный обнаружат майстера инквизитора второго ранга сидящим в грязи у погасшего по его вине огня. Решаться надо было сейчас – через минуту-другую брошенная в костер ветвь затушит его…
– Да что же это такое, в самом деле?! – зло прошипел Курт, вообразив вдруг, как он смотрится со стороны; к затухающему огню он прошагал быстро, отбросив прочь все свои доводы, попытавшись отбросить и страхи – попросту вытравив из головы все мысли до единой, чтобы не успеть струсить, не успеть подумать о том, что надо не успеть.
Сук упал в шаге от костра, и Курт, пребывая уже в тихой панике от того, что делает, подскочил к нему, направив сырую древесину в нутро пламени коротким пинком, взметя столб огненных искр. На то, чтобы отдышаться – тяжело, словно после долгой пробежки, – ушло немало времени. Едва переведя дыхание и уняв подрагивающие руки, стараясь не дать натянувшимся нервам возможности вновь взять в осаду рассудок, он торопливо и не всякий раз метко напинал в костер побольше веток, понимая, что выглядит за этим занятием не менее глупо, нежели прежде, однако эта детская игра, увы, оказалась пределом его возможностей.
Сколько времени он провел в сражении с угасающим костром и собою самим, Курт сказать затруднялся, – по его ощущениям, миновали едва ли не часы, если не сама вечность, равно как и не мог даже предположить, где сейчас Ланц и Бруно, что с ними происходит, следует ли вообще дожидаться их возвращения, или же эту странную и не во всем вразумительную операцию ему придется завершать в одиночестве.
Дождь больше не усиливался, однако снежная крошка стала крупнее, обращаясь почти уже в полноценные, крупные градины, довольно ощутимо бьющие по лицу и взбивающие угли в огне, а лежащая подле могилы флейта раздражала, пробуждая желание пнуть и ее следом за древесными ветвями. Жду пять минут, мысленно проговорил Курт, косясь в сторону скрытого за водно-снежной завесью леска. Большего времени то, что там происходит, не потребуется – за пять минут одни убьют других, кто бы это ни был. Пять минут; и, если они не вернутся, бросить эту дудку в огонь, невзирая на возможные последствия. Если так пойдет и дальше, вполне может начаться настоящая буря, посему пора уже все заканчивать – и быстро.
* * *
Быстро; это было очень быстро, почти не видимо глазу – снова прыжок; вперед выбросилась рука с ножом, едва не повстречавшись на своем пути с человеческой плотью – на сей разспасла кольчуга под дорожной курткой.
Сколько продолжалось это мелькание, он не понимал – странным образом время спуталось, то вытягиваясь, то замедляясь, то вдруг подвигаясь невнятными рывками, да и с самим пространством творилось необъяснимое, когда вдруг этот шут, ни сделавший ни шагу, внезапно оказывался за спиною и, как будто, разом на прежнем же месте. Хорошие бойцы встречались и прежде, это и прежде бывало – когда взгляд не успевает за движениями противника либо же поспевает едва-едва, но здесь – здесь было что-то иное. «Что-то дьявольское», – так, кажется, сказал свидетель Гессе, услышавший флейту на свалке?..
Сейчас флейты не было; была бессмысленная, смешная, но раздражающая деталь – шутовская погремушка на поясе этого вертлявого щуплого человечка. На поясе – на ремне с ножнами, словно оружие. Особое оружие; особый инструмент – играющий на нервах. Эта дрянь, вздрагивая и гремя при каждом шаге, сбивала с толку, сбивала с ритма, вынуждая входить в ритм противника, и бывало – на миг мерещилось, что и движения тоже не свои, не порожденные собственным разумом, а словно бы вселенные чьей-то молчаливой подсказкой, и сбросить это давящее чувство стоило усилий немалых, порою – немыслимых. По временам проклятая погремушка стучала позади или в стороне, за пределами видимости; и пусть понимал разум, что это какой-то морок, лишь обман, лишь навеянная этим коротышкой волшба, – взгляд сам собою метался прочь, на мгновение, долгое, драгоценное мгновение отвлекаясь от вооруженного человека впереди. И снова начинало мниться, что он – везде, и не иначе как чудом было то, что до сих пор не погиб, не получил ни одной раны, хотя противник – это было уже явно – теперь не играл, давил, наступал, пробуждая греховную гордыню при мысли о том что долгое сидение в городе и немалые годы все ж-таки не вытравили обретенных некогда умений. Мастерство, как сказал бы Густав, не пропьешь…
Нож ударил с такой силой, что, не будь кольчуги, вошел бы под перекрестье ребер по рукоять, смяв кости в щепу; дыхание перекрыло, словно кто-то взял в кулак оба легких и стиснул, не давая набрать воздуха в грудь. Не упасть коленями в мокрую траву, подставив врагу затылок, удалось едва-едва. Удалось даже ударить в ответ, не видя из-за темноты в глазах, чем увенчалась попытка; однако ощутилось, как рука пошла с натугой, скрипнуло, а на запястье между кромкой рукава и перчаткой плеснуло горячее, кипятком обжегшее кожу после ледяной воды и ветра. В тот же миг что-то стылое, похожее на острый кусок льда, полоснуло по ноге чуть выше колена, попав, кажется, по нерву, отчего нога подогнулась, но зато скованное дыхание вмиг возвратилось, а темнота в глазах рассеялась, позволив видеть небольшой порез на бедре и – шута с ножом, лежащего на земле у ног, зажавшего ладонью огромную кровоточащую рану в боку и глядящего на своего неприятеля с безграничным удивлением.
– Не ожидал, сукин сын? – хрипло от не до конца отошедшей боли в ребрах поинтересовался Дитрих, поднимаясь на ноги. – Потанцуй теперь. Ты у меня теперь долго танцевать будешь – над углями; знаешь, как восточные дервиши. Всегда мечтал посмотреть.
Вторая рука шута, все еще сжимавшая рукоять ножа, дернулась; Дитрих поспешно шагнул вперед, наступив на запястье, и, с хрустом вдавив его в землю, приставил острие клинка к открытой шее поверженного противника.
– Шустрый какой, – отметил он с усмешкой. – Интересно, говорить ты будешь так же бойко?
Мгновение тот лежал неподвижно и молча, глядя снизу вверх теперь с неестественным спокойствием, и медленно, будто тугое тесто, вновь растянул губы в безмятежной улыбке, внезапно рванувшись вперед и нанизав себя на прижавшееся к горлу лезвие. Полотно вошло легко; свободная рука ухватилась за клинок, вдавливая его глубже, прорезая пальцы до кости; на миг самоубийца застыл в неподвижности тут же отшатнувшись, выдернув оружие и выпустив на волю свистящую взвесь алых капель.
– Дерьмо… – проронил Дитрих оторопело, глядя на умирающего растерянно и неведомо отчего отступая на шаг назад. – Вот мерзавец…
Тело на земле уже затихло, лишь единожды содрогнувшись в конвульсии; в последний раз брякнула погремушка, ударившись оземь, и он с ожесточением наступил, раздавив глиняный шар в осколки, вдавив в мокрую траву черепки и высыпавшиеся мелкие косточки, подозрительно напоминающие человеческие.
– Мерзость… – пробормотал он, отирая подошву о землю, и бессильно пнул окровавленный труп, безысходно злясь на себя за то, что упустил, похоже, единственный шанс взять живого – надеяться на то, что это вышло у Хоффмайера, не приходилось…
Ах ты, гадство… Хоффмайер…
Только сейчас он сообразил, что более не слышит звука ударов и топтания по чавкающей мокрой земле, что кругом тишина, нарушаемая лишь стуком мелких тяжелых градин по голым ветвям деревьев и поникшего кустарника…
Окровавленный клинок, попирая всяческие правила чистоплотности при обращении с оружием, он опустил в ножны, не отирая, торопливо прошагав к брошенному арбалету, и вложил в ложе последнюю оставшуюся стрелу, стараясь не скрипнуть струной.
Не обнаружить отметин, оставленных Хоффмайером и его противником, было нельзя – в овражек неподалеку, явно указуя путь, вел широкий след из сломанных и смятых веток. Вперед ступал осторожно, чувствуя, как под штаниной в сапог стекает тонкая, противная горячая струйка крови из пореза над коленом; рана не была особенно глубокой, однако при каждом шаге простреливало в суставе – видно, и впрямь прошло вблизи нерва…
Арбалет опустился через пять шагов; Хоффмайер сидел на дне овражка у лежащего лицом в тесном ручье неподвижного тела второго арбалетчика, тоже недвижимый, но явно живой – дышал он тяжело и рвано, неотрывно глядя на убитого. Приблизясь к подопечному Гессе, Дитрих остановился, на миг замерев, а потом засмеялся, тяжело упершись в ствол дерева рядом – ладонью Хоффмайер зажимал порез на ноге, на той же, что и у него, и также над коленом.
– Гляди-ка, – отметил он, когда тот с усилием повернул голову, – живой. Подымайся, идем.
– Не могу, – не сразу отозвался аборигенов подопечный; слова Хоффмайер выталкивал с трудом, соединяя звуки медленно и неровно, точно пьяный. – Он меня задел… Болит.
– Не будь девчонкой, – отмахнулся он, распрямляясь. – Ерунда, царапина; я в детстве о забор серьезней рвался… Это первый бой, первая рана, все понимаю; но если ты сейчас не встанешь и не начнешь двигаться, через минуту тебя начнет колотить уже не на шутку. Подымайся, – повторил он теперь серьезно. – Абориген, если помнишь, остался там один. Жив ли еще…
Расчет оказался верным – в глазах Бруно мелькнуло нечто, чему точного определения дать было нельзя, однако уже не пустота, а хотя бы какое-то вялое подобие мысли и желания действовать.
* * *
Надо действовать… или не стоит?
Пять минут почти истекли, а Курт все еще не решился избрать один из двух вариантов – остаться здесь, у этого вновь разгоревшегося костра, под редким градом и ветром, еще немного и подождать, либо же на все плюнуть и, следом за сосновыми сучьями, пнуть в огонь и эту флейту…