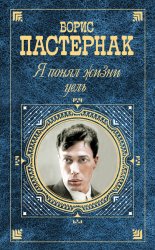Семьи.net (сборник) Корнев Павел

— Бред!
— Вовсе нет! — оскалился я. — Там архив, точно знаю! И у тебя должен быть в него доступ! Либо выяснишь, где искать моих родителей, либо пристрелю! Понял?
Но директор вдруг спросил:
— Ты ведь не думаешь, что они тебя ждут? Дети — это обуза для неподготовленного человека, их воспитанием должны заниматься профессионалы.
— Меня не хотели отдавать! — отрезал я. Крики, грохот, непонятная кислая вонь, плач. Мой собственный плач. — Так что заткнись!
Но заткнуть главу центра оказалось совсем не просто.
— Зачем тебе это? — задал он новый вопрос. — Вот ты называешь себя русским, а с чего ты это взял?
— Я помню! Меня забрали в систему в три года, поэтому лучше даже не начинай!
— Досадное упущение, — печально вздохнул директор. — Пойми, Роман…
— Не называй меня так! Меня зовут Иван!
— Хорошо, хорошо, только успокойся. Пойми, современному человеку незачем цепляться за пережиток прошлого, за свою национальность! Все мы представители единой цивилизации!
— Я — русский, а не какой-то там обще-человек!
— И чем тут гордиться? Да пойми ты! В Европе еще с античных времен сложилось стойкое представление о том, что интересы индивидуума являются высшей ценностью! Главенство гуманизма, жизнь человека — высшая ценность, это оттуда. В России все было совсем иначе, там человек был человеку волком! Целью образовательной реформы изначально являлось ограждение ребенка от систематического влияния родителей, разрыв «цепи времен», остановка процесса бесконечного «повторения ошибок»! И ты сознательно отвергаешь путь, который проделало наше общество, ради чего? Мнимой гордости?
— Просто заткнись и веди машину, — потребовал я, морщась от боли.
Директор истолковал мою гримасу неправильно и продолжил свои увещевания:
— А твое увлечение религией? Разве может разумный человек всерьез рассуждать о том, что наш мир создал некий бог? Теория Дарвина тебя ни в чем не убеждает? Как можно быть таким ограниченным? Одумайся! Одумайся, пока не поздно!
— Нравится думать, будто сдохнешь и сгниешь в могиле, как кусок испорченного мяса? Думай. А я православный. Я верю в бессмертие души.
— Самообман! Надо брать от жизни все и не забивать себе голову всякой ерундой!
— Вот и бери. А мне не мешай жить, как хочу.
— Да что ты вообще знаешь о христианстве? Эти фанатики людей на кострах сжигали!
— Те, с кем я общался, были приличными людьми. В отличие от… — Тут впереди замаячил освещенный фонарями подсветки фасад Библиотеки, и я усмехнулся: — Про гетеросексуальность даже не начинай. Просто не люблю, когда меня всякие пидоры лапают. — И распорядился: — Поворачивай к служебному входу!
Директор как-то странно глянул на меня, обреченно вздохнул и съехал с дороги.
Ну наконец-то! Наконец-то я добрался до Библиотеки! И пусть даже придется подождать до утра…
Но тут электромобиль проехал во двор, и у меня вырвался невольный всхлип.
Библиотеки не было. Точнее, была, но от нее остался один лишь фасад.
Освещенный уличной подсветкой фасад. Фантик. Яркая обманка…
— Нет никакого архива, — мягко произнес директор, — и не было никогда. Данные воспитанников подлежат уничтожению, мы заботимся о неприкосновенности личности…
У меня слезы на глазах навернулись.
Нет никакого архива? Выходит, все зря? Все это зря?!
Был один лишь пустой треп? Самообман?
— Роман, послушай, никому ничего не известно о твоей семье, поэтому…
— Закрой рот! — крикнул я, сразу взял себя в руки и, сдержав рвавшиеся наружу рыдания, потребовал: — Переключи управление в режим обучения, быстро!
— Так нельзя!
— Ногу прострелю!
Директор повиновался, я качнул револьвером и приказал:
— Вылезай!
Сам выбрался следом, обошел электромобиль и указал стволом на багажник.
— Открой! — А когда глава центра выполнил распоряжение, велел: — Залезай!
Директор не сдвинулся с места, и пришлось нацелить револьвер ему в лицо.
— Быстро!
— Не надо, — попросил тот. — Если ты полагаешь себя христианином, то вспомни основу этого учения: «Возлюби ближнего, как самого себя!»
Я отступил на шаг назад и повторил команду:
— Залезай!
— Да нельзя же понимать все так буквально! — взорвался директор. — «Ближний» — это не расстояние…
— Просто, чтобы кровью не забрызгало…
Глава центра искушать судьбу не стал и, жутко скорчившись, кое-как уместился в багажнике; я захлопнул крышку, обошел электромобиль и уселся за руль. Бросил револьвер на соседнее сиденье и зажал лицо в ладонях.
И что теперь делать? Как быть дальше? И…
…и тут спинка сиденья неожиданно навалилась и придавила к рулю!
Директор изловчился просунуть из багажника в салон руку; сильные пальцы нашарили шею и стиснули горло, перед глазами все поплыло, и стало невозможно сделать вздох.
Я захрипел, попытался высвободиться — безрезультатно.
— Отпусти! — просипел из последних сил, но без толку.
Тогда дотянулся до револьвера, прижал курносое дуло к обшивке сиденья и выжал спуск.
Хлопнуло неожиданно глухо.
Хлопнуло, и сразу ослабла хватка стиснувших шею пальцев, а салон заполонила кислая вонь пороховых газов.
И тогда воспоминание о семье, о заветной комнате с высоченным шкафом и прямоугольником залитого солнечным светом окна, посерело и умерло.
Мне оказался уже знаком этот запах. Ровно так же пахло в тот далекий день, когда меня забрали в систему.
И тогда, и сейчас пахло порохом и смертью.
И я как-то сразу понял, что у меня нет прошлого.
И не было его никогда. Ни прошлого, ни семьи.
Я отбросил с себя безвольную руку директора, задавил рвавшийся наружу всхлип и потер набитую на тыльной стороне ладони татуировку.
Три заветных кириллических буквицы «Р. П. Г.».
«Русские не сдаются», — вновь всплыла в памяти услышанная от кого-то фраза.
«Русские не сдаются», — и я выжал газ.
За Уралом свои правила? Вот и проверю.
Хватило бы только на дорогу пяти патронов…
Майк Гелприн
Социопат
Антон проснулся под утро, рывком сел на постели и едва сдержался, чтобы не закричать. Он снова видел во сне эту девушку, третью ночь подряд. Нелли ее звали, Н-е-л-л-и. Только в эту ночь, в отличие от двух предыдущих, Нелли пришла к нему в сон обнаженной. А затем, затем они начали проделывать такое, что Антон, вспомнив, покрылся холодным потом от стыда и отвращения. То, чем он занимался с Нелли во сне, было даже не постыдным, это было противоестественным, низким, просто ужасным. Антона передернуло. Он резко вскочил с постели и едва не упал от неожиданной слабости в паху, мгновенно подкосившей ему ноги и сделавшей их ватными.
— Сволочь, — сказал Антон вслух, — выродок, дрянь.
Ему захотелось с размаху влепить себе по лицу. С трудом удержавшись, Антон доковылял до санузла, перевалился через низкий борт ванны, шлепнулся на дно и на полную включил воду. Пару минут обрушившиеся на него тяжелые струи смывали слабость и стыд. Наконец, почувствовав себя лучше, Антон вылез, наскоро растерся полотенцем и, прошлепав босиком по кафелю, вернулся в комнату.
Он включил свет и с минуту с отвращением разглядывал свое жилище. Комната была стандартная, точно такая же, как любая из десятка тысяч каморок, в которых ютились питомцы интерната вплоть до его окончания. Шесть шагов вдоль, пять — поперек. Стол, пара стульев, кровать, шифоньер и компьютерный центр. И все.
Впрочем, нет, не все, на стене над кроватью висели две фотографии в рамках. Отец и мать — люди, давшие ему жизнь. Антон приблизился к снимкам и в который раз пристально их рассмотрел. Стиснул зубы и опустил глаза. Он не испытывал к этим людям ничего, абсолютно ничего. Ни благоговейного трепета, с которым говорили о своих родителях прочие, ни даже элементарного уважения. Эти двое дали жизнь ему, Антону Валишевски, так что с того? Они, как и все остальные родители на Земле, даже не знали, как выглядят их сыновья или дочери.
Антон сел на кровать и, подперев кулаком подбородок, задумался. Почему именно Нелли Семенова, ничем, в общем-то, не примечательная девчонка из параллельного класса? Он и внимания на нее особо не обращал. Ну да, короткие русые волосы, тонкая шейка, ноги стройные, что еще? Ничего, разве что большие карие глаза. Какие-то особенные, только неясно чем. С минуту Антон думал, в чем особенность больших карих глаз. «Внимательные», — неожиданно пришло нужное слово. Точно: когда неделю назад они случайно разговорились, Нелли смотрела на Антона со вниманием. Так, как смотреть было не принято и даже неприлично. Отводить глаза при разговоре и тем самым не смущать собеседника входило в правила поведения. Их преподавали еще в начальных классах, на уроках этики.
Итак, девушка с внимательными карими глазами. И с ней Антон во сне вытворял непотребное. Он вспомнил ругательный архаизм, которым называли подобные занятия, — секс. Противное слово, свистящее какое-то, змеиное.
Оглушительный стук в дверь выбил из Антона задумчивость. Так колотить мог один только человек — его брат по отцу Жак Валишевски.
«Как всегда вовремя», — саркастически подумал Антон.
— Открыто, входи уж! — крикнул он.
Жака Антон не переваривал. Толстый, шумный и жизнерадостный о-брат был почти полным его антиподом, и буквально все, что бы тот ни делал, вызывало у Антона неприятие напополам с раздражением.
Жак стремительно ворвался в комнату, мгновенно заполнил собой все свободное пространство и, отчаянно жестикулируя и брызгая слюной, приступил к разглагольствованиям. В слушателе он не нуждался, и Антон, улегшись на кровать и положив руки под голову, принялся терпеть. Обычно Жака хватало минут на десять. Антон засек время и уставился в потолок.
— И тогда я отпасовал назад Барковскому, — азартно выплевывая слова, тараторил Жак, — а сам рванул по правому, так эта сволочь Барк вместо того, чтобы вернуть мяч мне, пнул его назад, этому идиоту, как его — Максу. Ну, такому длинному с двенадцатого «Ж», так тот, нескладеха, запутался в собственных ногах да как навернется, гы-гы-гы. Вот же урод, а! Это у него, считай, семейное. О-брат его дуралей дуралеем, а м-сестра — та вообще фифа, ходит вечно одна, нос задирает. Какая-то вся из себя задрипанная, как ее там, Нелли, вот.
— Слышишь, заткнешься ты наконец?! — Антон неожиданно для самого себя вскочил, метнулся к о-брату и схватил его за грудки. — Сам ты задрипанный. Достал уже своим футболом.
— Тоха, что с тобой? — оторопел Жак. — Нехорошо себя чувствуешь, что ли? Ты чего на брата-то бросаешься?
— Ладно, прости, — Антон сделал шаг назад и снова опустился на кровать. — Слушай, Жаконя, ты сны видишь?
— Просил же не называть меня так, — на мгновение обиделся Жак, но через секунду вновь обрел обычную жизнерадостность. — Вижу, — сообщил он. — Правда, редко.
— И что тебе снится?
— Да ерунда всякая, разве упомнишь. Недавно куча дерьма приснилась. Большая. Ты почему спрашиваешь?
— Да так. Ты, кстати, зачем ко мне ходишь-то?
— Как зачем?! — возмутился Жак. — К кому же мне приходить, как не к тебе и к Лори? Больше у меня нет никого, только вы двое. Вот я и к тебе… А ты не рад, что ли? Лори-то дрыхнет еще.
Лори — так звали сестру Жака по матери. Антон внезапно подумал, что завидует бесхитростному и искреннему в своих привязанностях о-брату. У того двое родных людей на земле, вот он и любит обоих. Так, как всякому человеку положено — любить обоих живых кровных родственников и почитать обоих мертвых. И вовсе Жак не виноват, что его о-брат Антон такая сволочь.
«Зато м-сестра у Жака приличная девчонка, — подумал Антон о полной, добродушной и улыбчивой Лори. — Возможно, будь у меня сестра вместо одного из братьев, и я был бы другим».
— Ладно, Жак, — Антон вымученно улыбнулся брату. — Ты ступай пока, иди, разбуди Лори, в кафетерии встретимся.
Жак кивнул, потрепал Антона по плечу, гоготнул пару раз, отмочил на прощание несмешную шутку и, наконец, убрался. Выждав с минуту, Антон наскоро оделся и вышел из комнаты. Многокилометровый кольцевой коридор интернатского жилого корпуса был почти пуст. Завтрак еще не начался, и питомцы досыпали последние минуты. Быстрым шагом миновав полсотни стандартных нумерованных дверей, Антон добрался до лестничной развязки. Десятки эскалаторов, причудливо и хищно скалясь зубьями ступеней, разбегались отсюда по верхним и нижним этажам. Антон ловко вскочил на скоростной и тремя уровнями выше с не меньшей сноровкой спрыгнул. Через минуту он уже стучался в комнату Рауля Коэна, своего брата по матери. В отличие от здоровенного, бесцеремонного и болтливого Жака, Рауль был субтилен, сдержан и немногословен. Антон не любил м-брата, но и не презирал, как навязчивого недалекого Жаконю. В любом случае, Рауль был единственным человеком, который мог выслушать и, возможно, дать добрый совет.
— Слушай, Ра, — взял быка за рога Антон, едва обменявшись с братом приветствиями, — тут такое дело, ты сны видишь?
— Хороший вопрос, — Рауль задумчиво посмотрел на брата и сразу отвел глаза. — Особенно с утра. Ну, допустим, вижу. И что? Ты для этого пришел? Пошли-ка лучше завтракать.
— А что именно ты видишь? — не отставал Антон. — Или, точнее, кого? В общем, так: тебе когда-нибудь снились женщины?
— Вот что, — присвистнул Рауль. — Тебе снилась наша мама? Наконец-то.
— Ра, мама здесь ни при чем. Понимаешь, я вижу один и тот же сон. Вот уже третий раз подряд. Только сегодня он был, как бы тебе сказать… В общем, Ра, со мной случилось то, о чем нам вдалбливают вот уже который год. Патология. Я страшно испугался. Понимаешь, я… — Антон запнулся.
— Ну, говори, — подбодрил Рауль. — Продолжай уже, раз начал. И, пожалуйста, всю правду.
— Я всегда говорю правду.
Рауль кивнул. Врать Антон не умел. С детства. И неспособность к вранью не раз выходила ему боком.
— В общем, я пришел в ужас, — быстро проговорил Антон. — Я видел во сне девушку. Не просто девушку, а вполне конкретную. И я… Я занимался с ней этим самым. Сексом. Это было отвратительно, Ра. Как животные, словно какие-нибудь собаки, помнишь учебный фильм? Не знаю, что теперь делать. И я подумал…
— Ты подумал, что я тоже вижу подобные сны, — догадался Рауль, — только не признаюсь, так?
— Да, что-то в этом роде.
— А с Жаком ты разговаривал?
— Вкратце. Но Жак — особый случай.
— Понятно. Ты обязан доложить наставнику, Антон. Это действительно опасно. Для тебя опасно. Я не видел таких снов, но, случись мне, я немедленно поставил бы в известность наставника. И ты должен это сделать. Хочешь, пойдем к старому Отто вместе?
— Угу, — саркастически буркнул Антон. — И он решит, что я ненормальный. В лучшем случае — отправит в стационар лечиться. В худшем… Нет, Ра, к наставнику я не пойду. Подожду пару дней, надеюсь, само собой прекратится.
— А если не прекратится? Учителя говорили на этот счет вполне определенно. Если тебя начинают преследовать видения, связанные с… — Рауль запнулся, — с сексом, неважно, во сне или наяву — это явная патология. Угроза для психики, самая серьезная из возможных.
— Да знаю, — потупился Антон. — Ладно, я подумаю. Пара дней ничего не изменит.
— Ну, смотри сам, — Рауль поднялся. — Пара дней — действительно не изменит. Но спасибо, что ты доверился мне, Тош. Вместе мы как-нибудь сладим с твоей бедой. А сейчас погнали завтракать. Ты как, сочинение уже отослал?
— Черт! — хлопнул себя по лбу Антон. — Хорошо, что ты напомнил. Я за него даже не садился. Вот же дубина, ведь сегодня последний срок.
Отто Фролов намеренно оставил сочинение этого парня напоследок. За многие годы практики в качестве наставника выпускных классов Отто случалось повидать всяких учеников. Были среди них и такие, на которых Фролов, исчерпав все меры и скрепя сердце, писал докладную в директорат. До сих пор он ни разу не ошибся — фигуранты докладных все как один были признаны особыми комиссиями «вне социума» и из цивилизованных мест выдворены. Кто в Гренландию, кто на Таймыр, кто в Антарктиду. Такое случалось нечасто, но все же случалось, и всякий раз Фролов потом мучился угрызениями совести. Немало времени проходило, прежде чем ему удавалось вновь обрести душевное равновесие и убедить себя, что он не имел права выпустить в демократическое общество потенциального анархиста, убежденного бунтаря и ниспровергателя основ.
Фролов одно за другим бегло считывал с экрана сочинения выпускного двенадцатого «Ъ» класса и привычно выставлял оценки. Недюжинный опыт позволял автоматически регистрировать уровень владения речью, умение выражать свои мысли и, самое важное, отношение автора к изложенному. Отклонения от среднего уровня, как обычно, оказались не слишком значительными. За неполных полтора часа Отто справился с работой и позволил себе на минутку расслабиться. Оставалось последнее сочинение, и, прежде чем взяться за него, наставник хотел настроиться на максимальную объективность. Забыть о том, что ему крайне симпатичен этот парень, Антон Валишевски. Забыть, что наивысший на потоке уровень интеллекта и полная неспособность лгать сочетаются у Антона с доходящими до абсурда и фанатизма упрямством, своеволием и необъяснимым неприятием правил и прописных истин.
Выдержав паузу, Отто, наконец, собрался, вздохнул и загрузил в редактор последний нечитаный файл. С первого взгляда он понял, что дело плохо. Тема сочинения «Какими будут мои дети», обведенная жирной траурной рамкой, глумилась притороченными справа и слева рожицами. Фролов не очень хорошо разбирался в последних достижениях в области смайликов и запросил подсказку. «Меня только что вырвало», — пояснила левая рожица. «Похоже, я вляпался в дерьмо», — сообщила правая.
Подавив раздражение, Фролов заставил себя читать. Все сочинение занимало четверть страницы, и Отто пробежал текст глазами от начала до конца меньше, чем за полминуты. Закончив, он обнаружил, что сидит с открытым ртом. Такого за все годы практики ему еще читать не приходилось.
«Потратив немало времени на обдумывание, — значилось под украшенной глумливыми рожицами темой, — я пришел к выводу, что мне на этот вопрос наплевать. А именно, плевать я хотел на то, какие два ублюдка от меня произойдут, если ни одного из них я никогда не увижу. Мне также абсолютно безразлично, кто будущие матери обоих выродков. Не понимаю, почему этому вопросу придают такое значение, и думаю, что вряд ли когда пойму. Фотографии родителей „украшают“ мою комнату с рождения, но я не испытываю ничего кроме неприязни к обоим покойникам. Так же, как не испытываю положенных родственных чувств к м-брату, а о-брата попросту презираю и считаю придурком».
Фролов вскочил и зашагал по помещению. Как наставнику, ему полагалась персональная жилая комната в интернате — роскошь, доступная только педагогам со стажем. Будни Фролов проводил здесь и лишь на выходные перебирался в собственное жилище — двадцатиметровую студию на тридцать шестом этаже пирамидальной свечки в центре жилого квартала мегаполиса. Работу свою Отто любил, гордился ее значимостью и с удовольствием дарил сэкономленное на дорогу время тем ученикам, которые нуждались в его помощи, советах или твердой наставнической руке. Сейчас Отто сознавал, что помощь необходима Антону Валишевски, парня надо было вытягивать и буквально спасать. Подростку пятнадцать, самый опасный возраст, до стерилизации почти целый год. Если не вмешаться, то достаточно очевидно, к чему это может привести. Наставник прекратил мерить шагами комнату и опустился в телескопическое кресло, которое послушно приняло удобную для сидения форму. Он не был уверен, как ему поступить. Несколько раз он писал ходатайства в министерство образования и ратовал за принятие закона о досрочной, в исключительных случаях, стерилизации. Мнение Фролова разделяло множество коллег, однако все усилия разбивались о консерватизм и твердолобость министерских крючкотворов. Якобы опасность неполноценности семенников или яйцеклеток, извлеченных до достижения донором шестнадцатилетия, слишком велика. То, что в некоторых случаях опасность для самого донора значительно превалировала над всеми прочими, чинуши удачно пропускали мимо ушей.
Фролов выругался про себя и повернулся к монитору. Наставник принял решение — он займется парнем. Для начала поговорит с его родней. Фролов раскрыл папку с личными делами учеников. Головной файл был выполнен в виде диаграммы из кружков и соединяющих их стрелок. От кружка с надписью «Антон Валишевски» отходили две. Одна — к о-брату Жаку Валишевски, другая — к м-брату Раулю Коэну. Фролов споро просмотрел компиляции на обоих. Интеллектуальный уровень Жака «оставлял желать». Возможно, поэтому Антон и относится к нему неуважительно. Пожалуй, следует начать с м-брата. Поиграв электронным карандашиком над папкой с файлами, Фролов быстро составил стандартный «вызов к наставнику» и отправил его Раулю Коэну. Что ж, они вместе попытаются помочь Антону. И тот, с его умом, оценит и поймет, должен понять. А поняв, умерит свой юношеский запал и остепенится. Обязательно умерит, уж Отто постарается. Ну, а если нет… Фролов закрыл глаза. Значит, так тому и быть, но по крайней мере он сделает все, что от него зависит.
— Я чувствовала, что ты придешь, — сказала Нелли. — Не знаю почему. Может быть, из-за того, что ты так похож на моего брата.
— Ты имеешь в виду Макса? — спросил Антон. — Я знаю его, он играет в футбол в одной команде с моим братом Жаком. Но, слушай, я совершенно не похож на Макса.
Они не спеша двигались вдоль по аллее интернатского парка. До обеда Антон промаялся, все валилось из рук, он, не переставая, думал о давешнем сне, пока не обнаружил, что дело уже не в нем, а в той, кто ему приснилась. Залпом настрочив ненавистное сочинение, Антон отправил его наставнику и решительно поднялся. Через десять минут он уже постучал в Неллину комнату и предложил ей «задвинуть» ужин. Уговаривать девушку не пришлось, и вот теперь они медленно брели по крытой мелким щебнем тропинке.
— Нет, не на Макса, — задумчиво ответила Нелли. — Макс — мой брат по матери. Ты похож на моего о-брата, Антон. Нет, нет, не внешне. У него тоже был один из самых высоких на потоке уровней интеллекта. Он, как и ты, старался смотреть людям в глаза. И он всегда говорил то, что думает.
— Я не знаком с твоим о-братом, — признался Антон. — Извини, мне, конечно, следовало бы больше знать о тебе. Тем более что, я вижу — ты интересовалась моими данными. Как зовут твоего брата?
— Роман Семенов. Но ты и не мог его знать. Он был на год старше нас с Максом.
— Этого не может быть, — Антон резко остановился. — Как это — старше? И почему ты говоришь о нем в прошедшем времени?
— Антон, ты действительно хочешь об этом знать?
— Ну да, конечно. Иначе не стал бы спрашивать.
— Что ж… ладно. Наши родители, естественно, умерли в один год. Каждому, как и положено, сравнялось сто восемьдесят. Но вот первое наше с Максом рождение не удалось — у мамы было что-то не в порядке с базовыми яйцеклетками. И нам дали второй шанс, использовали пару из резерва.
— Теперь понимаю, — кивнул Антон. — Я читал о таких случаях. Но думал, что они крайне редки. Получается, что Роману уже больше шестнадцати, он закончил школу, прошел стерилизацию и, вероятно, поступил в университет, так?
— Нет, не так, — Нелли опустила голову. — Он не закончил школу, ему не дали.
— В каком смысле «не дали»?
— В прямом. Наставник написал на него докладную в директорат. Решением особой комиссии мой брат был признан «вне социума» и выдворен в Антарктиду. Без права на возвращение, разумеется. Я даже не уверена, что в Антарктиду — так мне сказали, но разве это проверишь? Ты все еще хочешь продолжать разговор?
— Я, я… — Антон остановился и неожиданно взял Нелли за руки. — Так твой брат, получается… — Он запнулся и вдруг неожиданно для себя самого выпалил: — Знаешь, я думаю, что хотел бы быть на его месте.
Они остановились, и Нелли мягко отняла руки.
— Ты сейчас сказал глупость, — медленно проговорила она. — Быть выдворенным в глушь — это несчастье. А если мы будем держаться за руки в общественном месте и нас увидят, то это несчастье может случиться и с нами.
— Я иногда думаю, что живу в сумасшедшем доме, — сказал Антон. — Только не знаю, кто сумасшедший — я или все остальные. Логика подсказывает, что псих — я, хотя бы по теории вероятностей. Но вот рассудок, понимаешь… Я считаю идиотством, что человека могут осудить, если он держал кого-то за руки. Или за то, что он думает не совсем так, как ему велят. Или за то, что он видит сны, которые якобы представляют угрозу для общества. Общество должно сплошь состоять из кретинов, если ему грозят чьи-то сны.
— А ты видишь плохие сны, Антон?
— Да, вижу, вот уже третью ночь подряд, — Антон отчаянно покраснел и выпалил: — Уже третий раз подряд я вижу во сне тебя.
— Меня? — теперь покраснела Нелли. — И я, что я делала в твоем сне?
Антон поднял глаза и посмотрел на девушку в упор.
— Мы оба делали, — коротко сказал он. — Мы лежали в одной постели и занимались ужасными вещами. Можешь ударить меня, вон валяется подходящая доска, буду благодарен, если залепишь ею мне по морде. В моем сне мы с тобой занимались сексом.
«Насколько же похожи братья», — подумал Отто Фролов, глядя на вошедшего в классную комнату Рауля. Их даже можно спутать, если не приглядываться внимательно. Оба худощавые, даже поджарые, тот же разрез глаз и одинаковый цвет волос — иссиня-черный. Оба высоколобые, скуластые, смуглые. И все же Рауль Коэн чем-то разительно отличался от брата, только чем именно, наставник понять не мог.
— Садись, — сделал он приглашающий жест. — Ты знаешь, зачем я позвал тебя?
— Откуда мне знать, наставник? — улыбнулся Рауль, — но я думаю, что догадываюсь. Видимо, речь пойдет о моем м-брате.
— Да, о нем. Скажи мне, какие у вас отношения?
— Ну, мы же братья, наставник, — ответил Рауль после короткой паузы. — Братьям положено питать друг к другу родственные чувства.
— Да, конечно, Значит, ты относишься к Антону так, как и положено брату. Расскажи мне о нем. Все, что считаешь нужным. Не торопись, подумай, возможно, от того, что ты скажешь, для него будет зависеть многое.
— Хорошо, — Рауль поудобнее устроился в кресле. — Антон — звезда, об этом все знают, наставник. Исключительные способности к техническим предметам. Математика многомерных пространств, самообучающиеся системы, физика высоких энергий, квантовая астрономия… Победитель и призер евразийских олимпиад по всем этим дисциплинам. Уровень интеллекта…
— А своими словами? — прервал Фролов. — Все, что ты сказал, можно прочитать в личном деле Антона. Меня интересует то, что туда не вошло.
— Своими? Что ж, можно и своими. В Сети шарит как никто. Да и в компах вообще проблемы решает на раз. Поисковиками крутит — заглядишься.
— Понятно. Ну, а если отвлечься от технических деталей? Вот основной вопрос — как ты полагаешь, достойный ли член общества выйдет из твоего брата?
— Вы хотите правду, наставник?
— Да, разумеется. И чувствуй себя спокойно — твои слова останутся между нами, я не собираюсь ссылаться на них, что бы ты ни сказал.
— Ладно. Я думаю, что таким, как Антон, не место среди нас, наставник. Мне кажется, он ненавидит социум. Он и родителей своих ненавидит, на могилу мамы со мной не ходил ни разу. Говорит, что плевать хотел. Что мама ничего не сделала для него, и он ей ничем не обязан. То же насчет отца. И потом — занятия. Социологию, психологию, этику за науки не считает. Говорит, что не верит, называет болтологией, демагогией и мракобесием. Однажды сказал — вандализм. Это когда разбирали соглашение между мужчиной и женщиной о рождении совместного ребенка.
Отто Фролов, скрестив на груди руки, молчал. Ему случалось видеть, как братья и сестры изо всех сил выгораживали своих. Единственных близких им на свете людей, тех, которых любят несмотря ни на что. Этот же парень, Рауль Коэн… Он завидует, понял Фролов, вот в чем причина. Завидует брату, оказавшемуся способнее и умнее. Надо же, какая дрянь.
— Еще что-нибудь хочешь сказать? — Отто встал с кресла, стараясь не смотреть на воспитанника. Фролову казалось, что его изрядно вымазали в грязи.
— Да, наставник. Хочу. Антон видит сны. Часто. Во сне он, мне стыдно об этом говорить… В общем, во сне… Во сне он занимается сексом.
Фролов подался вперед. «Этого только не хватало», — с горечью подумал он. На остальное можно было бы закрыть глаза, но это… Первый, он же основной признак неисправимого социопата — повышенное либидо. Пробившееся через подавляющее воздействие ингибиторов, обильно поглощаемых вместе с пищей подростками, которые еще не прошли стерилизацию.
— Как давно? — хрипло спросил Фролов.
— Что как давно, наставник?
— Как давно он видит такие сны? Почему не пришел с этим ко мне или к кому-нибудь из учителей?
— Давно, наставник. Я уговаривал его сообщить вам, но Антон отказался.
— С кем он занимается во сне сексом? Имя девушки?!
— Этого я не знаю, наставник. Но могу узнать. Антон совершенно не гибкий, он не умеет изворачиваться. И лгать не умеет.
— Хорошо. Спасибо, ты помог мне. Можешь идти.
Пару минут спустя после ухода Рауля Фролов понял, чем именно отличаются братья. Рауль Коэн попросту походил на копию, слепленную с Антона Валишевски. Но копию небрежную, пошарпанную, второразрядную. И неудачную.
— Рома был совершенно неординарным парнем. Он на многое смотрел не так, как все, по-другому.
Антон не прерывал девушку. Они сидели на парковой скамейке. Вечерние сумерки затянули мир вокруг них серо-коричневым мрачноватым покрывалом. Громоздкий, уродливый, слившийся до неба с горизонтом жилой комплекс интерната зловеще мигал пятнами света из врезанных в стены глазниц-окон. Фонари еще не включили, и парк, ощетинившись кронами лиственниц, настороженно замер.
— Рома считал, что нам постоянно врут, — тихо рассказывала Нелли. — Иногда он говорил совершенно ужасные вещи. Однажды сказал мне, что стерилизация, через которую проходит каждый цивилизованный человек, едва ему сравняется шестнадцать — не только, и даже не столько комплекс процедур, обеспечивающий иммунитет и долголетие. И, якобы, в основном стерилизация — это хирургическое вмешательство. Оно лишает человека способности к репродукции и отнимает у него заложенное природой желание воспроизвести себя. И, тем самым, лишает основного драйва, ради которого люди жили раньше. Подменяя этот драйв другими ценностями — долголетием, праздностью, самодостаточностью. Я запомнила Ромины слова, но какой драйв он имел в виду — не знаю.
— Подожди, — попросил Антон. — Дай мне пару минут, у меня застряла в голове какая-то мысль. Я чувствую, что она важная, но никак не могу сообразить.
Нелли замолчала, и Антон, откинувшись на скамейке, закрыл глаза.
Только не торопись, сказал он себе. Не дай тому, что промелькнуло пару мгновений назад, ускользнуть. Надо сосредоточиться, проанализировать известные вещи и понять, как они сочетаются с тем, что он только что услышал.
Итак, каждый человек на Земле проходит стерилизацию. До этого, начиная с четырех лет, его готовят к тому, как он будет жить после нее. И утверждают, что жить он будет прекрасно. Непосредственно перед стерилизацией детородные клетки человека извлекают и замораживают. Их инициируют сразу после его смерти. Которая наступает в возрасте ста восьмидесяти лет путем искусственного и безболезненного прерывания жизни. К ста восьмидесяти годам организм исчерпывает себя, и жить дальше становится нецелесообразным. За время жизни каждый мужчина заключает с двумя женщинами одного с ним возраста соглашение о рождении совместного ребенка. И, соответственно, каждая женщина — с двумя мужчинами.
Таким образом, население Земли остается неизменным — каждая пара единственный раз воспроизводит себя. Посмертно.
Считается, что принятие закона о всеобщей стерилизации — главное достижение цивилизации планеты за всю ее историю. Закон разом решил основные проблемы человечества, причем во всех областях. Прежде всего, демографические — численность населения начала медленно, но неуклонно сокращаться. Сокращаться за счет выдворенных в малопригодные для проживания области социопатов и небольшого количество умерших преждевременно. Довольно быстро обесценились деньги: люди прекратили стремиться к обогащению — их социальный статус перестал зависеть от материального положения, а стимул к накоплению капитала ради передачи его потомству исчез. Не стало необходимости во всеобщей занятности: желающие трудиться получали работу, желающие жить в свое удовольствие могли беззаботно вести праздное существование. Автоматика успешно взяла на себя приличную часть неквалифицированных работ. Упала преступность, одну за другой искоренили болезни. А самое главное — справились с отвратительным вывертом природы. С тем самым, от которого человечество страдало с тех пор, как на Земле появились первые люди. С необходимостью спариваться — творить кошмарный, противоестественный акт. Доставлять детородные клетки друг к другу, совершая физическое проникновение в тело человека противоположного пола.
Антона передернуло от брезгливости, стоило ему подумать об этом. Секс — жуткое антигуманное извращение. Не говоря о том, что антигигиеническое.
Антон открыл глаза, и в этот момент та мысль, которая пряталась и упорно не давалась, вдруг прострелила его. Она оказалась подобна озарению и вмиг перевернула стройную и отлаженную систему с ног на голову. Нет, наоборот, с головы на ноги, отчетливо подумал Антон.
— Нелли, — выдохнул он, обернувшись к девушке. — Я, кажется, понял.
— Понял что? — Нелли зябко поежилась. — Нам пора идти, Антон. Если нас хватятся…
— Подожди, это не займет много времени. Так вот, я понял. Понял, в чем нас надувают, да и все остальное понял. Смотри: в нас с детства вбивают, что физические контакты — зло. Что человеческая личность физически неприкосновенна. Секс — меня корежит, стоит мне не только произнести это слово, но и подумать о нем. И сейчас корежит. Я видел, как отвращение плеснулось у тебя в глазах, когда я признался, чем занимался с тобой во сне. Так?
Девушка кивнула. В свете включившихся парковых фонарей Антон увидел, как она стремительно покраснела.
— А теперь представь. Только на минутку. Представь, что секс это не зло, не отвратная мерзость, а наоборот. Не наказание человечеству, наложенное на него природой, а ее щедрый дар. И если это предположить, то все, абсолютно все перевернется. Понимаешь, я в своем сне испытывал нечто особенное. Какое-то необыкновенное, неведомое удовольствие. Сладкое, доводящее до истомы. Которое сменилось отвращением, стоило мне проснуться. И я подумал тогда: а что, если?.. Но мысль была мимолетной, через мгновение она исчезла, а вот теперь пришла опять, уже явственно. И тогда получается, что…
— Я знаю, что получается, — тихо сказала, почти прошептала девушка. — Об этом говорил мой брат. Он пришел к тому же выводу. Только он не называл это сексом. Роман говорил — любовь. А секс — лишь одна сторона ее, физическая. Но я не верила. Я боялась и не могла поверить. Даже когда он, когда его…
Нелли замолчала, и Антон увидел в ее глазах слезы. Не сознавая, что делает, он придвинулся, взял девушку за плечи и повернул к себе. Та вскинула на него бархатистые, влажные от слез глаза, их взгляды встретились, а еще через секунду встретились губы.
Антон не знал, сколько длился поцелуй. Жаркая волна захлестнула его, прошла по всему телу и остановилась в низу живота, а потом принялась накатывать оттуда на сердце, даря совершенно удивительное, ни с чем не сравнимое чувство.
— А, вот ты где, — сквозь сладкий дурман услышал Антон.
Он оторвался от девушки, резко обернулся и в луче света от паркового фонаря увидел своего м-брата.
— Я заскочил к тебе, смотрю — тебя нет, — скороговоркой затараторил Рауль. — Заглянул к Жаку, тот сказал, что видел тебя в парке. Ну, я и решил… Ох, прости, ты тут не один. Здравствуйте. Извините, что помешал. Так я пойду.
Рауль повернулся и быстро зашагал по аллее прочь.
— Антон, если он доложит наставникам, нам конец, — прошептала Нелли. — Обоим.
— Рауль никогда этого не сделает, он же мой брат. Нелли, я хотел сказать тебе: я сейчас чувствовал такое… Мне не описать. Это было…
— Я знаю, — девушка потупилась. — Я думаю, что чувствовала то же самое.
— Вы знаете, зачем мы вас пригласили? — пожилой мужчина в строгом сером костюме, морщинистый, с суровым неулыбчивым лицом, скользнул по Жаку беглым взглядом.
— Я… — простите, как вас называть? — большой жизнерадостный Жак, казалось, осунулся и выглядел сейчас неказистым и потерянным. — Я думаю…
— Можете называть меня доктором. Так что вы думаете?
— Это насчет моего о-брата Антона, доктор? — Жак растерянно обвел глазами помещение. За столом кроме «доктора» сидели еще двое мужчин, одетые так же, как и тот. — Я знаю, у него неприятности. Но Антон, он, понимаете, он справится. Он особенный, мой брат Антон, он сильный, он, он… совершенно необыкновенный человек.
— Вот как. Что ж, эти качества ему пригодятся. С завтрашнего дня Антон Валишевски теряет евразийское гражданство. Он отправляется в Антарктиду, а там его дальнейшую судьбу определят местные власти. У вас будет возможность попрощаться, для этого мы вас и пригласили.
Жак ошеломленно застыл. В Антарктиду… Им рассказывали о ней на уроках обществоведения. Дикие, отдаленные от цивилизации места, где люди непрестанно борются за жизнь. И мрут как мухи, некоторые не доживают и до шестидесяти. Вечная зима, снега и льды, дефицит электричества, питания, витаминов. Тяжелый труд, каторжный, школ нет или почти нет, дети растут дикарями…
— Доктор, что вы сказали? — пролепетал Жак. — Что вы сейчас сказали, доктор? Вы… — огромный грузный Жак рухнул вдруг на колени. — Вы что, доктор, только не он, я прошу вас! Только не Антон! Вы не можете, не смеете, вы не сделаете этого!
Жак грянулся на четвереньки и пополз к столу. Он уже не говорил, он голосил, подвывая, капли пота летели со ставшего багровым и страшным лица.