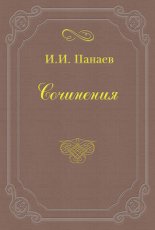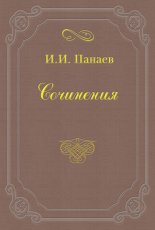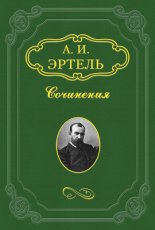Два брата, или Москва в 1812 году Зотов Рафаил
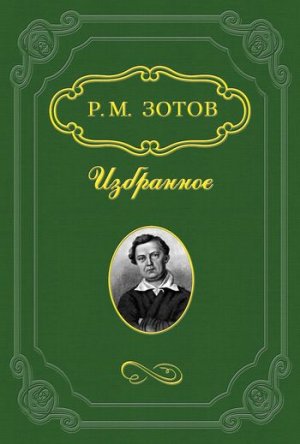
Часть I
Глава I
Между Москвою и Владимиром, лет за 50 тому назад, не помню близ какой-то станции, стоял господский дом, отделенный от большой дороги деревянною решеткою. Дом был одноэтажный с мезонином. На дворе, который, как видно, помещик решился содержать в чистоте, пробивалась трава сквозь песок. По левую сторону были людские, а по правую – сараи и конюшни. Тут с обеих сторон были калитки в сад, хотя главный вход в него и был из гостиной, где трое стеклянных дверей отворялись на деревянную, полукруглую террасу, спускавшуюся несколькими ступенями в главную липовую аллею. Мы не будем описывать всех подробностей сада и дома: прихотливость деревенских помещиков всегда развивается по мере средств каждого, а у Петра Александровича Сельмина было до 1000 душ – незаложенных. Следственно, можно себе представить домашний комфорт этого дома, а по времени действия (это было в последнем десятилетии прошлого XVIII столетия) можно догадаться и о духе барничества, господствовавшего в жилище богатого помещика.
Старики всех веков и народов уверяют всегда, что в их время было гораздо лучше, а молодое поколение смеется над этим, убеждая само себя, что все идет к усовершенствованию человечества; когда же состарится, то опять твердит то же самое своим детям, что слышало от отцов. Это вечная круговая порука, и всякий прав по-своему. Не надобно никого осуждать безусловно. Всякое время имеет свою хорошую и свою дурную сторону, потому что люди всех веков человечества будут все-таки люди, то есть существа со слабостями, недостатками и пороками. Семена добра есть во всяком, но обстоятельства, эти несчастные circonstances attenuantes законодательства общественной жизни, увлекают их в проступки и заглушают врожденное стремление к добру. Русское поколение XVIII века может похвалиться многими прекрасными качествами, которых мы не имеем, но зато мы, слава богу, ограждены и от многих злоупотреблений, которые над ними тяготели.
Владимирский помещик Петр Александрович Сельмин действовал в духе старого времени. Всякий крестьянин мог к нему прийти с просьбою и даже с жалобою, и решение его всегда было основано на чувстве христианской веры. В неурожайные годы он их кормил. После пожара строил им избы, после падежа покупал скот, а иногда молодым своим парням добывал у других помещиков невест, когда влюбленные решались к нему являться и, повалясь в ноги, объясняли свою страсть.
Для соседних мелкопоместных дворян Сельмин был просто клад. Он им и поля засевал, и домы поправлял, и подушные часто за них платил. Стоило только прийти к нему и взмолиться жалобным голосом. Он, бывало, пошутит, помучает, а кончит непременно тем, что все даст. Эту слабость его знали, и все пользовались ею. Зато уже, разумеется, он требовал от всех этих полубар безусловного повиновения, и горе тому, кто бы ему вздумал в чем-нибудь поперечить!
Дверь Петра Александровича была всегда отперта. Кто хочешь вались, комар и муха. Соседи могли во всякое время поесть и попить у него, платя за это несколькими поклонами и натянутыми комплиментами насчет великодушия хозяина.
Вообще Петр Александрович был любим и уважаем во всем околотке. Ему было за 50 лет. Он был вдов и имел всего одного сына, который был уже гвардии офицер. Разумеется, первая обязанность новопроизведенного офицера состоит в том, чтоб отпроситься в отпуск и блеснуть военным званием. Так поступил и Александр Петрович. Он явился к отцу – и пошли праздники за праздниками. Как ни охотно все соседи пивали и едали у старика Сельмина, но на все есть границы. Петр Александрович так дружески всех запотчевал, что наконец все рады были кое-как помаленьку выбраться из этого разгульного Эльдорадо. Можно после этого судить, что было выпито и съедено, если приказные желудки XVIII века не в силах были побороть разливанного усердия Сельмина. Мало-помалу ежедневная беседа его пустела, а сын начинал скучать. Окрестные барышни не привлекали его. Он смотрел на них свысока.
Итак, старик Сельмин начинал скучать, видя, что застольники и собутыльники его мало-помалу скрылись и не возвращаются. Он придумал наконец еще одну уловку. Усадьба его была на большой дороге; станция была недалеко от господского дома, он приказал почтовому смотрителю не давать никому лошадей, а всех проезжих отправлять к нему в гости. Происходили презабавные сцены всякий день. Проезжие сердились, жаловались, кричали и все-таки отправлялись к Петру Александровичу, который так умел каждого обласкать и угостить, что все от него уезжали совершенно довольные, смеясь забавному средству помещика зазывать к себе гостей.
Однако ж отпуск Шанички (так старик звал своего гвардии офицера) приближался к концу, последние дни надобно же было попировать. Все бежавшие гости воротились, зная, что на этот раз с отъездом сына тотчас же погонят всех со двора. На счастье Сельмина, и проезжих было немало, так что весь дом был битком набит и все кутили напропалую. Шаничкин отъезд назначен был на другое утро, прощальный пир должен был продолжаться весь день и всю ночь вплоть до отъезда.
Чего тут не было. Боже мой! Исчисление всех блюд и напитков этого пира, всех занятий и забав этого веселого общества показалось бы скучно нашим читателям, а между тем сколько тут исторических фактов. Тут виден весь образ жизни наших предков, их вкус, их склонности, степень их образованности, их понятия, их логика. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты таков — вовсе не парадокс новейших гастрономов. Пища и забавы лучше всего обнаруживают человека. Он тут не притворяется, он следует своей животной природе. Караульте тут людей, господа философы, вы больше узнаете, нежели из целых фолиантов Канта и компании.
Тогда был сентябрь… У нас на Руси, особливо в северной и средней полосе, много сентябрей в году, но это был настоящий. Серое небо сеяло на землю сквозь самое тонкое сито какую-то влажность вроде дождя, однако же то был не дождь, а пародия на него. Ветер холодный, пронзительный помогал ему пробивать с усердием всякую человеческую одежду. Грязь была, по милости тогдашних дорог, по колено, и несчастный путешественник, которого судьба заставила ездить по тогдашним губернским дорогам, подвигался самым медленным и неприятным образом.
На станции, близ усадьбы Сельмина, остановился в это время какой-то проезжий. Он ехал не на почтовых, но в скромной кибиточке тащился парою на наемных, обывательских, и, подъехав к селу, объявил своему слуге, сидевшему на облучке, что намерен ночевать в этой деревне. Слуга спросил ямщика, где бы лучше переночевать барину, и тот, почесавшись, отвечал, что лучше всего ехать к помещику в усадьбу. Барин, сидевший в кибитке, вовсе не желая этой чести, сказал, что ему нужен ночлег и теплая изба; но в эту самую минуту высыпали на улицу станционные ямщики и закричали в один голос, что лошадей не дадут, а что, по приказанию помещика, всех проезжих велено отправлять к нему в дом.
– Да мне, братцы, ваших лошадей не надо, – отвечал проезжий в кибитке, – я еду на вольных.
– Да уж все равно, сударь, – сказал ему староста, – мы не посмеем никаких дать лошадок. Барин крутой, боже упаси. У него теперь пир горой, и он велел, волей или неволей, всех проезжих отправлять к нему. Уж не прогневайтесь, сударь, а отправляйтесь к Петру Александровичу. И погуляете и отдохнете. Он у нас прерадушный.
– Очень рад за вас, – отвечал проезжий. – Но я гулять не намерен; знакомиться не хочу, одолжаться не люблю. Егор (он обратился к своему слуге), постучись в первой избе и попроси ночлега.
Медленно стал слезать старый слуга, но ямщики остановили его и в один голос объявили, что не осмелятся принять к себе проезжего на ночь, боясь барского гнева. Все с поклонами окружили проезжего и умоляли его ехать к помещику.
– Еще одно испытание! – сказал проезжий, пожимая плечами. – Пожалуй! я перенес не это. Ступай, Егор, к помещику. Поедем на пир.
При этом слове горькая улыбка показалась на лице путешественника и даже слуга его покачал головою. Ямщик ударил по лошадям, которые очень неохотно тронулись с места, и гурьба ямщиков провожала их до выезда из деревни, чтобы проезжий не передумал и не остановился где-нибудь в крайних избах.
Через четверть часа они дотащились до подъезда Сельмина. Лакеи, услыхав подъехавшую кибитку, выбежали со свечами и ввели нового гостя, доложа барину о прибытии этого невольного посетителя. Сельмин явился сам к нему.
– Верно, вам на селе не давали лошадей и отправили ко мне? – сказал он. – Уж извините. У меня праздник, и я не хочу, чтоб кто-нибудь проехал здесь мимо, не отведав моего хлеба-соли. Милости просим. Добро пожаловать. Если вы сбираетесь браниться со мною за это насильственное приглашение, то прошу вас оставить ссору до завтра. Может быть, гнев ваш пройдет.
– Кто сердится, тот или не прав или человек без образования, – отвечал проезжий, – мне не хотелось бы быть ни тем, ни другим. Напротив, я благодарю вас за гостеприимство. Позвольте об одном умолять вас. Велите мне дать какой-нибудь угол, чтоб отдохнуть и переночевать. У вас, я вижу, много гостей, а я самый дурной собеседник. Веселья всеобщего я ничуть не прибавлю, а скуку навести могу. Прикажите же поместить куда-нибудь меня и слугу моего.
– Все будет, и надеюсь, что вы будете мною довольны. Но позвольте же и мне просить вас погостить часок-другой с моими друзьями и знакомыми. Ваше первое слово доказало мне, что вы человек благородный и образованный. Следовательно, вы не можете отказать в просьбе хозяину. Меня зовут Петр Александрович Сельмин. Ко мне приехал в отпуск сын мой, гвардии офицер, Александр, завтра он отправляется обратно в С.-Петербург. Сегодня у меня прощальный пир, и кто ко мне попал в дом, тот будет не прав, если станет отказываться принять участие в моем празднике.
– Мое дело было предупредить вас, что я не гожусь в праздничные собеседники. Если же вам угодно, чтоб я был в числе бесполезного балласта, то я охотно повинуюсь.
– Только по приезде в гавань показывается, какой товар дороже прочих, и я надеюсь, что вы будете в числе самых приятных и дорогих. Позвольте узнать, с кем я имею честь познакомиться?..
Проезжий с минуту не отвечал, печально посмотрел на хозяина, покачал головою и сказал наконец со вздохом:
– Я человек без имени, звания, родины и семейства… Угодно ли вам после этого, чтов я оставался у вас?
– Непременно. Я виноват, что полюбопытствовал. Мое дело угощать, а не спрашивать. Прошу вас еще раз быть моим гостем и для начала откушать и согреться с дороги.
В эту минуту лакей подошел с большим подносом, на котором стояли разные напитки и который, для дебюта, являлся пред каждым вновь прибывшим гостем.
– Я, кроме воды, ничего не пью, – отвечал путешественник.
– Вот уж это невозможно. Сколько угодно и чего хотите, – сказал Сельмин, – но значило бы обидеть хозяина, отказавшись выпить что-нибудь за здоровье его сына.
– Не знаю, как же назвать, если насильно станут заставлять гостя пить.
– Очень просто: это закон учтивости и необходимости. С своим уставом в чужой монастырь не ходи, говорит пословица, и все должны ей покоряться.
– Повторяю вам, что я ничего не пью.
– Может быть, но сегодня у меня это необходимо. Вы будете первый человек на Руси, который нанес бы мне подобную обиду.
– Ради бога не настаивайте!
– Окатите его! На голову лей! – закричало несколько голосов гостей, бывших навеселе, сидевших поблизости за карточными столами.
– Слышите ли, какие меры мне предлагают? – сказал Сельмин.
– Этим людям я не удивляюсь, – отвечал проезжий, – в них говорит вино, а не рассудок. К счастию, вы не похожи на них…
– Как? Что? Так мы пьяны? Кто вы, сударь? Как смели? – закричали обидевшиеся гости, окружив хозяина и путешественника.
С холодным достоинством посмотрел на них последний и, обратясь к хозяину, сказал ему:
– Позвольте узнать, Петр Александрович, у вас ли я в доме нахожусь и с какого права эти господа требуют от меня ответа?
– Пейте, если хозяин велит! – закричали ему все.
– Хозяина я почитаю слишком благородным, чтобы он мог приказывать пить. – Вас же нахожу довольно… забавными, чтоб вместо него распоряжаться человеком, вовсе вам незнакомым.
– Вот еще невидаль! Кто вы такие? – спросил один из гостей, подойдя к нему.
– А разве здесь заставляют пить всех без исключения? – сказал путешественник. – Если так, то я вам не мешаю, я же – простолюдин и следую собственной своей воле и рассудку.
Около действующих лиц этой сцены собралась в минуту большая толпа, и все кричали: «Пить! Пить! Заставить его пить!»
Неизвестно, чем бы кончилось это явление, но путешественнику приходилось худо. Уже более десяти рук держали над ним бутылки и штофы, чтоб вылить на него влагу, которую он отказывался пить, и, если б он стал обороняться, может быть, эта стеклянная гроза и обрушилась бы на него. Вдруг явился гвардии офицер Шаничка, через всех ловко пробился к самому проезжему, сказал слова два в успокоение отца, схватил первого под руку, утащил с собою и, проведя в свою комнату, запер ее за собою на ключ.
– Сделайте милость, извините этих людей, – сказал он путешественнику, – они уже третий день пируют. Мне совестно за батюшку, что он окружил себя подобным обществом. Я очень рад, что уеду от них завтра. Не угодно ли вам у меня расположиться?.. Вы, верно, из Москвы?
– Нет! я из Петербурга…
– А! очень рад! Что там нового? Императрица не переехала еще из Царского Села?
– Я уж три недели как выехал из Петербурга…
– Так долго ехали?
– На долгих, мне торопиться некуда…
– Вы простите мое любопытство… Но мне кажется, что я вас видал в Петербурге… Лицо ваше мне так знакомо…
– Не может быть, – с горькою усмешкою отвечал проезжий. – Лицо мое принадлежит к числу умерших. Меня никто не знает и не может знать.
С удивлением посмотрел на него молодой Сельмин, не понимая странного его ответа.
– Я, однако, помню, – продолжал он с недоумением, – так точно! Не родня ли вы гвардии капитану Зембину?.. Я его часто видел, и ваше с ним сходство с первого взгляда поразило меня.
Путешественник смешался, побледнел, но отвечал, однако ж, довольно равнодушно:
– Нет! я ему не родня. Наше сходство – дело случайное.
– Так вы его знаете?
– Да! видал… во время последнего турецкого похода.
– А вы были в военной службе? Очень приятно познакомиться с вами! В каком полку вы служили?
– Я находился при главнокомандующем… и то недолго… Незначащая рана и семейные обстоятельства принудили меня оставить это поприще… Но я вас задерживаю… У вас гости. Позвольте мне отдохнуть, мне рано надобно отправляться в путь.
– Это моя комната; вы в ней полный хозяин. Я оставлю вас и пришлю слугу. Сделайте одолжение, приказывайте.
– Мне никого не нужно. Со мною есть слуга…
– Ну, этот, вероятно, теперь в распоряжении наших челядинцев, и если он не одарен такою же твердостью, как вы, то, верно, его уже напоили. Уж это так водится.
– Очень жалко, я во всю жизнь не забуду вашего одолжения. Вы меня спасли. Бог знает, что бы тут произошло.
– О нет! Батюшка мой и добр и благороден… Но вы знаете провинциальные нравы.
В эту минуту старик Сельмин вошел.
– Ступай, Саша, к гостям да вели обнести чем-нибудь. Ты очень хорошо сделал, что увел сюда этого господина.
– С которым мне лестно было познакомиться. У нас есть много общих знакомых. Он был в военной службе, находился при главнокомандующем… я уж извинялся пред ним за наших гостей… Запировались.
При этом слове он ушел, а старик Сельмин, оставшись с проезжим, подал ему руку и также извинился в происшедшей сцене.
– Я их всех побранил, – сказал он. – Они приняли вас за соседнего помещика 17-ти душ. Он иногда отнекивается, и мы его обливаем.
– Очень сожалею, что он позволяет это с собою делать.
– Э! как вы судите! У нас все делается по-приятельски. Творим, что думаем, и никогда не сердимся друг на друга за дружескую шутку.
– Это очень похвально.
– Я пришел к вам извиниться и просить вас пожаловать опять в залу к гостям.
– Нет! избавьте, ради бога.
– Послушайте. Для меня это все равно. У меня дом открыт, и мое дело угостить и спать положить. Но собственное ваше достоинство требует, чтоб показаться опять перед всеми. Я вас не спрашиваю, куда вы едете и кто вы, но вы везде с этими людьми можете встретиться, и они, видя вас в чести в моем доме, рады будут все для вас сделать. Я ведь угощаю всю губернию. Все у меня пьют и едят.
– Я вам душевно благодарен, – отвечал проезжий с некоторою задумчивостию, – но вряд ли мне в ком-нибудь будет нужда на этом свете, да и меня, кажется, дальше гроба нельзя гнать… Впрочем, я вижу, что вы истинно добрый и благородный человек. Если вам хотя несколько приятно может быть, чтоб я явился в залу, то я готов идти за вами.
– Очень рад, пожалуйте, пойдемте!
И вот таинственный вояжер опять явился в гостиной. Он был высокого роста, бледный, худой, с выразительными глазами, благородными приемами и серьезною физиономиею. Ему казалось около 40 лет, впрочем, его огненный взгляд, добрая поступь давали повод думать, что он гораздо моложе. Только морщины на лбу и на щеках обнаруживали преждевременную старость или тяжкие страдания. Одет он был совершенно по-дорожному, однако же чисто и скромно. Едва он показался в зале, как молодой Сельмин подвел к нему группу давешних крикунов, которые тотчас перед ним извинились в неуместной шутке.
– Помилуйте, господа, – отвечал он с хладнокровным достоинством. – Я вовсе не в претензии. Вы поступили по своим привычкам, я по своим, мы квиты. Мы все равно уважаем хозяина и готовы угождать ему. Я первый, чтоб сделать ему приятное, явился опять сюда и очень буду рад, если вы удостоите меня вашего лестного знакомства.
Все расшаркались, все пустились в фразы, извинения, рекомендации, и все-таки кончилось тем, что прежний навязчивый господин снова приступил к нему с вопросом: позвольте узнать, с кем я имею честь и проч. Проезжий отвечал, что у него нет ни имени, ни рода, ни племени. Это опять взволновало все общество. Все начали громко шептать хозяину, что это неприлично, что всякий должен знать, с кем говорит, что в такой компании не должны быть безыменные люди и т. п. Вдруг молодой Сельмин расхохотался и обратил этим на себя внимание.
– Как это смешно! – вскричал он. – Ведь я вам говорил, что у нас, в провинции, и шутки понять не умеют. Видите ли, что я прав и вы проиграли заклад. Да, господа! Теперь я вам открою все дело. Завтра я уезжаю, это мой короткий приятель, он заехал за мною, чтобы вместе отправиться. Мы уговорились, чтоб, приехав в последний день, он сыграл всю эту комедию. Я думал, что все будут смеяться нашей шутке, а вышло, что без формуляра здесь нельзя и глаз показать. Теперь кончено. В наказание за их недогадливость и я им ни слова не скажу. Пусть же они помучаются до будущего моего отпуска. Прошу вас молчать и никому не открывать вашего имени.
Все поглядели друг на друга с изумлением, проворчали разные полуизвинения и начали отпускать натянутые шутки насчет своей мнимой недогадливости. Старик Сельмин посмотрел на сына, покачал головою и замолчал. Гости разошлись опять за карточные столы, а молодой Сельмин взял проезжего под руку и стал с ним ходить по комнатам. Через час уже и забыли об этом эпизоде. Веселое расположение гостей не могло вдаваться в продолжительные обсуждения. Да ведь они и не за тем собрались. Один молодой Сельмин не отставал от путешественника. В первый раз он встретил человека с такою образованностию и душою. Таинственность его еще более усиливала участие, которое он к нему чувствовал. Уважая причины его скрытности, он не обращал разговора на этот щекотливый предмет, и гость был ему чрезвычайно благодарен за его деликатность. Наконец проезжий просил позволения удалиться, и молодой хозяин проводил его опять в свою комнату.
– Любезный Александр Петрович, – сказал ему таинственный гость, – я завтра, вероятно, уеду прежде, нежели вы встанете. Позвольте с вами проститься и поблагодарить вас еще раз за вашу милую выдумку насчет нашего знакомства. Вы меня два раза спасли от неприятностей. Вы сделали доброе и благородное дело. Мы с вами, верно, больше никогда не сойдемся в этой жизни, и я ничем не буду в состоянии отплатить вам за это…
– Перестаньте, пожалуйте… я вам гораздо больше обязан… После всех этих фигур, с которыми я провел целый месяц, встретил я наконец человека, какого редко найдешь и в столице. Не дадите ли вы мне каких поручений в Петербург? Кому там прикажете кланяться?
– Никому. Благодарю вас. Я умер для всех. Одно существо, которое помнит еще меня… но и его у меня похитили. Бог с ними! Я ни на кого не жалуюсь.
При этом проезжий закрыл глаза рукою, чтоб скрыть выкатившуюся слезу.
– Вы, кажется, говорили, что знакомы с г. Зембиным; не прикажете ли ему сказать чего?
– Ему? Скажите, что ему мертвый кланяется, или нет… лучше ничего не говорите.
Видя, что этот разговор чрезвычайно расстроил путешественника, Сельмин прекратил расспросы, пожал ему руку, простился и ушел. Проезжий бросился на диван и горько заплакал.
«Слава богу, – сказал он сам себе, – у меня есть еще слезы. Я думал, что уж выплакал их».
В этом-то печальном расположении духа ожидала его сцена вовсе другого рода.
Дверь комнаты его тихонько растворилась, и слуга его, Егор, едва держась на ногах, вошел, придерживаясь за стенку.
– Это ты, Егор? откуда?.. Негодяй! И в каком виде!
Егор повалился в ноги.
– Виноват, батюшка, – сказал он ему печальным голосом. – Погубили меня злодеи, напоили, и все насильно. Виноват!
– Насильно! Это на них похоже, а все-таки мудрено. Ну, бог с тобою! Ступай спать, завтра пораньше встань, найми лошадей, и уедем.
– Да, батюшка, уедемте. Здесь просто беда. Видано ли это? Насильно напоили усердного слугу! Я ведь знаю, как вы не любите хмеля, я зарок себе положил никогда не пить.
– Да, я это вижу.
– Виноват, батюшка, простите, я долго отнекивался, отбивался, да злодеи начали обливать меня… Ну, что ж, думал я, и платье испортят, и дар божий пропадет… лучше уж покориться…
– И напился.
– Вестимо, батюшка. Глупый хмель пройдет, а обливаться вином куда большой грех. Злодеи-то не понимают этого… А вы сами умный человек, рассудите…
– Зачем же ты пришел?
– Власть ваша, не гневайтесь, простите.
– Ладно, убирайся спать, да пораньше лошадей.
– Будут, батюшка. Сам припрягусь, только простите, виноват.
– Ну, бог с тобою, ступай.
– Да как же-с можно? Мне ведь надо раздеть вас.
– Не нужно. Я и сам разденусь.
– Как можно-с. Это уж обидно, я вам старый слуга! Был и в Туречине и всегда вас раздевал. Уж коли простили вину, так не обижайте; позвольте раздеть вас.
– Я совсем не буду раздеваться. Ступай.
– Да как же это можно-с! Наш брат, так этак иногда повалится с горя в платье, а барам неприлично. Нет, уж позвольте раздеть вас.
– Я тебе приказываю идти спать! – вскричал путешественник, потеряв терпение. – Хочешь ли ты слушаться меня?
Как ни пьян был Егор, а грозный голос барина образумил его; он ощупью отворил двери и, кланяясь беспрестанно, вышел. Уж за дверьми осмелился он еще проговорить: «Виноват, батюшка, счастливо оставаться». Проезжий запер дверь, бросился опять на диван и вскоре уснул.
Глава II
Он еще спал, а Егор давно уже стоял перед ним в ожидании его пробуждения.
Наконец и путешественник проснулся. Видя перед собою верного своего слугу, он улыбнулся.
– Да ты уж встал, Егор?
– Давно, батюшка, встал и вот жду, как вы изволите проснуться.
– Лучше б ты похлопотал о лошадях.
– Давно, сударь, обегал все село и пришел доложить вам, что дело худо. Видно, здешний барин очень крутой. Никто ни за какую цену не дает лошадей без его приказа. Я уж и к его милости ходил…
– Он, верно, еще спит?
– Нет, батюшка, давно проснулся и хлопочет об отъезде сынка. Он со мною обошелся милостиво, я и об лошадях сказал; он отвечал, что будут и что это уж его дело. Вот, дескать, твой барин встанет, так я сейчас и велю.
– Поди же еще к нему и доложи, что я встал и прошу о лошадях… Постой, Егор! Больше он у тебя ни о чем не расспрашивал?
– Как же-с! Он спросил, доволен ли я был, угостили ль меня, сыт ли я…
– Я не об этом говорю… обо мне что спрашивал?
– Спросил: откуда едете? Из Питера. Куда? Не могим знать. Как фамилия барина? Не велел сказывать. Где служил? В военной. В каком полку? В гвардии… Уж не знаю, много ли бы он еще задал мне вопросов, но вдруг пришел сынок и упросил батюшку: зачем-де у слуг расспрашивать, да как, да на что? Старик и замолчал. Махнул мне рукою, и я, отвесив поклон, ушел.
– Сходи же и попроси лошадей.
Егор ушел, а проезжий оделся, готовясь сделать прощальный визит хозяину и его сыну. Но вдруг Сельмин сам явился.
– Здравия желаю, любезнейший гость! – вскричал он. – Мне сказали, что вы проснулись и уж сбираетесь ехать. Послушайте: я не намерен удерживать вас, но, признаюсь, мне бы страх хотелось, чтоб вы у меня погостили день-другой. Вы мне чрезвычайно понравились, да и сын наговорил мне о вас так много хорошего. Послушайтесь доброго совета. Через час уедет Шаничка и все мои гости вслед за ним. Останьтесь со мною. Право, вы не раскаетесь. По всему видно, что вы испытали много горя на свете. Кто знает, может быть, вы найдете во мне человека, который вам в чем-нибудь будет полезен. Ну, по рукам.
– Помочь нельзя, утешить еще менее возможно. То, что я испытал и перенес, – выше всякого человеческого воображения. Но я привык уже во всем покоряться судьбе. Благодарю вас искренно за ваше ласковое предложение и с удовольствием принимаю его, потому что вижу в нем не одно любопытство, которое очень обидно иногда, но и сердечное участие, которого я давно не встречал ни от кого.
– Ну, очень рад. Останьтесь. Я вас излишним любопытством не огорчу, а может быть, дружеским участием и успокою. До свидания. Если хотите, приходите в залу к прочим гостям, а не хотите, так Шаничка сам зайдет к вам проститься.
– Позвольте мне остаться. Я не имею права сетовать на ваших гостей, но с этими господами мудрено найти разговор.
– Вы правы. Оставайтесь же, и до свидания.
Старик ушел, через несколько времени явился и сын.
– Мне батюшка объявил, что вы согласились погостить у него, – сказал молодой Сельмин, – позвольте поблагодарить вас за это дружеское одолжение, это истинный подарок для него. От всего сердца желал бы, чтоб вы с ним сошлись. Уверяю вас, что он редкой души человек. Теперь позвольте с вами проститься, и если вам когда-нибудь нужно будет что-нибудь приказать в Петербурге, то смею вас убедительнейше просить поручить мне ваши комиссии. Я почту себе за особенную честь и одолжение всякое поручение.
– Очень благодарен вам за это ласковое предложение, – ответил путешественник. – Я на своем веке слышал столько фраз, что искреннее радушие людей мне приятно. Я не воспользуюсь вашим позволением потому только, что у меня ни в Петербурге, ни во всем обширном мире нет ни знакомых ни родни, а еще менее друзей. У батюшки вашего я остаюсь потому только, что это ему угодно; но я уверен, что он в один день соскучится со мною и что я завтра же поеду дальше, а куда… Бог весть!
Они простились, и вскоре по утихающей суматохе в доме узнал он, что молодой Сельмин уехал, а вслед за ним и гурьба гостей.
Тихо вошел в комнату старый Егор.
– А что, батюшка, еще не прикажете укладываться? – спросил он, робко поглядывая на барина.
– Нет! Мы здесь останемся сегодня.
– Вот что-с. Ну, как прикажете. Меня люди звали сейчас завтракать, так я не смел идти…
– Ступай, только не по-вчерашнему.
– Как можно-с. Сегодня и им ни капли не дадут. Не на свои же они будут угощать. Да ведь я и не охоч до вина. Если б не к горлу пристали вчера, так, по мне, пропадай оно.
Он поклонился и вышел. Вскоре после него вошел старик Сельмин.
– Ну, теперь милости просим! – вскричал он. – Будьте как дома. Все разъехались, да и бог с ними. Навернулись, правда, слезы на глазах, как прощался с Шаничкой, ну, да как быть, на то и дворянин, чтоб служить. Не с отцом же сидеть за печкою. Пойдемте ко мне… Фу-ты пропасть! Мне ничего не надобно знать; да имя-то и отчество можно сказать. Неловко без них.
– И меня и отца моего звали Григорьем…
– А! Григорий Григорьевич! Очень рад. Пойдемте же. Погода славная. Я вам покажу весь мой дом, не для хвастовства – вы, может, видали и лучше, а так, чтоб узнали мое житье-бытье.
Молча последовал за ним Григорий Григорьевич (будем покуда хоть так называть его). Проходя залу, увидел он развалины завтрака, только что истребленного. Сельмин привел его в свой кабинет, где приготовлен был чай, и только что усадил своего гостя и начал ему что-то рассказывать, как вдруг тот, глядя на стену, закрыл глаза рукою и залился слезами.
– Что с вами, Григорий Григорьевич? – спросил Сельмин с некоторым беспокойством.
Тот показал ему рукою на висевший на стене портрет. Это было изображение Екатерины.
– Боже мой! – вскричал он с чувством живейшей горести. – И ее я не увижу более!
– А вы, верно, испытали тоже ее милосердие… может быть, даже служили при ее особе…
– О! об этой потере я не помышлял тогда! Глупец! я потерял гораздо более, нежели думал! Я смел забыть, что жизнь моя принадлежит ей и отечеству… Но все равно!.. Воротить нельзя… Предадимся своей судьбе.
Несколько минут продолжалось молчание. Сельмин не знал, что думать о своем таинственном госте, но, видя его в слезах пред изображением Екатерины, он еще более почувствовал к нему уважения и сострадания.
– Я обещал и не буду вас расспрашивать, – сказал он ему наконец, – но истинно соболезную о ваших несчастиях, которые вы, по-видимому, испытали, и удивляюсь только, что в случае какой-нибудь несправедливости вы не обратились к нашей милосердной матушке царице.
Путешественник склонил голову и погрузился в глубокое размышление.
– Да! вы правы! – сказал он после некоторого молчания. – Она одна могла бы спасти меня… но я и об этом забыл. Теперь кончено. Слово неизменно. Я отказался добровольно от имени, родины, от всего земного. Мне не на кого жаловаться. Мой жребий решен. Где-нибудь в темном уголку земли окончу дни свои, помогая ближнему по мере сил и возможности.
– Последняя черта обнаруживает в вас истинного христианина. Сейте здесь, пожнете там. Ну, а вы еще не выбрали себе жилища? Еще не решились, где жить?
– Нет! объезжаю покуда тихим шагом всю Россию. Где приглянется уголок, там и поселюсь.
Сельмин немножко задумался и склонил разговор на другие предметы. Потом повел он гостя осматривать дом, сад, все хозяйственные заведения и наконец предложил проехаться по полям. Проезжий повиновался, как автомат глядел на все рассеянно, отвечал без внимания, одобряя все по привычке и светской учтивости.
После дождливой ночи настал прекрасный, теплый день, какие у нас бывают иногда в сентябре под названием бабьего лета. Поля были усеяны рабочими, которые самым усердным образом торопились засевать их, пользуясь красным денечком. Вид человеческого трудолюбия и живительный воздух рассеяли несколько молчаливую тоску путешественника. Он внимательнее стал смотреть на красивое местоположение, на перелески, озера, холмы, он чувствовал, что человек никогда не может быть равнодушен к красотам природы. Мало-помалу завел его Сельмин в довольно густой лес. Дорога была чистая, гладкая и изредка поднималась на лесистые крутизны. У одной из подобных высот дорожки они остановились, и Сельмин пригласил путешественника взойти пешком. Всход на гору шел по ступенькам, искусственным образом обделанным ивовыми ветвями, и вился сквозь просеки лип, ольхи и берез. Достигнув вершины, путники увидели красивый павильон с маленьким бельведером. Живший тут сторож отпер им дверь и повел наверх. На открытом бельведере стоял мягкий диван; утомленный Сельмин бросился на него, чтоб отдохнуть. Но проезжий едва окинул взглядом открывшийся с этой высоты ландшафт, как вскрикнул от удивления и с восторгом всматривался в прелестную картину.
Что за странное чувство в человеке при виде красивого ландшафта? Покажи ему порознь все предметы: озеро, лес, гору, деревни, поля, – он равнодушно пройдет мимо них и едва обратит внимание. Но поставь его на вершину горы и покажи эти предметы в панораме, – он будет в восторге. А отчего именно? Оттого ли, что все это в самом деле красиво, или просто оттого, что он стоит на высоте? Последнее всего вероятнее. Проходя мимо каждого из этих предметов, человек видит себя таким маленьким созданием, что ему совестно. Когда же он очутится на высоте, он с какою-то гордостию видит, что, в свою очередь, все они перед ним малы и ничтожны. Ему будто хочется сказать: это все мое! Я царь природы! Увы! – человек ни на шаг без эгоизма.
Сельмин нарочно привез таинственного гостя в этот павильон. Он туда часто возил и своих провинциалов, но зачерствелые их понятия не в состоянии были постичь прелестей природы. Эстетического чувства мудрено было добиться от них. Они знали, что в озере вода, что лес идет на дрова, а в хижинах живут мужики. Чем же тут восхищаться? Насилу Сельмин встретил человека, который немым своим восторгом вознаградил хозяйское самолюбие, которое так часто терпело от равнодушия других посетителей. Он сам открыл несколько лет тому назад эту гору, эту панораму, он выстроил тут павильон, он возил туда всех своих гостей, и вот первый, который дал ему почувствовать все удовольствие открытия места и постройки павильона. Это чрезвычайно льстило его самолюбию. А кто не знает, что оно самый лучший путь к нашему сердцу? Умей только польстить – и ты умнейший в свете человек. Оскорби самолюбие – ты пошлый дурак. С этой минуты Сельмин вполне удостоверился, что таинственный гость его и учен, и добр, и знатен.
– Это восхитительно! Это несравненно! – сказал наконец путешественник, не переставая глазами пожирать прелести ландшафта.
– Очень рад, Григорий Григорьевич, что вам это понравилось. Здесь мое любимое место. Сам нашел и сам все устроил. Конечно, вы видали много и лучшего. Вы были в Турции, а там природа получше нашей…
– Все хорошо на своем месте, Петр Александрович. И в Константинополе есть прекрасные виды, но чтоб их вполне ценить, надобно…
Вдруг он замолчал, как бы спохватись, что сказал лишнее. Сельмин удивился этой осторожности и спросил:
– А вы были в Царьграде?
– Да!.. когда заключили мир… то из любопытства отпросился. Впрочем, срок был очень короток. Я почти ничего не видел.
– Жаль! А я было обрадовался и хотел пуститься в расспросы. Сам я никуда далее Петербурга и Москвы не езжал, а страх люблю слушать рассказы путешественников. Никаких книг я не читаю, да и некогда, а уж чуть появится путешествие, по ночам не сплю, и прочту от доски до доски.
– А свое отечество хорошо знаете?
Этот вопрос, несколько не политичный, смутил Сельмина. Он, заминаясь, отвечал:
– Ну, о своем что и знать? Ведь уж лучше Петербурга и Москвы нет, а остальное: дома, люди, реки, горы, – все похоже одно на другое. Что тут любопытного?
– Много, Петр Александрович… Вы вот и у себя нашли какое сокровище, а если хорошенько поискать, то нашлось бы и у других много хорошего. Поверьте, что, узнав хорошенько свое, мы бы не так хвалили чужое.
– Да ведь о нашем-то и описаний никаких нет, а о чужих краях и книг и картинок бездна. Поневоле читаешь… Да дело теперь не в том. Вам нравится это местоположение?
– Чрезвычайно. Я никак не ожидал найти здесь что-либо подобное.
– Так вот бы вам купить у меня этот павильон да поселиться в нем.
– А ваши гости стали бы приезжать смотреть на меня, как на дикого зверя? Нет! Мне надобно уединение и тишина.
– Да, кажется, очень ясно, что, купив вещь, вы делаетесь ее хозяином. Так разве можно ездить в гости к человеку, который вас не знает и не зовет! Я для того предлагаю вам эту покупку, чтоб вы могли совершенно удалиться от людей. Здесь вас никто не будет знать и видеть, и вы будете всякую минуту любоваться природою и заниматься, чем вам угодно. Что? Как вы об этом думаете?
– Вы очень добры. Не зная человека, вы хотите дать ему убежище. Что, если вы потом будете раскаиваться?
– В чем же? Хорош и ласков сосед, я его навещаю; не полюбил меня, мы не видимся. Вот и все. Мы разве мешаем друг другу? У каждого своя собственность. Никто друг другу не обязан; живет себе как хочет. Право, подумайте. Я бы недорого взял, а не понравится после, соскучитесь, возьму назад.
– Чувствую все ваше доброе расположение. Не заслужа его и не имея даже средства заслужить и на будущее время, мне совестно быть вам в тягость. Впрочем, и отказываться я не имею права. Искренность и великодушие так теперь редки; я готов принять ваше предложение, где-нибудь надо же будет поселиться, так почему же не в соседстве с добрым и благородным человеком? Моя будет вина, если я ему наскучу. Тогда я удалюсь без ропота и сыщу другое убежище.
– Никакого нет резона надоесть нам друг другу. Вы будете видеть только тех, кого захотите и когда захотите. А соскучитесь сами, уедете, и бог с вами. Так по рукам! Этот павильон и гора, на которой он стоит, с этой минуты ваши. Поздравляю с покупкою.
Приезжий молча подал Сельмину руку в знак согласия и потом продолжал любоваться ландшафтом. Наконец оба поехали обратно домой.
Весь день прошел в разговорах о будущем образе жизни проезжего в нагорном павильоне. Сельмин убедил его взять покуда это место на аренду, выговоря себе за это самую незначущую цену. Ясно было, что он только хотел щадить деликатность незнакомца, назначая за это плату. А как павильон был только построен на летнее время, то решились тотчас же приступить к отделке его и на зиму. Это требовало времени, и до окончания работ проезжий согласился оставаться в доме Сельмина, отправляясь каждый день в новое свое жилище для надзора за работами. Главною надобностию для будущей жизни проезжий почитал книги, и Сельмин в тот же день по расписанию его отправил в Москву нарочного, чтоб привезти оттуда все нужное.
На другой день началась в павильоне работа, и путешественник стал постоянно проводить свои дни, а иногда и ночи, в новом своем жилище. Когда же привезли книги и отделали павильон, то он совсем переселился туда.
В продолжение этого времени, однако же, оба лица узнали друг друга покороче и взаимно почувствовали один к другому уважение. Чем больше Сельмин узнавал проезжего, тем больше открывал он в нем величия души, благородства, познаний и доброты. И тот, с своей стороны, если не находил в Сельмине много образованности, то видел непритворную доброту и искренность. Как скоро какой-нибудь посетитель въезжал во двор Сельмина, путешественник удалялся чрез сад и отправлялся в свой нагорный павильон, но всякий день или Сельмин приезжал туда, или таинственный гость являлся к нему.
Настала и зима. Образ жизни проезжего продолжался тот же, с тою разницею, что он часто заезжал в окрестные деревни к крестьянам, которым нужна была какая-нибудь помощь. Как Егор, старый слуга проезжего, ни приучен был к молчаливости и уединению, но, заведя у себя коров, птиц и других домашних животных, он первый вошел в сношения с окрестными крестьянами и, зная доброту своего барина, пересказывал ему о разных несчастных случаях с ними. Тот сейчас же спешил подавать им помощь, и слава этих благодеяний распространилась повсюду. Мало-помалу начали к нему являться из отдаленнейших деревень за помощию, и никому отказу не было. Это подстрекнуло Сельмина. Он требовал, чтоб его собственных крестьян отсылать к нему, и проезжий повиновался, видя, что Сельмин действительно помогал каждому. Зато другой род помощи прославил путешественника. Пользуясь сведениями, приобретенными в медицинских книгах, он выписал себе из Москвы довольно порядочную аптеку и давал советы и пособия всем, страдавшим каким-нибудь недугом. Многие удачные опыты распространили его славу по всей окрестности, и всеобщее имя отец и благодетель было для него лучшею наградою. Другие полезные его занятия увеличили его влияние и всеобщую к нему любовь. Он предался агрономии и заставил большую часть крестьян отказаться от старинных предрассудков. При них он делал опыты, объяснял им пользу нововведений, улучшал их способы земледелия, и все повиновались, потому что верили ему. Мельницы, каналы, дороги – все подверглось постепенному преобразованию. Сельмин ежедневно радовался счастливому случаю, который привел этого человека к нему. Он всякий раз писал об этом к своему сыну, и тот, в свою очередь, благодарил таинственного гостя за дружбу его к отцу.
Кто же он был? Об этом Сельмин перестал наконец и думать. Всегдашнее печальное расположение духа давало чувствовать, что этот человек испытал какое-нибудь великое несчастие, но где, какое, от кого – это было покрыто непроницаемою завесою. Земская полиция добивалась до обнаружения этой тайны, но Сельмин объявил однажды им, что если кто из них хоть малейшим образом покусится беспокоить незнакомца, то чтоб не знал и дома Сельмина. А как система угощения его оставалась все в прежней силе, то никому не хотелось терять такое выгодное знакомство. Мало-помалу и это любопытство прекратилось. Все перестали заниматься таинственным путешественником, а он продолжал трудиться для всеобщей пользы и добра.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, говорили в старину, и мы должны пропустить без малейшего описания эпизодов целые пять лет. Жизнь этих людей была так однообразна все это время, что нечего сказать о ней. Проезжий решительно сделался отцом и благодетелем всей страны, и даже Сельмин всегда давал ему это название.
Расскажем лучше о случае, который произвел большую перемену в образе жизни пустынника.
Это было в конце мая. Пустынник этот день провел весь у Сельмина; к вечеру, когда он собирался домой, пошел проливной дождь с бурею, грозою, так что старик уговорил его остаться ночевать. Тот остался и поутру встал раньше всех, чтоб уехать в свой павильон. Но едва он начал одеваться, как в дверь к нему выглянула голова привратника Сельминского дома.
– Можно ли, батюшка Григорий Григорьевич, войти к вашей милости? – спросил он его.
– Войди. Что тебе надобно?
– Да у нас приключилась такая оказия… Барин еще почивает… да к нему не всегда сунешься с докладом… Не ровен час…