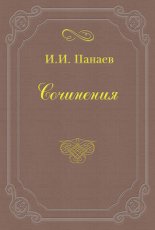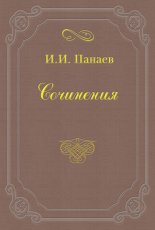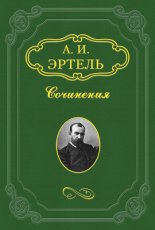Два брата, или Москва в 1812 году Зотов Рафаил
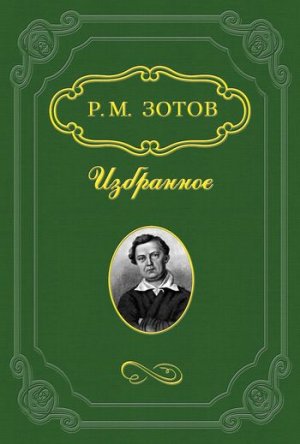
Читать бесплатно другие книги:
Роман «Боярщина», одно из самых ярких и колоритных творений Писемского, был завершен осенью 1844 год...
«Приступая к моим литературным воспоминаниям, я должен говорить и о самом себе, настолько, насколько...
«Село Долговка, ***ской губернии, **уезда, выстроено на отлогой возвышенности по левую сторону речки...
Безнравственность, постоянное нарушение Законов мироздания, жестокость людей приводит к гибели плане...
Повесть «Карьера Струкова» – последнее художественное произведение Эртеля, написанное в 1894–1895 го...
К созданию повести «Волхонская барышня» А. И. Эртель приступил после окончания книги «Записки степня...