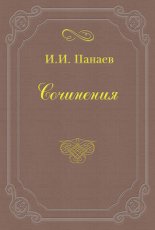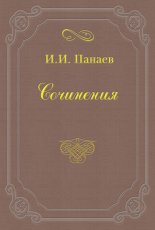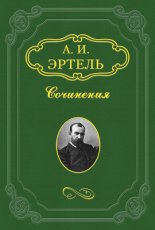Два брата, или Москва в 1812 году Зотов Рафаил
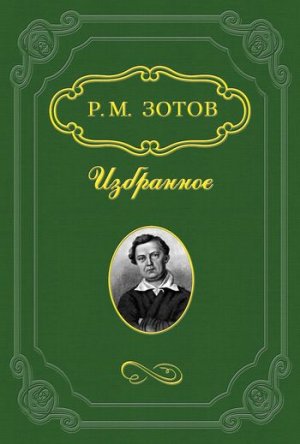
– Теперь, друзья мои, делать больше нечего, – сказал он им. – Вы должны все оставить монастырь. Я каждому из вас дам свидетельство, что только голодная смерть принудила вас покинуть свою обитель, и вы везде будете приняты… до тех пор, пока господь освободит от врагов и святую Русь, и нашу обитель.
Все приступили к нему, чтоб и он с ними удалился.
– Нет, дети мои! – с печальною твердостию отвечал он. – Чувствую, что мне и без того не долго жить… Что же значит несколько дней раньше? Нет! я остаюсь! но вы должны в последний раз повиноваться моей воле. Вы должны удалиться. Завтра священный день коронования нашего августейшего монарха. Совершив соборно последнюю литургию, проведем весь день в молитве о спасении царя и святой Руси, а ночью вы уйдете через подземный ход.
Все принуждены были повиноваться. Один пустынник, а за ним вместе и Саша решительно объявили, что не оставят настоятеля. Никто из них и не воображал, что неожиданное событие разрушит все их распоряжения.
Поутру большой колокол созвал всех прихожан к обедне.
Они пришли с многочисленною толпою. Зная, что в тот день нет никакого праздника, они догадались, что звон большого колокола означает что-нибудь особенное. Вскоре в церкви сделалась большая теснота, и французские часовые только ударами сабель могли удержать народ. Они потребовали себе подкрепление, но как полковник в это самое время уехал по делам службы к дивизионному генералу, то старший по нем и велел занять всю ширину церкви плотною шеренгою солдат.
Началась обедня, и больной настоятель, поддерживаемый братиею, громогласно объявил народу, что это последняя служба, потому что неприятели решились их уморить голодною смертию, если братия останется в монастыре, и в эту же ночь все удалятся отсюда. От этих слов произошел в народе сильный ропот и волнение. Часовые догадались, что настоятель говорил не молитвы, и тоже зашумели, требуя, чтоб он не смел обращаться к народу. А чтоб понимать речи его, солдаты потребовали себе молодого офицера из варшавского легиона, недавно прикомандированного и исправлявшего везде должность переводчика. Тот явился и, будучи очень недоволен своим назначением, сел спиною к алтарю. Между тем обедня продолжалась, но шум и беспорядок ежеминутно возрастали. Солдаты, зная, что строгого их полковника нет дома, нагло смеялись над пением и обрядами и заставляли поминутно варшавского офицера переводить возгласы настоятеля. Народ же, видя это кощунство и наглость, волновался и шумел с своей стороны.
Наступала священная минута выноса. Настоятель возгласил августейшее имя государя императора, и этою минутою враги воспользовались, чтоб оскорбить святыню и народ. Услыша наименование Александра Павловича, они вдруг громогласно потребовали, чтоб настоятель возгласил имена Наполеона и супруги его с сыном. Настоятель, не обращая внимания на дерзкие их вопли, продолжал свои возгласы и, окончив, хотел удалиться в царские двери, но несколько солдат выскочили из рядов и остановили его. Приставя сабли к груди и повернув его опять к народу, они потребовали, чтоб он непременно возгласил Наполеона. Народ взволновался, и шеренга французов принуждена была повернуться к нему, выставя острия сабель. Произошел ужаснейший крик и смятение. Над головою настоятеля блеснуло уже несколько сабель, офицер объявил ему, чтоб он для спасения жизни своей поспешил возгласить Наполеона. Тогда настоятель Гавриил поднял священный сосуд над головою, а другую руку простер вперед, требуя всеобщего молчания.
Все мгновенно повиновалось.
– Друзья и дети мои! – воскликнул тогда к народу больной архипастырь. – Помолитесь господу о мне грешном. Я же под остриями вражеских сабель возглашаю вместе с вами и со всею Россиею: Здравие и долгоденствие благоверному и великому государю нашему императору Александру Павловичу и всему его августейшему дому. Спасение и победу православному нашему воинству и святой вере над дерзким пришельцем! Смерть и проклятие врагам святой Руси!..
Это было последним его словом. Несколько сабель блеснули и вонзились в великодушного старца.[3] С судорожным стоном опустил он святую чашу, крепко прижал ее к устам своим и к груди и тихо опустился на землю. Удары продолжались на него сыпаться и вскоре прекратили жизнь его и страдания. При последнем своем вздохе открыл он глаза, умирающею рукою благословил беснующуюся толпу убийц своих и тихо прошептал:
– Господи! прости им! не ведают бо, что творят[4].
Убийство настоятеля было сигналом всеобщей ярости. Безоружная толпа народа с криком устремилась на убийц, и началась рукопашная схватка. Несколько солдат бросились было из церкви, чтоб позвать своих товарищей, но народ успел уже запереть все двери, и тогда злодеям оставалось только дорого продать свою жизнь. Саша, забыв свою рану, был предводителем всей толпы, и пустынник бросился, чтоб спасти его и отомстить за настоятеля. Но – увы! – из первых жертв отчаяния врагов пал и этот великодушный старик. Удар вражеской сабли висел над головой Саши, пустынник как молния бросился на злодея. Удар обрушился на него, и несчастный пал, обливаясь кровию. С воплем отчаяния бросился к нему Саша, но великодушный дядя, обняв его в последний раз, шепнул: «Беги! беги в подземелье. Именем матери приказываю тебе! прости и вспоминай обо мне». Разорвав шеренгу французов напором всей толпы народа, легко уже было справиться с отдельными солдатами, которым теснота мешала действовать. Сперва каждый был обезоруживаем, а потом собственным же его оружием предаваем смерти; тела убитых народ клал в виде очистительной жертвы подле настоятеля и пустынника. Вместе с Сашею отличался деятельностию и ожесточенностию староста из гостиного двора. Через четверть часа все французы пали, и староста предложил отворить дверь и силою пробиваться сквозь неприятелей, потому что снаружи уже слышен был барабанный бой, созывавший солдат, которые по крикам и запертым дверям догадались, что с их товарищами что-нибудь случилось.
Но Саша вспомнил подземелье и велел всем спешить к опускной двери. Все бросились туда с зажженными свечами. Саша и староста были последними, но когда Саша начал звать старосту, то тот очень спокойно отвечал ему, чтоб он один удалился.
– Я остаюсь здесь, – сказал мужественный купец. – Я построю над телом праведника могилу, которая будет достойна его и нас. Ступайте скорее и не оставайтесь вблизи монастыря. Бегите по Владимирской дороге. У Гончаровой найдете вы некоторых моих товарищей. Скажите там, что я уже не ворочусь, но что я свое дело сделал.
В эту минуту грянул выстрел из орудия и влетел в церковь. Не успев отворить двери, французы подвезли одно орудие и решились несколькими выстрелами уничтожить это препятствие. Саша спешил скрыться в подземелье, захватив под лестницею и свиток, а староста, сойдя вместе с ним в первый подвал, в котором несколько окон выходили на двор, вылез в одно из них, около которого не видно было французов.
Уходя из церкви, староста взял с собою кадильницу с горящими угольями и с этим странным оружием пробежал незаметно небольшое пространство, отделявшее зимнюю церковь от главной соборной. Тут с удивительною ловкостию взлез он на одно из дерев, осеняющих храм и распространяющих свои густые ветви над крышею его. Достигнув крыши, он расположился у одного из окон, которые окружали свод. Сильным ударом руки разбил стекла этого окна и просунул свою голову, чтоб посмотреть во внутренность церкви.
Внизу стояло более ста пороховых ящиков и около них с беспечностию ходил часовой. Услыша звук разбитых стекол, часовой взглянул наверх и увидел бородатую голову старосты, с любопытством осматривавшего внутренность.
– Э, э! приятель! что это значит? – закричал он ему. – Уж не ворваться ли хочешь? высоконько забрался. Оттуда ничего не возьмешь.
– Бормочи, проклятая нехристь! – сказал про себя староста. – Вот я те заставлю сделать прыжок.
Тут он уселся на крыше у самого окна и начал раздувать уголья в кадильнице; когда от них показалось маленькое пламя, он начал поддерживать его сухими веточками с дерева, близ коего сидел, и таким образом развел небольшой огонек; стоящий внизу часовой не мог видеть его занятий, но ему видно было, что бородатая голова все еще тут сидит. Он уже хотел выйти, чтоб крикнуть кого-нибудь, как вдруг сверху из окна полетели вниз пылающие сучья на пороховые ящики, и в то же мгновение показалась опять голова старосты, который с любопытством смотрел на действие своей выдумки. Часовой обомлел от страха – и бросился бежать, крича со всех сил: помогите! помогите! На крик его сбежалось несколько солдат, которые, разломав наконец двери зимней церкви, были поражены изумлением и яростию, не найдя в ней никого, кроме убитых своих товарищей. Почти знаками объяснил им часовой причину своего ужаса. Все прибежали к дверям своего порохового магазина и со страхом увидели, что бородатая голова продолжает бросать сверху горящие сучья на пороховые ящики, посматривая, скоро ли они загорятся. Все солдаты с криками ужаса разбежались – один часовой мужественно бросился между ящиками, не успевшими прогореть, и начал разбрасывать пылающие ветви.
– Проклятый басурман, – сказал староста, – постой же… я тебя погрею; тут он снял с себя кафтан, потом рубашку и, зажегши ее, бросил пылающую сверху. Часовой не мог разглядеть, что именно было брошено, но он видел в воздухе целую массу огня, летящего вниз, и, с воплем отчаяния ухватясь за близстоящий ящик, решился тут умереть. Действительно, горящая рубашка обхватила один ящик… прошла ужасная полминута, которая казалась и старосте и часовому целою вечностию, и вдруг струя дыма взвилась кверху, церковь зашаталась, раздался оглушающий треск, стены раздались и с грохотом опрокинулись на воздух, производя жалобный неявственный звон, весь монастырь превратился в развалины, посреди которых стонали раздавленные французы.
Саша и монахи успели в это время выбраться из подземелья и бежали к ближайшей роще. Некоторые бродящие французы, увидя их, бросились было за ними в погоню, но земля заколебалась, раздался оглушающий взрыв, и вся окрестность покрылась летящими каменьями и пылью. Саша первый догадался тогда, зачем староста остался, и продолжал бежать по направлению Владимирской дороги. Вскоре, однако, рана его и утомление принудили его остановиться. Он просил всех, чтоб они оставили его и продолжали путь, но большая часть осталась для охранения его.
Впрочем, все вскоре увидели, что в эту минуту опасно было идти далее, – ужасный взрыв встревожил все французские корпуса. Отовсюду были видны скачущие отряды; все спешили к развалинам монастыря; все бросились отыскивать несчастных своих соотечественников и ужаснулись зрелища, которое им представилось. Не только люди и члены их были на куски разорваны, но даже самые кости были раздавлены силою удара и тяжестию, на них упавшею, Только немногие кончали еще жизнь в жесточайших мучениях, но их напрасно расспрашивали… Бессвязные ответы их ничего не сказали. Русские… подожгли порох.
Вот все, что можно было узнать. Нашли наконец и труп старосты, ужаснейшим образом изуродованный и держащие еще в одной руке кольцо паникадила, а в другой – медный крест, висевший на шее. Тем и кончились все розыски.
Уже в сумерки пустились опять в путь Саша с своими товарищами и, идя вдоль опушки леса, наткнулись к утру на казачий пикет. Их опросили и пропустили далее. Чем далее теперь они шли, тем чаще попадались им русские отряды, и беглецы должны были всем рассказывать свое положение. Это утомило Сашу. Он кое-как достал себе телегу, купил офицерскую шинель и фуражку и, простясь с своими товарищами, отправился во Владимир.
Там хотел он отдохнуть и докончить лечение своей раны, но весь город был завален московскими выходцами. Не было ни квартиры, ни даже продовольствия. Только успел он купить себе полную офицерскую одежду и в этом виде, надев свой драгоценный крест, поехал далее, расспрашивая везде о местопребывании русской армии.
Через два дня езды он почувствовал, что рана его разболелась и лихорадка снова вступает в прежние свои права. Это его испугало. Остановясь в одном селе, прилегающем к богатой усадьбе, он послал спросить помещика, не может ли он принять к себе на одни сутки раненого офицера. Вместо ответа сам помещик прискакал верхом и самым радушным образом звал к себе Сашу. После нескольких фраз благодарности Саша поехал с ним и был принят с отверстыми объятиями.
Помещик этот был капитан Иван Васильевич Воинов. Молодость свою провел он, по тогдашнему московскому обычаю, по гостям. Когда он дожил до законного тридцатипятилетнего возраста, то ему сосватали московскую барышню, имевшую тысячу душ, что и составило с его именьем более двух тысяч. После этого каждый догадается, что они жили весело и пользовались всеобщим уважением. Главная усадьба их была между Владимиром и Калугою. В Москве же был каменный дом на Мясницкой.
Уже 5 лет прошло, как Иван Васильевич был отцом семейства. У него было четверо ребят; жена его была молода и прекрасна, мужики ее были зажиточны; поля давали всегда благословенный урожай; в лесах было много дичи и зайцев, на сворах у него была целая стая отличнейших гончих и борзых… Одним словом, он был самый счастливый человек! В начале лета быв приглашен предводителем дворянства во Владимир, он очень удивился, когда услышал там манифест об ополчении и узнал о мерах, принятых Москвою для отражения неприятеля. До этой минуты он даже и не знал, что Наполеон вступил в Россию. Принимая к себе почти ежедневно деревенских своих соседей, он однажды навсегда объявил им, что терпеть не может газетных разговоров, а потому он только вскользь слышал о войне с французами. Впрочем, и воротясь из Владимира он недолго занимался политическими новостями. Крестьяне были сданы в ополчение, и все пошло по-прежнему. Каково же было его изумление, когда он вдруг узнал, что Москва взята! Это известие решительно ошеломило его. Сперва он не верил тому, но беспрестанные беглецы из Москвы уверили его наконец в печальной истине, потом дошел до него слух, что Москва горит, и он с прискорбием почесал затылок. Ведь у него был дом на Мясницкой! С тех пор он прилежно занялся политикой и каждый день выезжал на большую дорогу, чтоб узнать от проезжих, далеко ли французы. Он уже начинал побаиваться и за свою усадьбу.
Приезд Саши был для него истинною находкою. Офицер, раненый, бежавший из Москвы!.. Он был в восторге и почти на руках принес его к своей Софье Ивановне, прямо в спальню. Та сперва испугалась, потом смутилась, потом удивилась, а наконец успокоилась. Саша начал извиняться по-французски за себя и за Ивана Васильевича, а против французского языка нельзя было устоять… Софья Ивановна редко его слышала. Благоверный супруг ее учился, правда, смолоду у какого-то мусье, но это было так давно, что он позабыл все, что знал. А знал ли он что-нибудь и тогда? – осталось тайною между ним и мусье. Кое-как выжила Софья Ивановна нежданных гостей из спальни и отправила в гостиную. Тут начались расспросы, и такие, что Саша часто и не знал, что отвечать. Иван Васильевич был просто дитя природы, дюжий, высокий, здоровый, веселый, но, по общественным познаниям, принадлежавший к веку допотопных людей.
– Кто этот Наполеон? правда ли, что он антихрист? Правда ли, что скоро будет преставление света? правда ли, что Москва загорелась от дыхания Наполеона? правда ли, что с ним пришли какие-то чудовища, у которых по семи голов и по сту рук, – и тому подобное.
Саша кое-как отделался от него общими фразами, на которые Иван Васильевич всякий раз восклицал: скажите пожалуйста! Наконец пришла Софья Ивановна, успевшая надеть шелковое платье розового цвета, в котором она 5 лет тому назад делала визиты. Тут Саша отдохнул и снова обратился к ней с французскими фразами. Это было несколько досадно Ивану Васильевичу, но делать было нечего. Надобно же было и жене доставить наслаждение, которого она так давно была лишена. Притом же он чувствовал, что русские его вопросы будут худо клеиться к французскому разговору, а как он всегда уверял, что понимает по-французски, только-де сам не может говорить, то и вслушивался рассеянно в быстрый разговор жены своей с Сашею. Наконец, однако же, немая роль ему наскучила: он придумал очень умную штуку. Покуда жена его тут, так надо притворяться знающим французский язык и потому надобно было удалить ее.
– Послушай, Сонечка, – сказал он ей очень ласково. – Куда же мы поместим нашего милого, дорогого гостя?
– Да, я думаю, всего лучше в диванную, друг мой, – отвечала жена.
– Ну, так ты бы похлопотала, похозяйничала… Вели девкам приготовить все как следует…
– Помилуйте, Иван Васильевич! – вскричал Саша. – Разве можно беспокоить Софью Ивановну? Я никак не соглашусь… Я уеду… Вы и так приняли меня самым дружеским образом. Я не знаю, как благодарить вас… Отведите мне где-нибудь темный уголок… Я солдат – мне ничего не надобно. Я спал и на биваках – на сырой земле, а под головою – бревно…
– Ah, mon Dieu! – вскричала Софья Ивановна, и разговор между ними опять продолжался по-прежнему на французском диалекте.
Видя, что невинная его хитрость не удалась, он придумал другое. «Пусть же теперь болтает с ним жена, а я заберусь к офицеру, когда он пойдет в свою спальню. Там уж он от меня не увернется. Да и жена туда не придет». Так он подумал и, не сказав ни слова, сам пошел хлопотать о помещении Саши.
Когда Софья Ивановна осталась одна с гостем, разговор сделался живее и откровеннее. Софье было 24 года; перед нею был прекрасный молодой офицер, раненый и с крестом. Сколько причин, чтоб смотреть на него самыми нежными глазами. И Саша, с своей стороны, был не застенчив на взгляды и нежности. Он даже решился спросить ее: каким образом судьба могла соединить такую прелестную и образованную женщину с человеком, который так далек от нее во всем! Она покраснела и пожала плечами. Тут он рассказал ей о вопросах, которые Иван Васильевич ему сделал, и Софья чувствовала, что Саша прав.
Не более четверти часа был Иван Васильевич в отсутствии, и в это время какая-то симпатия уже очень близко соединила сердца Софьи и Саши. Они еще ничего не говорили друг другу о внезапных своих чувствах, но оба догадывались, что чувства эти взаимно разделяются… Отчего бы, кажется, так скоро? Ведь это почти неестественно!.. Извините!
С одной стороны, уединенная деревенская жизнь, молодость и врожденное кокетство, а с другой – французский язык непременно должны были произвесть это действие.
По возвращении мужа Софья Ивановна, как бы из жалости к нему, заговорила по-русски, и словоохотливый Саша с живостию и быстротою рассказал все свои подвиги от Бородина до взорвания монастыря. Мужу более всего понравился крест Саши. Он с уважением подошел к нему и поцеловал.
– Счастливый молодой человек! – сказал он с чувством. – Рука Кутузова дала вам этот крест, и это дело великое.
– О! я получу гораздо более! – с легкомысленностию отвечал Саша. – Дайте мне только вылечиться и приехать в армию…
– Кушать пожалуйте! – возгласил в это время дворецкий, и хвастливость Саши окончилась.
Разумеется, он сел подле Софьи Ивановны. Тут начался опять французский язык, который Иван Васильевич со скуки запивал вином, потому что был философ, тогда как Саша был в глазах его плохой офицер, потому что мало ел и еще меньше пил.
После обеда Иван Васильевич имел прекрасное русское обыкновение отдыхать часика два, и сколько мы ни уважаем нашей доброй старины, сколько ни готовы следовать ее правилам во многих отношениях, но решительно должны объявить, что нет на свете ничего вреднее, как спать после обеда такому человеку, у которого жена молода и хороша собой и у которого в гостях молодой, интересный офицер. Конечно, есть люди, которым само небо покровительствует, и на этот раз Иван Васильевич был в этой категории, но на это нельзя всегда полагаться.
Позевав в конце обеда самым чувствительным образом, Иван Васильевич отправился из-за стола спать, а Саша, несмотря на свою усталость и болезнь, пошел с Софьей Ивановной гулять по саду.
Очень жаль, что мы не можем следовать за разговором этой гуляющей четы. Читатели и читательницы, верно бы, не утомились им; но как же в русскую книгу ввести французский разговор! это несообразно! А перевести – еще хуже. Вся тонкость фраз, вся нежность выражений, вся соль острот пропадут в переводе. Даже иные обороты показались бы дерзкими, наглыми по-русски, тогда как под покровом французской любезности они проходят неприметно. Скажем только, что Саша говорил очень много и очень мило, а Софья Ивановна много вздыхала и часто краснела; что сперва они ходили и говорили, а потом сидели и молчали; что сначала они гуляли по саду, а наконец расположились в отдаленной беседке.
В это время Иван Васильевич спал сном невинности. Дюжая дворовая девка отмахивала от барского лица мух, следственно, он очень мало заботился о разговоре жены с Сашею.
Когда же он проснулся и оделся, то пошел искать их по саду.
Софья Ивановна, как умная жена, услышала массивные шаги своего мужа за полверсты и спешила к нему с милым своим гостем навстречу. Иван Васильевич рассказал им сон, который только что видел, и просил Сашу, как ученого человека, растолковать ему тайный смысл сновидения. Когда же тот, смеясь, объявил, что не учился этой науке, то тот с некоторым неудовольствием сказал: «Так чему же вы обучались другому?»
Вскоре стали съезжаться к Ивану Васильевичу соседи. Они уж узнали о счастливом его приобретении, и Саша должен был со всеми знакомиться и повторять рассказы о своих подвигах, пожаре Москвы и своем бегстве. Все дивились, ахали и были в восторге от молодого героя.
В этих приятных занятиях прошел вечер, и Саша шепнул наконец Софье Ивановне, что он намерен уйти в свою комнату, чувствуя чрезвычайное утомление и некоторую лихорадку. Тотчас же все было улажено, и все общество, уважая покой бородинского победителя, простилось с ним самым трогательным образом и проводило его в назначенную ему комнату. Иван Васильевич не мог и на этот раз остаться с Сашею, чтоб хорошенько его обо всем расспросить, и ушел опять в залу к гостям, с которыми возобновил всегдашнее прение о домашнем хозяйстве и псовой охоте. Тут Иван Васильевич был в своей сфере, и приговоры его принимались со всем уважением, приличным помещику, имеющему с лишком 2000 душ.
Саше смертельно хотелось спать, но любопытство его было еще сильнее всех телесных страданий и утомления. В котомке его, с которою он ушел из подземелья и сухого колодца, захватя сверток и деньги, лежала тайна неоцененного его дяди, и ему поскорее хотелось прочесть эту рукопись. Еще не раздеваясь, вынул он ее, сел к столу, и спешил распечатать… Но при первом взгляде, брошенном на черты, писанные почтенною и благодетельною рукою страдальца, глаза Саши наполнились невольными слезами. Ему живо представилась вдруг картина внезапной и ужасной его смерти, вся сцена кровопролития и мести над телом его… Невольный страх пробежал по жилам его; голова его закружилась, он готов был лишиться чувств. Поток слез облегчил его. Он взглянул на образ, висевший в переднем углу, встал, набожно помолился, с почтением поцеловал рукопись и положил ее опять в свой чемодан. Сам же начал раздеваться.
Тут только заметил он живое существо, стоявшее в углу. Это была горничная, откомандированная для услуг Саше. Она с любопытством смотрела на немую сцену, происходившую перед нею, и ничего не понимала.
– Что ты, душенька? что тебе надобно? – спросил ее Саша.
– Ничего-с! – отвечала она. – Прикажете помочь?
По этому Саша догадался, в чем дело. Ему еще в первый раз случилось иметь женского камердинера, но он видел, что надобно сообразоваться с обычаями места. Он позволил спокойно раздеть себя и улегся в мягкий пуховик.
Давно не пользовался он хорошею постелью. Эта роскошь казалась ему теперь истинным наслаждением, и он спешил вполне им насытиться. Прежде чем горничная успела все прибрать и расставить, он уже спал самым глубоким сном. С любопытством взглянув на него, она спросила тихо, в котором часу поутру прийти. Ответа не было.
Глава VI
Долго ждал Иван Васильевич на другой день пробуждения Саши, но тот, вероятно, не заботился об этом, он спал богатырским сном. И горничная несколько раз уже заглядывала к нему в спальню, а Саша все спал; даже сама Софья Ивановна начала беспокоиться о нем и как будто нечаянно подходила к полурастворенной двери, она видела только прелестного юношу, погруженного в самый сладкий сон, и, сколько могла судить по лицу его, прекрасному и цветущему, он был совершенно здоров. Впрочем, простояв несколько минут в этом созерцании, она почувствовала необыкновенное биение сердца и принуждена была уйти. Наконец он проснулся и долго смутными глазами осматривал свою спальню и сельский ландшафт, видный из окна. Сон его был так глубок, что он долго не мог собрать мыслей и вспомнить, где он. Горничная прежде всех услышала его движение и явилась с вопросом: угодно ли ему вставать или прикажет подать кофе, не вставая.
– А что, – спросил Саша, – разве все в доме встали?
– Помилуйте, – отвечала горничная, – обедать собираются…
Саша вскочил и посмотрел на часы. Действительно, был уже 12-й час, а это в деревне значит очень поздно.
– Что ж ты меня раньше не разбудила?
– Как же я смею!.. И барин и барыня приходили сюда уж несколько раз, да не будили вас.
– И Софья Ивановна?..
– А! Любезнейший Александр Иванович! – вскричал громогласно Иван Васильевич, войдя в эту самую минуту. – Пора вставать! Вы уж спите по-московски… Ну что, здоровы ли? Хорошо спали, почивали?.. Что вы тут Дуньку спрашивали о жене? Не нужно ли вам чего?
– Покорно вас благодарю, любезный Иван Васильевич… Я спрашивал… Я думал, что еще не все встали.
– Э, дорогой гость! Мы с женою встаем в семь часов, а я так и раньше… Я уж пропасть дела переделал… Был даже на большой дороге, расспрашивал проезжих… Вот до чего довел меня проклятый француз… Политикою, батюшка, занимаюсь…
– Ну, что ж вы нового узнали?
– Да, слава богу, ничего! все по-прежнему. Москва горит, неприятель грабит, а Наполеон стоит на месте… Видно, бог не допускает его идти дальше… А уж куда бы горько было расставаться со здешнею усадьбою… Все, батюшка, сам устроил, сам сад развел, сам пруды выкопал, сам мельницу построил… И вдруг все бы это пришлось самому зажечь и уйти…
– Кто же принудил бы вас зажечь?.. Это делали иные помещики и крестьяне по Московской дороге, но никто этого не приказывал…
– Уж такая русская натура… Да что ж вы, батюшка, Александр Иванович, не встаете? Дунька! подай барину халат, туфли…
– Да мне при вас совестно… Позвольте мне одеться… Я сейчас к вам явлюсь…
Иван Васильевич расхохотался.
– Уж какие же вы церемонные, господа москвичи! Да кабы меня положили спать на кремлевской площади, я бы преспокойно стал при всех раздеваться… Полноте, Александр Иванович! хотите, я вам помогу?..
– Нет, уж сделайте одолжение… Вы знаете, я человек раненый и боюсь малейшего прикосновения к ране…
– И то правда! виноват!.. Смотри же ты, Дунька! не задень как-нибудь… Не то, боже сохрани… Ну, так одевайтесь же, бог с вами… Мы с женою будем вас ждать в гостиной.
После этих слов он ушел, а Саша спешил заняться своим туалетом и чрез четверть часа явился к хозяевам. Софья Ивановна ожидала его за чайным столиком; он подошел к ручке и сказал ей французское приветствие, сравнивавшее ее с солнцем. Хорошо, что она не вспомнила в эту минуту, что был сентябрь, а то сравнение было бы не совсем лестно.
Через миг поступил он еще легкомысленнее, поблагодаря ее за милое беспокойство о нем и за посещение его во время сна. Софья Ивановна вспыхнула и обратила на него умоляющие взоры. Он понял свою глупость и замолчал.
Впрочем, и она, в свою очередь, привела его в затруднение. Горничная рассказывала ей о ночной сцене Саши со свертком бумаги, над которым он плакал, и спросила его, что это значит. Саша вспыхнул и отвечал, что это завещание погибшего его дяди, которое он еще не имел силы прочесть, потому что слишком живо чувствовал понесенную им потерю.
– А нельзя ли, батюшка, нам прочесть? – простодушно спросил Иван Васильевич. – Я ужасно люблю этого рода сочинения… Печатного я ничего не читаю, но завещания и тяжбы – страсть моя…
– Извините, Иван Васильевич!.. В этом завещании заключается семейная тайна, которую я не в праве открыть…
– А! дело другое! секреты не мое дело… Разве вот жена будет любопытствовать, так уж вы с нею ведайтесь…
– Все, что мне принадлежит, я готов положить к ногам Софьи Ивановны, но эта тайна не моя, и я не имею права.
Софья Ивановна спешила уверить Сашу, что вовсе не любопытна, и для убеждения в этом тотчас же дала другое направление разговору.
Но теперь надобно было употребить всю свою любезность, чтоб заставить Сашу разговориться. Воспоминание о дяде повергло его в такую печаль и уныние, что он на все отвечал сквозь слезы.
Когда отпили чай, Иван Васильевич решительно овладел Сашею и повел его по хозяйственным заведениям своей усадьбы. Тот принужден был повиноваться, и тут-то вопросы сыпались на него, как град. Долго Саша довольствовался односложными ответами, но мало-помалу разговорился и любезностию своею очаровал Ивана Васильевича… Саша так мало знал что-либо по части домоводства и сельского хозяйства, что, в свою очередь, удивлялся глубоким познаниям своего хозяина и видел, что, кроме светской образованности, есть еще предметы, которых знание приятно и полезно.
Деревенский обед обыкновенно бывал в первом часу, но, в угождение Саше, приказано было на все время его пребывания обедать в два часа, и когда они воротились, то съехавшиеся гости давно уже истребили со злости несколько закусок, внутренно сокрушаясь, что их заставляют так поздно обедать. Саша должен был снова рекомендоваться всем, и на этот раз дело было гораздо затруднительнее, потому что съехалось множество дам, дев и девиц. Вся окрестность уже узнала о появлении раненого красавца, – так его прозвал Иван Васильевич, – и любопытство дам было возбуждено в сильнейшей степени. Все взоры были устремлены на Сашу и перебирали его по частям. Экзамен был строгий, но зато и торжество было редкое. Все единодушно признались, что он просто прелесть.
Софья Ивановна видела торжество Саши и сама более всех торжествовала. Конечно, во весь день, при зорких гостях своих, она была очень осторожна с Сашею, но иногда взгляды их встречались и говорили больше, чем самые длинные фразы.
И в этот день Саша не успел заняться чтением рокового завещания дяди. Когда гости разъехались, то Саша был опять так утомлен, что вынул, посмотрел драгоценный сверток и вновь положил его, заплакав. Дунька все это опять видела и пересказала барыне, а та, как дочь Евы, сгорала от любопытства.
На следующее утро Саша встал уже раньше. День был воскресный, и все собрались к обедне. Саша отправился с Софьей Ивановной; но едва он вошел в церковь, едва услышал первые звуки божественной службы, как ужасная картина смерти дяди живо представилась его воображению. Он зарыдал и вышел из церкви. Софья Ивановна последовала за ним и старалась успокоить его; все было напрасно. Саша плакал неутешно и ушел домой, чувствуя, что он не в состоянии выстоять обедни.
Придя в свою комнату, он невольно вынул таинственный сверток и, глядя на него, опять зарыдал. Несколько минут продолжалось это печальное состояние, наконец он успокоился и, желая воспользоваться своим уединением, принялся читать.
Глава VII
Мой журнал
17.. года, 6-го апреля.
Я сегодня читал очень интересную французскую книгу. В ней герой повести ведет журнал всей своей жизни. И это не простой перечень событий, нет! это рассуждения, впечатления, чувствования. Все так естественно и верно. Кажется, на каждом шагу узнаешь сам себя и окружающих людей. Я решился непременно вести такой же журнал. Под старость он будет очень для меня занимателен… Если ж у меня будет потомство, то для него может быть и поучителен… Я это говорю не потому, чтоб воображал себя образцом нравственности… Нет! Ошибки и заблуждения других всего вернее действуют на нравственность людей, тогда как сухая мораль очень скоро наскучит. Живи свято, говори поучительно, тебе никто не поверит. Но сделай несколько проступков, все пожалеют о тебе и скажут: вот чего надо избегать!
А что же? забавная вещь описывать самого себя. Может ли быть человек искренним? не будет ли он облагораживать всех своих чувств и поступков, которых источник иногда и двусмысленный? Прещекотливая задача!.. А все-таки буду писать. Попробую быть совершенно искренним к самому себе. Что за беда, что мои потомки (если они будут!) сомнительно покачают иногда головою, читая мой журнал… Ведь это случится не раньше, как после моей смерти! При жизни же рассказ мой будет моею тайною.
Правда, что и после смерти не хотелось бы, чтоб меня осуждали, но ведь я человек и должен ошибаться на каждом шагу так же, как и другой.
Что же за беда, что ошибки мои будут известны после моей смерти?
Злых же и подлых дел я, верно, не делаю. Я иногда опрометчив, вспыльчив, но в этом состоянии духа можно только наделать глупостей. Низости и злость всегда действуют обдуманно. До этого я не дойду. Даже самые мои дневные записки будут меня охранять от двусмысленных поступков. Я буду знать, что в тот же день принужден записать мои мысли, ощущения и дела, и это часто остановит меня. Итак решено! я сегодня начинаю свой журнал.
Я! Кто же этот я? молодой повеса, живой, веселый, говорят, довольно умный между мужчинами и любезный между женщинами. Мне 22 года, я офицер гвардии, богат, везде принят, всеми любим! Следственно, по-видимому, самый счастливый человек… Но как никто еще в свете не был вполне доволен своею участию, то, кажется, и мне чего-то недостает. Чего-то!.. Странное слово! Всякому недостает чего-то, а чего именно, этого и сам никто не знает. В мои годы, разумеется, всякий скажет: а! ему недостает любви! извините! ошиблись! я раз пятнадцать был влюблен… И теперь волочусь за двумя… Обе прелесть, совершенство! и, кажется, обе меня любят… А все-таки мне чего-то недостает.
Моралисты все-таки повторяют: любви, любви семейной! То есть, по-вашему, господа, жены! Фи! при этом слове всякая мысль о любви пропадет. Я столько видел дурных браков вокруг себя, что слово жена заставляет в одну минуту термометр моего воображения опуститься на точку замерзания. Я всякий раз был до тех пор только влюблен, покуда мне не сватали предмет моей страсти. Женитьба должна быть ужасное дело… Я любезничаю со всеми женщинами, и все они премилые создания, но только не с мужьями; попробуйте поговорить с которою-нибудь из них об ее муже и взгляните на нее… Тотчас же вся физиономия переменяется… Из любезной и милой женщины выйдет сейчас прекислое лицо, прежалкое создание, вялое, скучное, maussade! Одним словом, это уже будет жена! То же самое бывает с мужчинами, которые вступили под знамена Гименея. Все они до тех пор в обществе милы и умны, покуда не заговорили с ними о жене. Тут сделается вмиг самое неприятное превращение, и чем мужчина искреннее, откровеннее, тем перемена ужаснее. Эпитет муж – самая злая насмешка во всех отношениях… Нет! я, верно, никогда не женюсь. Да и к чему? наш знаменитый род имеет представителем старшего моего брата Ивана. Пусть он заботится о продолжении нашего родословного древа. В нем, кажется, есть все качества, нужные для этого. Он, кажется, родился на то, чтоб быть мужем… Вечно серьезен, хладнокровен, угрюм, всем недоволен, кроме самого себя!.. Настоящий муж! Впрочем, что-то и ему не хочется протягивать шеи под брачное иго. И ему сватали много хорошеньких, – не хочет. «Я хочу жениться по страсти!» – отвечает он. Чудак! Страсть к жене! Это два слова, взаимно противоречащие друг другу! Ну, да, впрочем, какое мне дело! Ведь это он только все хочет быть моим ментором, а я, верно, не возьму на себя этой роли… Добрые наши родители! вас уж нет! Вы слишком рано оставили нас! Вы одни могли быть нашими менторами… О! как я вас любил! Зачем тогда мне не пришло в голову писать моего журнала! Он был бы наполнен искреннею любовью к вам… С каким удовольствием прочитывал бы я теперь собственные свои рассказы о счастливых днях молодости!.. Молодости!.. как будто я уж сделался стариком… Ах, нет! не стариком, а сиротою. И вот, кажется, чего-то мне недостает! Любви! но любви родительской! Теперь я один в мире… У меня есть брат, есть родственники, друзья, знакомые, любовницы, но что все это противу одного ласкового слова, взгляда доброй моей матери и нежного отца? Итак, мой журнал начат. Что ж я сегодня сделал? Да то же, что всякий день, то есть ровно ничего. Был на ученье, обедал в гостях, видел одни и те же лица, говорил одни и те же фразы. Ел, пил, танцевал и вот в полночь воротился, чтоб лечь спать. Кажется, что я затеял вздор… Что я буду писать в своем журнале? Если те же происшествия и мысли, какие были сегодня, то можно заранее написать целый год. А ведь в самом деле странная жизнь! неужто мы ничего не делаем! неужели журналы всех людей были бы пустые страницы? А кажется, что так.
Увидим! теперь первый мой день кончен, записан, спокойная ночь!
7-го апреля.
Опять полночь! опять сижу за журналом, и опять писать нечего. Ну, что ж? разве я виноват? не создавать же мне происшествий?.. Постой! записать разве разговор мой с Лизой Вельской… Вот больше 2-х недель, как я волочусь за нею, что ж? Это существо такое милое, воздушное, розовое, веселое, душистое, остроумное… Кто бы вообразил себе!..
Лиза Вельская кокетничает по расчету, и по какому же варварскому? Ей хочется сделаться скучною, тяжелою, темно-коричневою, – одним словом, женою! Просто ужас!.. Я с нею танцевал сегодня и утопал в прекрасном, голубом, сладком ее взоре! Что за глаза! что за выражение! Никакая поэзия не придумает сравнения! Вечность и блаженство!.. Она устала, локоны ее немножко развились, – и она пошла в гостиную, чтоб посмотреться в зеркало… А кто знает, может быть, она пошла и за тем только, чтоб я за нею шел… Признаюсь, сердце у меня немножко билось сильнее обыкновенного, когда я подкрался к ней и поцеловал руку, поднятую над головою, чтоб приколоть цветок.
– Как вы меня испугали, – сказала она, а взгляд ее выражал вовсе не испуг, но одну любовь. – Зачем вы пришли?
– Зачем вы ушли? – отвечал я. – Без вас разве можно прожить хоть одну минуту.
– И, полноте! к чему мадригал? сколько раз вы его сегодня повторяли?
– Кажется, я сегодня от вас не отходил ни на шаг.
– Ну, так вчера, третьего дня… Признайтесь… Ведь вы всем говорите одни и те же нежности… А все-таки многие вам верят…
– Поверьте только вы — и я счастлив.
– Вот тут-то и ошиблись… Я никогда не поверю такому ветренику. Пойдемте в залу.
Тут она мне подала руку, которую я осыпал поцелуями, и не пошел, а удвоил свое красноречие и страстные объяснения. Она слушала, краснела, рука ее дрожала, глаза выражали любовь… Вдруг послышался шум, и она вмиг превратилась в настоящую официальность.
Мы воротились в залу, опять начали танцевать, глаза наши опять начали прежний разговор. Я посадил ее потом в кресла, стал позади и продолжал свое объяснение. Она все слушала и долго не отвечала. Я настаивал. Наконец она обернулась ко мне и сказала почти сквозь слезы:
– Если все, что вы говорите, не простая шутка, не обыкновенный бальный разговор, то обратитесь к maman… Я от нее завишу… Впрочем, она не будет противиться нашему счастью.
Меня обдало страхом, морозом. Видно, я уже в самом деле слишком много наговорил любезностей или уже женский инстинкт везде ищет брачных истолкований… Вероятно, я сделал преглупую фигуру, только слова замерли у меня на губах, и я стал похож на школьника, которого учитель поймал в какой-нибудь шалости… Оба мы замолчали… Но я вскоре почувствовал, что молчание мое – и глупость и обида. Я несколько ободрился и сказал самым дипломатическим образом, что непременно воспользуюсь прелестным ее позволением, как скоро дела мои позволят приступить к этому. Лиза не отвечала ни слова, подозвала какую-то знакомую девицу и, сказав с нею слова два, схватила ее под руку и ушла. А я… я, разумеется, не подходил уже к ней во весь вечер. Ведь придет же в голову такой хорошенькой сделаться матроной! Чепчик, дети!.. – вот перспектива! Нет! Слуга покорный! Обращусь теперь к Аннете Сицкой. Она вечно смеется над чепчиками.
10 апреля.
Вот три дня, как я не писал, да и нельзя было… Столько дел по службе! сделали адъютантом. Добрый Громин вспомнил дружбу отца моего и выпросил меня к себе в адъютанты. Генеральс-адъютант – да это очень мило! В мои лета очень завидный чин! Все стали ко мне еще ласковее. Это невольно рождает во мне мысль, что и прежде меня любили не за то, что я добрый малый, а что богат. Очень неприятная мысль для моего самолюбия! Ну, да так быть! если уж люди таковы, так мне их не переделать.
Как-то теперь я справлюсь с своим журналом! Вечера я обязан проводить у своего генерала и вставать гораздо раньше его. Тут, право, иногда не до журнала. А все не брошу. Буду писать хоть через день, через… Одним словом, когда свободно и когда что-нибудь особенное случится… теперь смерть спать хочется.
12 апреля.
Какая скука! Брат Иван целые два часа читал мне проповедь. Делать нечего! он старший, и надо было молчать… А презабавно было смотреть на его недовольную физиономию, которая от нравственных разговоров сделалась еще длиннее. Мои товарищи по службе уверяют меня, что будто бы ему страх досадно мое внезапное повышение. В самом деле, с чего взял Громин взять меня к себе в адъютанты, а не брата? Он лучше меня и службу знает, и письменные дела. Впрочем, мне брат Иван ничего не говорил о своем неудовольствии, напротив, первый меня поздравил и прочел маленькую нотацию, как вести себя в новом моем звании. Сегодня же бранил меня вовсе за другое, и хоть это прескучная была история, а он прав. Дело было из-за глупого моего объяснения с Лизою Вельской. Та рассказала своей маменьке, а маменька отпела брату. Тот принялся за меня! Хорошо еще, что я не слишком струсил, а то брат так вот с ножом к горлу и пристает: женись да женись на Лизе! Ты ей объяснился в любви, следственно, как благородный человек, не мог иметь другой цели, кроме женитьбы… Вот мило! У меня тут никакой цели не было. Я всегда видел, как это делают другие, и вот уж года три, как сам повторяю эти уроки… Может быть, это и нехорошо, но разве я виноват, что наш век так испорчен… Да мне кажется, если б я подошел к какой-нибудь даме с таким серьезным лицом, какое всегда бывает у брата, так она бы захохотала прямо… Я уж раз 50 объяснялся в любви, и никто не принимал моих слов за сватовство. Все они говорили, что я шалун и больше ничего. Вольно же Лизе Вельской принимать так серьезно. Ей вдруг вздумалось искать производства из дев в дамы, а я виноват. Нет! впредь буду осторожнее! на этот раз отделался головомытьем, в другой раз… пожалуй, и в самом деле заставят жениться.
15 апреля.
Мой журнал делает скачки, и что ж за беда! вчера и третьего дня я бы и мог записывать, да нечего было. Ел, пил, был на службе и лег спать, – это вовсе не интересные статьи. Вот сегодня дело другое. Есть о чем порассказать, и не столько моим современникам, как потомкам (ведь какие-нибудь да будут же!). Я был во дворце, в большом собрании у императрицы! Я еще весь в чаду, в восторге! Я сам себя не помню от радости и удивления. Я часто бывал на выходах и видал нашу матушку царицу, всегда восхищался, всегда радовался при виде этой великой монархини, но я все еще не видал ее… А сегодня… Добрый мой Громин!.. это он выпросил мне такую милость! расхвалил меня и заслуги моего отца. Государыня позволила ему представить меня во время большого вечернего собрания. Нет! Я не в силах рассказать! Мысли не слушаются, не одеваются в форму слов… Как беден человек с своим вседневным лексиконом! Что он может выразить? То, о чем голове не стоит и думать. А сильные порывы чувств, а высокие ощущения, а восторг?.. На это он не придумал выражений и никогда не придумает. Что ж я расскажу?.. Я видел Екатерину!.. Разве ее не видят миллионы народа… Нет! досадно! больно! не умею, не могу рассказать. Вечер у царицы! Кто б не думал, что тут в вытяжку и натяжку, что все должны ходить по струнке, на цыпочках?.. Боже мой! Да тут мне показалось гораздо меньше церемоний, нежели у последнего вельможи. А впрочем, очень естественно. Вельможа хохлится и надувается, потому что гордится мнимым или действительным своим значением, а императрице для кого и для чего быть гордою, неприступною? У кого есть равные и высшие, тому простительно надуваться, чтоб сравниться… Но Екатерина!.. Где ей равные?.. Добрая, несравненная царица! Она принимала своих подданных, как радушный деревенский помещик своих соседей… Она о каждом заботилась, со всяким говорила, а уж кому слово скажет, тот, разумеется, на целый год счастлив. И я!.. мне она сказала: «Очень рада вас видеть! Ваш отец был очень достойный человек! Мне приятно будет найти его опять в сыне. Навещайте меня иногда! Я всегда вам рада!..» Вот слова ее! но я написал только мертвые буквы, одни только фразы! А тот вид, тот взгляд, тот голос, та улыбка, с которою она это говорила… разве возможно это передать? А это-то именно и составляло всю неизобразимую прелесть, все величие!.. Нет! я просто без ума! я расцеловал руки у своего генерала, когда мы возвращались из дворца, и мой детский восторг казался ему естественным. Добрый старик сам был до слез тронут. И ему что-то сказала императрица, так милостиво, так ласково, что он был еще в чаду… Нет! полно писать! я не в силах. Лягу и буду мечтать… Язык беден, перо глупо… Одно воображение может еще помирить меня с моими ощущениями.
18-го апреля.
Со дня моего представления ко двору все сделались еще ко мне ласковее. Иной бы принял это на свой счет; но я не так самолюбив… Один брат Иван все недоволен мною. На этот раз я верю, что ему должно быть досадно. Младший брат принят ко двору, а старший должен принимать всеобщие поздравления по этому случаю. Конечно, Иван слишком благороден, чтоб завидовать, но нельзя же не иметь ему никаких идей. Я сам чувствую, что это несправедливо. Чем я его лучше? ничем. Он во всем меня превосходит… Неужто за то, что я весел, говорлив, остер и повеса, меня все любят больше, нежели его? Да это, право, странно! Конечно, в обществе нельзя быть с вечно серьезным и недовольным лицом, не должно быть молчаливым и угрюмым, неловко быть нравоучительным и важным; но если человек так рожден, нельзя же его за это ненавидеть. Мне грустно, когда общие наши приятели подсмеиваются над ним. Бедный брат! Мне жаль тебя! Свет к тебе несправедлив. Ты гораздо лучше меня.
20-го апреля.
Большой обед у Громина. Сколько было народу! Сколько было мне хлопот! Странная обязанность! Я адъютант, так должен всех угощать и обо всех хлопотать! А особливо около женщин эта обязанность претрудная… Впрочем, я сделал много приятных знакомств… Меня все приглашали к себе… Варя Зорова взглядывала на меня раза два самым значительным образом… Чудо девушка! Я беспрестанно около нее вертелся… Прощай, Вельская! Я буду волочиться за Варенькой. Верно, она не такая привязчивая.
25-го апреля.
Каково! целую неделю не писал! хорош журналист! Если б я издавал свои записки, то мой читатель успел бы состариться в ожидании следующего номера. Я ужасно был занят всю эту неделю. Обед, вечер, обед, бал, завтрак, собрание… Голова кружится… Время летит так, что и не видишь… Особливо Варя Зорова заставит всякого забыть, что на свете есть время. Какая миленькая!.. Все на нас лукаво посматривают и улыбаются… Впрочем, я стал гораздо осторожнее… Больше говорю глазами и руками, нежели языком… однако полно писать, пора спать.
30-го апреля.
Я сегодня целый день провел у брата. Вчера я с ним встретился, и мне совестно стало, когда он мне напомнил, что мы с ним две недели не видались. Самому на себя досадно! как это я мог забыть брата! а все Варя Зорова… Брат меня опять очень серьезно допрашивал: не хочу ль я жениться на Лизе Вельской, выхвалял мне ее качества, связи, богатство, но я ему признался, что влюблен в другую. Это его удивило, даже рассердило. Он мне что-то много говорил о ветрености, неосторожности, испорченности нравов, и я дал ему все высказать, мечтая все это время о Варе… кажется, он заметил мою рассеянность, потому что сказал что-то о проповедывании в пустыне.
– Намерен ли ты искать руки этой Зоровой, своей новой страсти? – спросил он у меня наконец, и я очень сконфузился от этого вопроса. Я ему откровенно отвечал, что мне и в голову еще не приходила мысль о женитьбе.
– Однако надо же этим кончить, – сказал он.
Тут я вывернулся очень остроумным образом, сказав ему, что не намерен жениться прежде старшего брата, что он должен мне прежде подать пример и что я буду руководствоваться тогда его советами и примером.
– Хорошо же, – отвечал он. – Помни свои слова. – Тут он отошел от меня.
Что ж значат эти слова брата? Мне уж что-то страшно становится; неужели он в самом деле хочет жениться? Я бы очень рад был за него… Он и теперь строг и серьезен и недоволен, как муж. Ну, а я! Если он и меня захочет принудить… Ей-богу, страшно!.. А вот узнаю, выведаю. Нет ли у него в самом деле какого-нибудь волокитства. Прелюбопытная вещь! Брат Иван влюблен! Да я расхохочусь, глядя на это. Такой Катон, цензор, ментор… Он, я думаю, будет читать все нравоучительные речи своей любезной… Постой же, любезный мой наставник! Подкараулю! Ты меня так напугал. А что, если несчастье доведет меня до того, что я… Ведь Варя Зорова, право, мила… Почти можно бы решиться… Нет, нет! лучше лягу спать.
3-го мая.
Что я узнал!.. Я думал, что мне будет смешно, а, право, становится страшно… Брат Иван нечаянно познакомился с каким-то семейством, приехавшим из Москвы… граф Туров… который что-то отыскивает, о чем-то просит… Ну, я и не расспрашивал… но главное-то в том дело, что у него есть дочка… зовут ее Верочка… и вот эта дочка привлекает, говорят, моего Катона. Признаюсь, я вовсе не любопытен, а хотелось бы посмотреть на эту московскую красавицу, тронувшую железное сердце моего брата. Или уж она так пламенна, что подле нее мог оживиться и серьезный мой ментор, или она такая же холодная и серьезная, как он, – и последнее вернее. Французская пословица говорит: qui se ressemblent, s'assembent.[5]
4-го мая.
Как это глупо! Я любопытен, как женщина. Меня в самом деле мучит мысль: как бы посмотреть на предмет страсти моего брата. А на что мне это? Неужто я буду смеяться, глядя на их церемонную любовь? Какой вздор. Если они довольны и счастливы друг другом, то мне какое дело? Меня, конечно, беспокоят слова брата и упрямая его охота женить меня. Но ведь в самом деле не принудит же он меня насильно стать под венец. Советов его я могу слушаться во всем, но из простого угождения к его матримониальной идее не навяжу же я себе обузы на шею. Пусть он женится. Он старший в роде, и генеалогическое древо Зембиных процветет его заботливостию. А я – пусть я останусь весь век мальтийским рыцарем, чтоб сражаться с неверными. Любопытство же мое увидеть Веру Турову, вероятно, происходит от участия, которое я принимаю в судьбе брата. Притом надобно же мне и познакомиться с будущею моею belle soeur (как, бишь, это по-русски?).
5-го мая.
Я виделся опять с братом и просил его познакомить меня с графом Туровым. Он отказал мне.
– Я вижу, что ты, повеса, все узнал, – сказал он мне. – За это я и не познакомлю тебя с этим домом, покуда между нами не будет все кончено, а то ты мне, пожалуй, все дело испортишь. Семейство такое почтенное, девушка такая тихая, скромная… Если они увидят тебя да послушают, что и я такой же ветреник… Нет, мой милый! покуда ты не будешь посолиднее, я тебя не введу в дом.
– Вот мило! – отвечал я. – Да если ты скоро женишься, так я не успею и остепениться. Как же мне после того быть у тебя шафером, не видав ни разу твоей невесты.
– Ну, это дело еще не так скоро сделается. Мы только что успели познакомиться… Дела же графа еще не устроены… Я взялся хлопотать о них, и, покуда все это не кончится, я не могу свататься.
Таким образом, моя попытка не удалась… Я не увижу этой провинциалки. Впрочем, я угадал, что это за существо. Уж если брат мой называет ее тихою и скромною, то это должен быть автомат – или притворщица в высшей степени. Оба качества очень не лестны. Мое любопытство начинает простывать… Да и дело не так опасно, как я воображал себе. Процессы не так скоро кончаются, так и речь о свадьбе, верно, протянется год-другой. А в это время мало ли что может перемениться? Может быть, оба они догадаются, что женитьба – дело самое глупое…
Глава VIII
На этом месте помешали Саше. Хозяева воротились от обедни и явились прямо к нему в комнату. Начались расспросы, соболезнования, советы, похвалы чувствительному его сердцу… При этом любопытные взоры Софьи Ивановны уже давно открыли таинственную рукопись, над которою Саша плакал по вечерам, – и она под видом искреннего участия, скрывая свое любопытство, сказала ему, что непременно украдет у него сверток, потому что чтение это слишком его расстраивает. Саша испугался этих слов и поспешно спрятал свою рукопись, уверяя, что, напротив, это чтение совершенно успокоит его. После этого все оставили комнату Саши и присоединились к прочим гостям, которые уже собрались.
Рассказывать ли о ежедневном житье-бытье Саши у Ивана Васильевича? Один день походил на другой, как две монеты разного чекана, но одного достоинства. Или гости у Ивана Васильевича, или он в гостях и, разумеется, вместе с Сашею, который сделался любимым героем всей окрестности. Его почти на руках носили. Женщины были от него без ума, а особенно Софья Ивановна. Она как тень за ним повсюду следовала и употребляла все женское искусство, чтоб овладеть его сердцем. С тех же пор, как она открыла, что у него есть таинственный сверток, нежность ее еще более усилилась, так что бедному Саше решительно нельзя было приняться за чтение. Только по ночам успевал он иногда прочесть несколько страниц – но такова слабость человеческой натуры! – как ни интересен был для него журнал дяди, а сон всякий раз заставал его на третьей странице. Еще страницу он крепился, преодолевал, но далее природа брала свое, и манускрипт укладывался под подушку.
Чтоб не наскучить читателям беспрестанными остановками, какие встречал ежедневно Саша, мы поместим лучше сряду весь журнал. Эпизодически же происшествия, случившиеся с Сашею у Ивана Васильевича, мы расскажем после.
Продолжение журнала
10-го мая.
Удивительное дело! Я очень влюблен в эту Варю Зорову, – а мне страшно говорить ей нежности. Хотя я по всему вижу, что она их ждет, требует, но после происшествия с Лизой Вельской я сделался гораздо осторожнее. Того и смотрю, что мне скажут – женись! Нет! Я подожду брата. Посмотрю, как-то он выпутается из этой бездны премудрости.
Пять дней я не принимался за журнал. Уж не надоедает ли он мне, неужели я такой непостоянный человек, что не могу ничем серьезно заняться? Я очень доволен собою. Только, разбирая строго это самодовольное чувство, иногда приходит в голову, что все это одна молодость и легкомыслие… У меня пропасть друзей, – но в самом-то деле нет ни одного друга, нет существа, на которое я мог бы положиться, которое решилось бы для меня на все жертвы. Потом есть у меня множество премилых девушек, за которыми я волочусь, которым твержу заученные фразы, перед которыми готов стоять целые часы на коленях, чтоб получить один поцелуй, – но если б хоть одной из них вздумалось, как Лизе Вельской, предложить мне себя в жены, я убежал бы. Что ж все это значит? Дружба! любовь! Ведь это не пустые слова… Нет! я чувствую, что мне все-таки недостает и друга и любви… Но где ж их взять? как отыскать? чем приобресть? Когда подумаешь серьезно, так поневоле придет в голову мысль, что едва ли не сам я виноват, что у меня нет ни того, ни другого. Кто всех равно любит, тот почти никого не любит! Кто сам ни к кому не привязан на жизнь и смерть, тот и не стоит ничьей привязанности. Значит, это я! Очень печальная мысль. Надобно об этом подумать серьезно.
14-го мая.
Вот новость! вот презабавный случай. Вчера звали меня на вечер к князю А. Он часто бывает у Громина, но никогда не обращал на меня внимания, хоть я и очень усердно услуживал ему. Только с тех пор, как я был в собрании у императрицы, он изредка говорил мне: здравствуйте, г. Зембин, а вчера наконец даже удостоил сказать: bonjour Mr. Zembine! и потом, обратясь к Громину, прибавил: что вы его никогда не привезете ко мне? Вот хоть завтра пожалуйте! Нам нужны танцоры, а такой ловкий человек… Громин дал за меня слово, а я, разумеется, раскланялся, расшаркался и несколько раз повторял: vos ordres, mon Prince![6] Таким образом, я сегодня и отправился с моим генералом. Народу бездна! Огонь и золото ослепляли глаза, шарканье оглушало, от комплиментов вяли уши, от красавиц разбегались глаза, от тесноты трещали ребра, от танцев не слышно было ног под собою… И прелесть и ужас! Я уже привык к этим праздникам, но у князя все было в огромном размере… и все церемонно донельзя. Неужто здесь думают веселиться, в этой толпе, важно расхаживающей на ходулях этикета и самолюбия? к чему весь этот вечер? зачем собрались все эти люди?.. Если мне будет время, я когда-нибудь напишу об этом длинную статью, в которой поумничаю вдоволь, а теперь некогда.
Хозяин меня заметил и, взяв за руку, подвел даже к княгине и рекомендовал. Она кивнула мне очень важно, однако же осмотрела очень ласково с головы до ног. Когда же я уходил, то явственно слышал, что она сказала мужу: il n'est pas mal.
Потом заставили меня танцевать. Я знал, что в подобных собраниях танцуют не для удовольствия, а напоказ. Это просто работа; я очень чинно выделывал все па и очень ловко соблюдал все правила танцевального этикета. Около меня собрался кружок зрителей, и все расхваливалименя очень хладнокровно, как хорошего английского бегуна. Мое искусство имело очень выгодные последствия. Сама хозяйка ангажировала меня на следующий танец, и я с честью выдержал это вторичное испытание. Только все гости осыпали похвалами, разумеется, не меня, а княгиню, а я подтвердил всеобщее мнение, осмелясь сказать его ее сиятельству. Мой комплимент был принят очень милостиво, и с той минуты меня замучили. Хорошо еще, что у меня очень усердные ноги и неизменные силы. Я перетанцевал со всеми и от всех получил приглашения. Наконец произошел интервал, и мне позволили отдохнуть. Пошли смотреть фейерверк, а я пошел по залам смотреть на прочие фигуры гостей. В других комнатах гости занимались картами. Это одно из тех наслаждений человеческой жизни, которое, как любовь, сравнивает все состояние и которое заставляет забыть все человечество и природу. Может быть, придя в известные лета, я тоже полюблю это занятие, но, признаюсь, я питаю какое-то отвращение от карт… Я с любопытством смотрел на эти зеленые столы, около которых сидели люди с глубокомысленными физиономиями. Каждый углублен был в созерцание бумажных четырехугольничков, как будто в рассматривание заветных тайн природы. В это время в саду, перед самыми окнами игорной залы, горел, блистал, трещал, кружился чудесный фейерверк, а они, эти картежные алгебраисты, не удостоили ни разу и взглянуть на него. Кажется, если б случилось и землетрясение, они попросили бы окончить сперва свою пульку, чтоб заняться потом своею безопасностию… Я, однако, зафилософствовался о картах, а мне еще много остается написать и рассказать. Обходя все эти столы, я нашел своего доброго генерала. Ему кто-то рассказал о моих бальных успехах, и он, взяв меня за руку, сказал, что я далеко пойду в свете! (как будто, кроме танцев, ничего в нем и не надобно!). Я поблагодарил его и пошел было далее… Вдруг вопрос одного из лиц, игравших с Громиным, остановил меня.
– Как вы назвали этого молодого человека? – спросил он у Громина.
– Зембин, мой адъютант и славный малый, – отвечал мой генерал.
– Я очень хорошо знаком с одним Зембиным; тоже молодой человек… Иван Григорьевич.
– Это мой брат, – отвечал я, подойдя к говорившему.
– А! в самом деле! очень рад! что ж это он меня не познакомил с вами?.. Сидя здесь за картами, я о вас так много хорошего наслышался… к вашему генералу поминутно приходили и расхваливали вас… Называли, правда, Зембина… но я знал, что моего знакомца здесь нет, так и не расспрашивал… Теперь только, взглянув на вас, заметил какое-то родственное сходство и решился узнать… Пожалуйте, прошу познакомиться… Я человек заезжий, москвич, провинциал… Мы люди простые, но радушные… Вы, верно, нас полюбите…
– Помилуйте! Я поставлю себе за честь заслужить, – и прочее, что в этих случаях говорится… Дело кончилось тем, что я обязался к нему явиться завтра… Кто же это? Это был граф Туров! Вот удивится завтра мой брат, увидя меня у своего будущего тестя!
Я отошел от них и долго думал о странном стечении обстоятельств… Почему именно меня пригласил к себе князь? почему случился тут и этот граф Туров? почему он именно сидел за одним столом с Громиным, к которому я должен был подойти? Сиди он с другими, я целый год ходил бы мимо и не узнал об его существовании… Впрочем, мне физиономия его понравилась. Что-то доброе, патриархальное… Я непременно поеду к нему… Но мои похождения еще не все. Важнейшее остается.
Все возвратились с фейерверка и решились еще протанцевать до ужина. Я было ускользнул и ушел опять в игорную залу, но меня отыскали и потащили; княгиня велела мне опять танцевать и назначила даму. Я повиновался. Во время этих танцев я заметил молодую девушку, не очень блистательно одетую, но довольно недурную собою, которая очень пристально на меня посматривала. Это всегда очень лестно для самолюбия молодого мужчины. Я, с моей стороны, раза два тоже отпустил ей пламенные взгляды и с некоторою досадою видел, что она не только на них не отвечает, но, кажется, и не замечает. Когда же я не смотрел на нее, то она украдкою опять на меня поглядывала. Это подстрекнуло мое любопытство. По окончании танца я следил за нею глазами и увидел, что она идет в игорную залу. Я за нею. И что же? Она подошла к тому столу, где был Громин и Туров, поцеловала графа и жаловалась, что очень жарко. Я подошел к Громину и рассказал о последних танцах. Это его, конечно, не интересовало. Но у меня была другая цель, и я тотчас же достиг ее. Граф Туров, увидя меня, вскричал:
– А! вы опять здесь! очень кстати! Вот прошу познакомиться и с моею дочерью, – тут он меня отрекомендовал ей, как нового знакомца и брата ежедневного их гостя.
– Я уж узнала об этом, папа, – сказала она. – Я услышала фамилию Григория Григорьевича, увидела фамильное его сходство и спросила… Мне все рассказали…
– Сейчас видна девушка… Любопытство – ваша первая добродетель… Ну, да я рад… Вот тебе кавалер для танцев… Брат его такой степенный человек, что не любит ни балов, ни танцев. Это имеет свою хорошую сторону, но не всегда…
После этого мы отправились вместе с нею в танцевальную залу; я ангажировал ее, и все бросились смотреть на нас. Конечно, знатные дамы, которые до этой минуты удостоивали танцевать со мною, с сомнительным видом осматривали мою графиню с ног до головы, но по окончании танца сделали нам, однако, несколько комплиментов. Вскоре пошли ужинать, и я предложил графине мою руку. Она равнодушно приняла ее и, когда я ей откланивался, сказала мне: до завтра!
После ужина еще были танцы, но Туров уж уехал с дочерью. Вот наконец я воротился с бала и едва слышу под собою ноги; кажется, целые сутки буду спать… А все-таки хотелось записать все, что случилось… Однако же сон не на шутку клонит… Что-то будет завтра?
19-го мая.
Я опять целые пять дней не писал своего журнала… Отчего это? И сам не знаю… Прошлый раз я остановился на визите, который мне надобно было сделать графу Турову. Ну что ж? я был, и, кроме самого старика, все прочее показалось мне очень скучным. Брат мой как с облаков упал, увидя меня, но когда я ему вместе с графом рассказал о бале, бывшем накануне, то он успокоился. Молодая графиня вышла только к обеду, и брат тотчас же завладел ею. Меня приняла она очень холодно и церемонно… тем лучше. Я занялся разговором со стариком и почти не смотрел на нее. Она сидела подле брата и так равнодушно с ним разговаривала, что можно бы было подумать, что они давно женаты. Презабавная будет пара! Мне даже жаль брата. Он холоден, важен, серьезен, но это одна наружность, одни принятые правила, а внутри, я знаю, что он сильно и глубоко чувствует. Если он ее действительно полюбит, то я ему предсказываю очень жалкую участь. Он не растопит этой льдины, а разве себя вконец заморозит… Ну, да это не мое дело. Я полюбил старика и буду часто к нему ездить.
Вот я уж с тех пор еще два раза был и, кажется, тоже понравился старику… Он, правда, слишком много мне рассказывает о своем процессе, но как быть, надобно всегда с терпением слушать рассказы стариков.
Все эти дни я делал тоже визиты тем знатным дамам, которые со мною танцевали на последнем бале. Все они очень милы, ласковы, и взгляды их много обещают… Но я боюсь потерять Варю Зорову… Она, кажется, меня ревнует. Она слышала о моих бальных успехах и с тех пор немножко на меня дуется. Она даже иронически сказала мне, что я уже, вероятно, не захочу теперь опустить взоры свои до нее… Неужели она в самом деле в меня влюблена! Чтоб мне и тут не попасть, как с Вельской.
21 мая.
Опять я был во дворце. Был бал по случаю тезоименитства внука императрицы, и я был в числе приглашенных. Это редкая милость. Я опять обязан ею Громину… Он же мне сказал, будто дамы, с которыми я танцевал у князя, расславили меня у двора. Как бы то ни было, но я был самым счастливым человеком. Со мною опять говорила императрица; чувства мои слишком полны… Я не в силах описать их.
24-го мая.
Сегодня был опять у Турова. Он уж слышал о моем счастии на придворном бале и дружески был рад. Я ожидал, что хладнокровная моя belle soeur будет у меня расспрашивать о танцах при дворе. Не тут-то было! Она даже не спросила меня, весело ли мне было. Конечно, брат Иван беспрестанно с нею… но она и с ним не говорливее. Что за автомат!
Родятся же подобные существа.
24-го мая.
По просьбе Турова должен был я провести у него целый день. У него были гости, и он мне откровенно признался, что хочет меня им показать. Хоть и не очень лестно быть, как французы называют, une bte curieuse, но для доброго старика я рад все сделать. Собрание было не блистательное. Все деловые люди… Все толковали о процессе Турова и, сколько я мог понять запутанные фразы этих господ, дело его идет плохо. Жаль старика! А милая дочка? Она сегодня была понаряднее обыкновенного и для гостей, кажется, развернулась… Со всеми разговаривает, шутит, любезничает… Я ее не узнал. Впрочем, догадываюсь, в чем дело. Меня почитала она не гостем, а будущим родственником, перед которым не нужно принимать на себя маску. Тем лучше! Так при мне она была в настоящем своем виде… Признаюсь, самая бедная натура… Искусство гораздо лучше. На месте брата я попросил бы ее всю жизнь притворяться.
Вечер кончился очень скучно. Все дельцы сели за карты и даже усадили моего брата. Я остался один с любезным автоматом и наперед знал свою участь… Впрочем, она и для меня решилась сделать маленькое усилие… Занялась со мною музыкой, и мы кое-как протянули часа два… Я и сам был не очень любезен. Рад, рад, как пришел брат, окончив свою игру. Сдав ему с рук на руки графиню, я откланялся и уехал.
Что за чудеса со мною делаются! Я сделался стряпчим. Даже самому смешно. А делать нечего, – все для милого старика. Посмотрим, что-то я сделаю.
30-го мая.
Я уже был у княгини А. Она очень ласково меня приняла и обо всем расспрашивала. Кое-как высказал ей, что имею до нее важную просьбу, – и подал записку. Жаль, что я в эту минуту не мог видеть в зеркале лица своего… Верно, у меня была преглупая фигура. Я думал, что княгиня отделает меня всею своею важностию; я уже посматривал на дверь, в которую мне надобно было ретироваться. Каково же было мое удивление, когда она очень ласково отвечала: «Хорошо! оставьте у меня записку и заезжайте послезавтра; я вам скажу, могу ли я вам в чем помочь».
Я от радости бросился целовать руки ее, и она этим не оскорбилась, а сказала:
– У этого графа очень миленькая дочь…
Тогда я ей откровенно объяснил тайные планы моего брата.
– Вот что: – сказала княгиня, внимательно выслушав мой рассказ. – А я думала, что вы за себя хлопочете. Вы ведь с нею танцевали у меня на бале?
Я рассказал ей нечаянность моего знакомства. Она была очень довольна моею откровенностью, позволила еще раз поцеловать свою руку и отпустила меня, сказав: до послезавтра. Туров был обрадован, когда я ему рассказал все (разумеется, кроме планов брата). Он со слезами на глазах благодарил меня. А за что? Увидим! На третий день я опять отправился к княгине. Она меня приняла в своем будуаре и была очень мила. Приехав за делом, я чуть было не забыл о нем, глядя на прелестный ее неглиже.
– Поговоримте сперва о делах, – сказала она, улыбаясь самым прелестным образом. – Вот ваша записка. Она переделана и переписана. Вы взялись за очень мудреное дело… Но, кажется, есть еще средство поправить его. Вот вам записка от меня к графине Д.; поезжайте от меня прямо к ней и велите сказать, что я вас прислала. Она у вас возьмет вашу записку и назначит, когда явиться за ответом. Будьте с нею смелее. Застенчивость – всегда худая рекомендация просьбе. Она очень любезная женщина и имеет много веса. Если найдете в ней какие-нибудь причуды, то повинуйтесь им. Это будет верный выигрыш.
Тут она протянула мне ручку, и я, поцеловав ее, хотел откланяться; но она меня удержала, сказав, что теперь рано и что не прежде как через час я могу ехать к графине, а до тех пор чтоб я остался у нее.
Этот час пролетел как миг… Княгиня была такая милая и снисходительная женщина.
Я просто влюблен в нее…