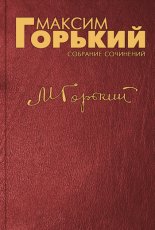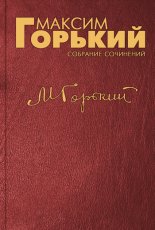Жизнь – вечная Горбачева Наталья
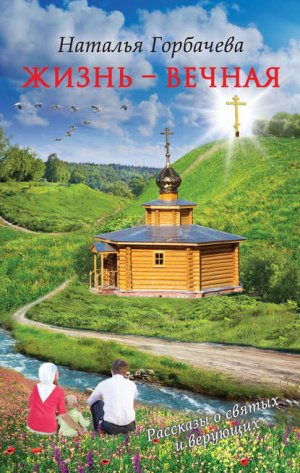
И юность ушедшая все же бессмертна.
Как молоды мы были,
Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя!
Потом мы выпили по рюмочке, и мое настроение вроде выровнялось.
— Ты не переживай! — похлопала по моему плечу Ирина Васильевна. — Папа Римский сказал, что советские фильмы хороши тем, что: а) не несут никакой революционной идеи и б) почти все добрые. Вот, давай в этом же духе!
— Про папу-то откуда знаете?
— «Узнаю я их по голосам, звонких повелителей мгновенья», — пропела Ася.
— Голос Америки, что ли? — спросила я.
— А как же, — улыбнулась Ирина Васильевна. — Я учила историю. Она повторяется. Или лучше так: ничего нет нового под луной. Вам повезло жить в культурной столице нашей необъятной родины. А нам, знаете ли, на краю земли культурные новости самим добывать приходится. И вот что… Пока еще наши фильмы добрые, но скоро лавочка прикроется. Будет «Все на продажу!», как подметил великий Анджей Вайда. И любой бездарь сможет оправдаться: я так вижу, я так понимаю…
— Не будет у нас такого никогда! — возразила я.
— Все проходит, и это тоже пройдет, — улыбнулась Ирина Васильевна.
Ирина Васильевна как в воду глядела. Во ВГИКе трудно было определить, каков размер и качество наших талантов. Некоторые всю жизнь доказывают, на что способны. Перестройка мощным катализатором таланты проявила. Почти все наши богемные оказались в нужном месте в нужный час, как комсомольские вожаки. Быстро выяснилось, что многие из них под гамбургским счетом подразумевали все-таки лицевой счет… в Гамбургском банке. Один из наших богемных придумал умопомрачительный слоган «Не тормози — сникерсни» и стал мэтром рекламы. Другие замутили бесцензурную «чернуху» и «порнуху» на экране… Сначала, может, было и стыдно. Но потом, встав на ноги и почувствовав запах, силу и власть денег, они справились с этим рудиментом морали… И давай соблазнять всех подряд!
— И что самое ужасное… — уныло сказала я, — наша Капа внушает детям: вы гении, гении, гении! Тоже соблазняет. Они и рады! Я до ВГИКа мехмат окончила, там не поболтаешь, как на сценарном, задачки надо решать, а для этого матчасть зубрить.
— Ну вот тебе и карты в руки! — воскликнула Ирина Васильевна. — Надо тебя отправить на Сахалин, там посмотришь, как красную рыбу ловят, и напишешь про то, что увидишь. Не тридцать седьмой год, не расстреляют. Знаешь про тридцать седьмой?
— Ну так… слышала, — ответила я. — Слышала от умных людей. Это правда?
— Правда, образованщина ты наша… Читала Солженицына?
— «Ивана Денисовича»… В «Новом мире» печатали. Сильно, конечно…
— Слава Богу, хоть так. Если напишешь талантливо, Натуля, найдется режиссер, обязательно, — улыбнулась Ирина Васильевна. — Тема, я тебе скажу, пионерская. Пионер означает что?
— «Тверже ногу. Четче шаг. Юных ленинцев отряд!» — засмеялась я.
— Фи, как пошло. Пионер от французского pionnier, — с прононсом произнесла она, — первопроходец.
— Мам… На что ты ее подбиваешь! — вступила подруга. — Не морочь девочке голову. И как она на Сахалин попадет? У нее нет пропуска, это закрытая зона, забыла?
— Подумаем, — ответила Ирина Васильевна. — Безвыходных ситуаций не бывает.
— Натуля, попала! — вздохнула Ася.
— Не понимаю твоего скепсиса! — вскочила из кресла Ирина Васильевна. — Человек почти восемь тысяч верст отмахал, а до края земли не доедет! Обидно же!
— Пропуск надо было в Москве заказывать, поезд ушел! — воскликнула Ася.
— Летайте самолетами Аэрофлота! — с загадочным лицом потерла ладони Ирина Васильевна. — Мы Натулю пока во Владик отправим. К ежовой группе прикрепим. Пусть отдохнет…
Но именно теперь мне никуда не хотелось ехать. Потому что у Аси и Ирины Васильевны была целая библиотека дореволюционных и самиздатовских книг — лежали себе в шкафу и ничего не боялись. Бывает же такое! А я привыкла думать, что за такой «рассадник нелегальщины» могут посадить. Невозможно было прочесть и малую часть библиотеки, но хотя бы поговорить по душам с настоящим историком — для меня это было важнее просмотра самого что ни на есть «закрытого» фильма в Доме кино…
И начались наши «исторические вечера». Особенно хотелось почему-то узнать про русских царей. Про гегемона уже знали. Какими наши цари были в действительности — со всеми их венценосными достоинствами и недостатками, карикатурно раздутыми коммунистической пропагандой. Советская школа нарисовала в моей голове образ царя примерно таким: самодур, хорошо, если не жестокий, любитель балов и красивых женщин, душитель свободы, вообще — черная дыра… А если так, то и призыв Ленина — каждой кухарке научиться управлять государством — не кажется таким уж бредовым. Как в этом мире все связано и завязано… Если неправильно подумаешь тут, неправильный вывод сделаешь там, неправильно поступишь здесь, неправильно научишь другого, неправильно поймешь чью-то мысль… А если это ежедневно? Страшно! Надо было приехать на Дальний Восток, чтобы чуть ли не физически почувствовать незнакомый страх… А если мы вообще не так живем? Стоило ли ехать за восемь тысяч километров, чтобы потерять душевный покой?
— Не выйдет из меня ничего. В голове пусто и бесперспективно, — однажды сказала я с отчаянием за традиционным вечерним чаем.
— Да Бог с тобой, Натуля! — спокойно отреагировала Ирина Васильевна и ласково посмотрела мне в глаза.
— Я не понимаю теперь вообще, как жить дальше!
— Очень просто: день за днем, день за днем… У тебя совесть есть?
— У меня? — переспросила я. — Не знаю…
— Мам, ну что ты такое говоришь! — воскликнула, защищая меня, Ася. — Есть у нее совесть!
— Ну… — рассмеялась Ирина Васильевна. — Тогда все в порядке, дорогие мои, любимые девчонки, — и крепко обняла нас.
И спела песню Окуджавы:
Совесть, Благородство и Достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь как человек.
Нет, она спела какую-то другую песню, потому что эта тогда была еще не написана… Мы с Асей все равно поняли: совесть должна стать главным цензором нашей жизни. Ирина Васильевна говорила что-то и про веру в Бога, но мы тогда в этом вопросе были первоклашками. На нас больше пока воздействовала литература художественная, говорившая о расплывчатом разумном, добром и вечном. Это был необходимый этап. Потом только, напитавшись словесным молоком литературы художественной, приступила я к твердой духовной пище — писаниям святых отцов. Все они были согласны в том, что совесть — естественный нравственный закон, вложенный Богом в сердце человека при творении. Но если человек не живет по заповедям Божиим, не испытывает и не очищает в покаянии своей совести, сохранить ее не сможет. И тогда совесть перестает быть благим цензором. Но это отдельная тема…
Десять вечеров провели мы втроем в задушевных беседах, которые таинственным образом снова на несколько градусов повернули вектор моей жизни в направлении к Богу. Если бы не Ирина Васильевна, не знаю, сколько бы еще мне пришлось блуждать и заблуждаться.
Голова «распухла» от новых жизненных понятий и ничего больше не вмещала. И тут, как по мановению чьей-то воли, беседы наши вдруг прекратились. Будто тумблер переключили. Позвонили с Кинохроники, дали буквально минуты на сборы и велели ехать на вокзал. Через полтора часа отправлялся поезд на Владивосток, где работала «ежовая» киногруппа, у которой заканчивался съемочный период научно-популярного фильма про морских ежей. На Кинохронике в течение ближайших трех месяцев «масштабных работ» не предвиделось.
— Поезжай! — с удовольствием сказала Ирина Васильевна на прощание. — Тебе же надо писать отчет о практике? Вот о Владике и напишешь.
— А Сахалин? — спросила я.
— Хм… Быстро только кошки родятся! Антон Павлович добирался до Сахалина аж восемьдесят два дня.
— У меня практика всего шестьдесят дней! — грустно ответила я.
— Натуля, спокойствие! — внушительно сказала Ирина Васильевна. — О тебе телефонировали и гостиницу заказали. Отдыхай.
— Разве я не с группой буду жить?
— Да слава Богу! Они там в каких-то трущобах обитают. В частном доме без воды.
— Я бы тоже…
— Тебя не спросили, — оборвала она. — Беги, опоздаешь!
— А почему именно про ежей снимают?
— Кто ж их знает? Спустили план. Может, потому, что ежи — традиционное блюдо японцев. А японцы — как раз напротив Владивостока через Японское море. Ты там и разузнай, что за секреты… Комсомольское задание.
— Если бы не срочная редактура, я бы с тобой, Натуля, поехала, — дружески сказала Ася. — Как люблю Владик! Мам, может, бросить все?
— Было бы здорово! — воскликнула я и умоляюще посмотрела на Ирину Васильевну.
Но она твердо сказала:
— Нет. Посмотрим, как Натуля на местности ориентируется. Чехова читай. — И вручила мне томик с заглавием «Остров Сахалин». — Ты хоть знаешь, зачем наш классик туда ездил?
— Путешествовал, наверно…
— Путешествовал, — передразнила Ирина Васильевна. — В распутицу тысячи километров на перекладных и пароходах, в сырой одежде, промокших валенках. И с туберкулезным процессом вдобавок. Хорошее путешествие — на остров отверженных. Я называю это христианским подвигом.
— Обязательно прочту, — смутилась я.
Спустившись на поезде — если глянуть на карту — на восемьсот километров вниз, я оказалась на одной параллели с Сочи. Не укладывалось в голове: Владивосток, Сочи и Тихий океан. Во Владике меня встретил директор фильма, мужеподобная тетя Оля. Выражаясь ее языком, она «пришвартовала» меня к первоклассной трехэтажной гостинице с традиционной табличкой: «Мест нет». Тетя Оля завела меня в номер, проверила краны, слив, пронюхала постельное белье — не затхлое ли, отдала ключи и сказала, что завтра меня возьмут на съемки…
Но ни завтра, ни послезавтра, ни следующие десять дней меня никуда не брали. С утра приезжала тетя Оля, привозила продукты и выставляла самые благовидные причины, по которым каждый раз я категорически никак не могла присутствовать на съемках. То катер сломался, то прилив большой, то какой-то машины не было. Тетя Оля говорила на прощание: «Ну, отдыхай, девочка!» — и исчезала. Я не могла разгадать стратегических планов «ежовой» группы.
Гостиница с закрытым пляжем располагалась прямо на берегу Уссурийского залива, или Японского моря, или Тихого океана — кому как нравится. Я почти в одиночестве загорала на гостиничном пляже на берегу, в отливы собирала камушки, ракушки и красных морских звезд, запутавшихся в ламинарии, потом отпускала их, разглядывала крабиков, пыталась читать Чехова. Но «Остров Сахалин» никак не втискивался в мои мозги: это было нудное чтение, не для отдыха. К тому же голова была забита историческими откровениями Ирины Васильевны, которые надо было как-то разложить по полочкам. Поначалу казалось, что это сделать почти невозможно. Понадобились годы и годы изучения предмета…
Вечерами я гуляла по Владивостоку, взбираясь вместе с его улицами вверх и опускаясь вниз: город был расположен на сопках. Волнистые городские пейзажи с видами на море были очень непривычны жителю средней полосы России. Они завораживали. Узнав, что самое высокое место — сопка Орлиное гнездо, я полдня искала туда дорогу и все-таки взобралась на высоту. Как об этом рассказать? Надо видеть эту завораживающую панораму с видом на бухту Золотой рог и через пролив Босфор Восточный очертания острова Русский. Отыскала свою гостиницу — с высоты птичьего полета она казалась величиной со спичечную головку.
На этой высоте я вдруг поймала себя на мысли, что осматриваю город как будто глазами Чехова. Был ли он здесь? Что чувствовал, увидев эту необъятную стихию высоты, моря и небесного света? Томило ли его одиночество пути или, наоборот, он мечтал о нем? Радовался ли, что добрался до самого края земли? Зачем он, уже знаменитый, вообще тронулся в небезопасное путешествие на этот Сахалин, а не в Ниццу. Его ждала лишь дорожная грязь, разливы могучих сибирских рек, жестокая тряска в тарантасе, встреча с каторжниками — тяжелые испытания для здорового человека, а у него развивался туберкулез… Чехов попал во Владивосток, уже возвращаясь с Сахалина, с какими думами? А я — попаду ли в эту теперь «закрытую зону»? Вся надежда только на Ирину Васильевну. Милая Ирина Васильевна…
Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода.
Прибой мою тельняшку просолил,
И я живу у самого восхода.
А почта с пересадками летит с материка
До самой дальней гавани Союза,
Где я бросаю камушки с крутого бережка
Далекого пролива Лаперуза.
Долго сидела я, вспоминая слова известной песни, навязшей в зубах от частого повторения на радио. Теперь она проливалась на душу бальзамом… И мелодия, оказывается, хорошая. Вдруг защемило сердце: показалось, что если не попаду на Сахалин, «пожить у самого восхода», то что-то очень важное пройдет мимо меня…
На следующее утро я спросила у тети Оли, нет ли кого-нибудь, кто рассказал бы мне про Чехова, про его поездку на Сахалин и вообще…
— Да без вопросов! — ответила она. — Пришвартуем.
На следующий день в мой номер постучала Евгения, застенчивая девушка-экскурсовод, переполненная любовью к Чехову и знаниями о нем. Целый день Евгения водила меня по городу какими-то закоулками, показывала места, которые посетил или, как ей казалось, мог посетить классик. Чехов совершил несколько небольших пеших прогулок, на экипаже сделал ознакомительную поездку по Владивостоку, городу вполне европейского вида. Особенно впечатлил его только что открытый Музей общества изучения Амурского края. Библиотека при обществе так понравилась писателю, что он несколько дней работал в ней, собирая материалы для своей книги о Сахалине. Я слушала Евгению с большим вниманием, но порой думала, что ей лучше бы выйти замуж и так любить своего мужа, как она «обожает» человека, жившего сто лет назад.
— Посмотрите, посмотрите, — вдруг восторженно воскликнула она и указала своей тонкой ладошкой в сторону залива, — кажется, кит… Видите? Прыгает!
Я не видела: откуда здесь кит?..
— Ну что же вы! А Антон Павлович видел кита именно с этого места. Он даже в дневнике записал: «Когда я был во Владивостоке, то погода стояла тут чудесная, теплая, несмотря на октябрь, по бухте ходил кит и плескал хвостищем, впечатление, одним словом, осталось роскошное!»
Повезло мне, конечно, с экскурсоводом: Евгения цитировала на память, кажется, целые страницы. Удивляло и другое. По вниманию, с каким относились ко мне во Владивостоке, можно было предположить, что я в ранге чуть не самой Фурцевой. Это смущало. Евгения после очередной порции рассказанного материала спрашивала меня как школьницу:
— Вам понятно? Есть вопросы?..
Подмывало задать встречный вопрос, за кого она меня принимает? Но я не решалась разрушить очарование ее, кажется, не наигранного восторга и слушала дальше.
Что запомнилось из школьного изучения Чехова? «Каштанку» я не любила, очень жаль было собаку. Смысл невнятной «Чайки» в том, что писатель показал непримиримое отношение к рутине в искусстве. Дальше: «Палата № 6» явилась высшей точкой в развитии критического реализма; в «Вишневом саде», помню, классик осудил крепостническое прошлое России и современную буржуазную действительность, которой противопоставил свою поэтическую мечту о светлом, счастливом будущем Родины… Хорошо, что Чехов не дожил до этого «светлого будущего», которое явилось в образе Великой Октябрьской социалистической революции… Многие современники считали творчество Чехова пессимистическим и даже упадническим. Возможно, это следствие его болезни тела. А может, души? Перечитывать Чехова мне никогда не хотелось… Чего-то в его творчестве я не понимала и не принимала. Его герои то стреляются, то воют от тоски, то несчастливо любят, то изнывают от скуки, то бегут в артистки, то замыкаются «в футляре», то впадают в «сонную одурь»…
Про его поездку на Сахалин в школьной программе не говорилось. Может, именно в ней разгадка?
Желание доехать до «края географии» тридцатилетний врач и уже известный писатель Чехов скрывал от близких — мало кто понимал его… При подготовке к поездке он проштудировал серьезные труды по самым различным отраслям науки: истории, этнографии, геологии, биологии, уголовному праву, тюрьмоведению, метеорологии, географии… Официальных документов, которые давали бы ему доступ во все сахалинские учреждения, Чехов не добился. Выезжая на Сахалин, он имел лишь корреспондентский бланк «Нового времени». «Командировав сам себя», Антон Павлович занял у издателя Суворина тысячу рублей, которые потом «отрабатывал», публикуя в «Новом времени» свои путевые заметки.
В апреле 1890 года родные и знакомые проводили Чехова в Ярославль: там он сел на пароход до Казани, оттуда — по Каме до Перми, затем по железной дороге до Тюмени, а оттуда — более четырех тысяч верст на лошадях в тряском тарантасе. Великого сибирского железнодорожного пути еще не существовало. Весна выдалась поздней и холодной. Писатель-путешественник плохо питался, не однажды подвергался опасности утонуть, когда переплывал на лодках бурно разлившиеся сибирские реки, буквально вязнул в грязи, страдал от жары, пыли, громадных лесных пожаров. Больше тысячи верст проплыл по Амуру. И увидел столько интересного, что написал Суворину: «Мне и помереть теперь не страшно».
11 июля Чехов прибыл на Сахалин на три месяца. Сахалинское начальство позволило ему увидеть практически все. Как оказалось, некоторые каторжные тюрьмы условиями были даже лучше, чем на материке, их построили заново. За несколько лет выросли целые поселки там, где их испокон веков не бывало. Каторжники и поселенцы строили дома, заводили семейства и получали от государства вспоможение — деньгами, семенами. Каторжане работали на угольных копях, на лесоразработках и прокладке дорог, на устройстве портов, мостов. Сахалин, восточная оконечность нашей одной шестой части суши, был малоприспособленным к жизни островом, с большим запасом полезных ископаемых. К концу XIX века возникла насущная необходимость его колонизации русскими, но кажется, Чехов не очень верил в такую возможность.
Конечно, имелись и картины быта каторжан, вызвавшие бы горечь и жалость любого здравомыслящего человека. Может, у «настоящего интеллигента» и нервы сдали бы. Но не у Чехова-врача… Он был дотошным исследователем, жизнь острова интересовала его во всем многообразии: каков климат, гигиенические условия тюрем, пища и одежда арестантов, жилища ссыльных, состояние сельского хозяйства и промыслов, система наказаний, которым подвергались ссыльные, положение женщин, жизнь детей и школы, быт и нравы местных чиновников, медицинская статистика и больницы, метеорологические станции, жизнь коренного населения и сахалинские древности — хватило бы на три диссертации. Он подлечивал больных, если были условия, хлопотал за обиженных. В конце своего пребывания Чехов писал с Сахалина: «Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации. Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно, и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано. Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего Сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд».
Не удивительно, что Чехов уехал с Сахалина с душевной горечью. И все же поездка дала ему много новых внутренних сил, новое мужество, подняла его творческое самочувствие.
«Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома! До поездки «Крейцерова соната» была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел…» — писал Чехов Суворину.
В Россию он возвращался морским путем через Тихий и Индийский океаны: Гонконг, Сингапур, Цейлон, Порт-Саид, Константинополь, Одесса… В Китайском море пришлось пережить сильнейший шторм.
— Вам понятно? Есть вопросы? — спросила Евгения.
— Невероятно, сколько Антон Павлович потратил на эту поездку сил! Чехов — титан! — ответила я, еле успевая заходом ее мыслей. — Но зачем тогда он после всего этого написал «Чайку» с ее безумной Ниной Заречной: «Люди, львы, орлы и куропатки…»
Евгения тяжело вздохнула, порылась в своей сумочке… Наверно, для того чтобы обдумать ответ.
— Вопрос на засыпку… — наконец сказала она. — Мне кажется, что Чехов был человеком своего времени, своей среды. Он не заглядывал вперед и не оглядывался назад. Писал про то, что знал, что видел вокруг. Не понимая его «объективной», как он сам выражался, художественной манеры, критики обвиняли его в отсутствии авторского взгляда, главной идеи, даже мировоззрения. Но именно чеховская «объективность» достоверно запечатлела картины нравственной деградации русской предреволюционной интеллигенции. Многие герои последних чеховских произведений испытывают «тоску по идеалу», в том числе и Вера Заречная. Но и сам Чехов, и его герои как будто запамятовали, что единственный и верный идеал — это Бог и Человек Иисус Христос. Может, даже сам того не сознавая, Антон Павлович поставил раковый диагноз образованному обществу, которое в основной массе жило без высоких идей, то есть уже без Бога. Катастрофа была неминуема. Оставалось совсем немного времени до революции, но многие, в том числе и Чехов, утверждали, что революции в России никогда не будет… Вот такой парадокс.
— Как-то не сразу понятно… — ответила я.
— Вы слышали про отца Иоанна Кронштадтского?
— Нет…
— Он служил в соборе Кронштадта, жил в одно время с Чеховым и был, может, даже более знаменитым, чем Чехов. Кронштадт в некотором смысле можно сравнить с Сахалином. Туда из столицы ссылали воров и прочих уголовных преступников. Среди отверженных молодой священник и начал свою пастырскую деятельность. Отец Иоанн был великим молитвенником, молитвой исцелял душу и тело. Он был прозорливцем, видел, как в России ослабевала православная вера сначала в аристократическом кругу, у интеллигенции, а вслед и у народа. Подобно Иоанну Крестителю в течение целого полувека Кронштадтский священник обличал неверие, богоборчество, сектанство и проповедовал Христа. В то самое время, когда нины заречные искали какой-то абстрактный идеал, батюшка, предвидя грядущие скорбные испытания для России и русского народа, писал: «Держись, Россия, твердо веры твоей… если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга. И если не будет покаяния у русского народа, — конец мiра близок. Бог отнимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозваных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами…»
Показалось, что слова неизвестного мне Кронштадтского пастыря обращены именно ко мне, они словно прибили меня к земле… Ни вздохнуть, ни охнуть. Евгения поняла мое состояние. Взяв мои руки в свои ладошки, она поглядела в глаза, ласково сказала:
— Наташа, это действительно страшно. Но вы не бойтесь. С Богом можно ничего не бояться. Даже нужно не бояться… Вы думаете, что я нагнетаю? Нет, нет… Скажите, как вам кажется, сколько было в Российской империи каторжников? На этом вопросе все ломаются…
— А… — задумалась я. — Не меньше полумиллиона.
— Нет, нет… Ко времени поездки Антона Павловича на Сахалин количество каторжан во всей Российской империи составляло четырнадцать тысяч человек.
— Всего-то? — удивилась я. — Вдолбили-таки нам, что все цари угнетали народ ужасно: чуть что не так — в Сибирь!
— Дело не в царях, а в самом народе. Четырнадцать тысяч на семнадцать миллионов тогдашнего населения Российской империи действительно мало. Греха люди боялись, — улыбнулась она. — В массе своей люди имели страх Божий… Десять заповедей был не пустой звук. Заметки Чехова о Сахалине, как ни странно, выпукло обрисовали характер русского народа. Были разбойники, которых исправить могла только виселица. Но основная часть каторжан, сознавая свою вину, и даже безвинные, терпеливо и смиренно отбывали наказание на далеком суровом острове. В школе вам, наверно, рассказывали о подвиге четырнадцати жен декабристов, которые последовали за ссыльными мужьями — государственными преступниками. Однако им многие сочувствовали, они отправлялись с деньгами, вместе со слугами, везли имущество, даже рояль… Кто вспоминает подвиг безвестных русских женщин — не аристократок. Чехов вычислил, что среди всех сахалинских женщин сорок процентов составляли те, кто, бросив родные места, с детьми, во исполнение венчальных обетов потянулись за осужденными мужьями, чтобы жить почти так же, как сами каторжане. И пробыли с ними в горе и радости до конца. Собственно, нины заречные как раз и помогли разрушить главный народный устой — страх Божий и веру в своего Спасителя. Революция просто объявила: Бога нет, и многие уверовали в это. А на нет и суда нет. Все позволено.
— Как же нам зас… мозги, — тяжело вздохнула я.
— Грубо. Но верно, Наташа. А знаете ли, как «угнетал» Ленина царь Николай II?
— В ссылке? — усмехнулась я, ожидая разоблачений.
— В ссылке, в богатом селе Шушенское, Владимир Ульянов поселился в просторной крестьянской избе, в отдельной комнате. Еда в селе стоила очень дешево. Надежда Крупская писала его матери: «Добрались мы до Шушенского, и я исполняю свое обещание — написать, как выглядит Володя. По-моему, он ужасно поздоровел, и вид у него блестящий сравнительно с тем, какой был в Питере». Надежда Константиновна приехала к нему через несколько месяцев, и в 1898 году они повенчалась в шушенской церкви.
— Как! — вскрикнула я. — Ленин венчался? Не могу поверить!
— Это факт, — потупила взгляд Евгения. — Молодые сняли полдома с огородом за четыре рубля, а жили на государственное пособие в восемь рублей, плюс гонорары, и родственники присылали. Даже наняли и девочку для всех черных работ.
— Стойте! — воскликнула я. — В голове не укладывается. И после этого он устроил революцию?
— Наташа! — сказала она строго, как учительница. — Забудьте уже эти советские лозунги! Ленин с компанией развалил Россию за иностранную валюту ее врагов, это тоже факт. Повторяю. К несчастью, сам народ русский к разврату был готов, как говорится в известном фильме.
Меня поражало, что Евгения была совершенно убеждена в своей правоте и без боязни, как и Ирина Васильевна, высказывала крамольные мысли, за которые еще недавно можно было запросто угодить в лагерь. Да и сейчас нет ли такой опасности? Я с замиранием сердца оглянулась вокруг, что можно было принять за обычный осмотр окрестностей. Мы взбирались на новую сопку.
— Вот тут осторожно, мелкие камушки, можно поскользнуться, — предупредила Евгения.
— А что же дальше? Чехов вернулся домой и… Я имею в виду «Остров Сахалин», — переводя дыхание на новой высоте, вставила я.
— Чехов работал над «Сахалином» пять лет. Каждая глава, которая печаталась в журнале «Русская мысль» проходила через придирчивую двойную цензуру — общую и Главного тюремного управления. Книга произвела большое впечатление на общественность: министерство юстиции командировало на остров своих представителей проверить данные, сообщенные Чеховым. «Сахалин» был признан работой, имеющей серьезное научное значение и встретил отклик в заграничной печати, в особенно в немецкой. Иностранцы, писавшие о чеховской книге, даже выражали удивление, что «Сахалин» пропущен русской цензурой, и настаивали на его переводе на все европейские языки…
— Чтобы в царизм камень бросить? — догадалась я.
— По разным причинам… — ответила Евгения. — Но только советская критика на весь мир объявила, что «Остров Сахалин» — однозначно обвинительный акт против российского самодержавия.
— Разве не так? — по инерции спросила я.
— Решайте сами, — чуть слышно произнесла она. — Я считаю, что это обвинительный акт против каждого, кто по долгу своей христианской совести и должностных обязанностей не заботился о заключенных, как подобает. Вы, наверно, устали. Закончим?
— Жалко… — сказала я. — Не могу вас больше задерживать. Огромное-огромное, Женя, спасибо.
— Мне было легко с вами, — по-детски улыбнулась Евгения. — Хотите, оставлю свой адрес, может, чем-то смогу помочь в вашей деятельности…
— Конечно! — обрадовалась я.
Обменявшись адресами, мы никак не могли расстаться… Зашли в какую-то столовку, попили чаю с пирожками. После этого перешли на «ты». Из столовки мы направились снова в то место, откуда Чехов наблюдал за китом. Зажигались огоньки, очертания береговой линии расплывались. Вода теряла цвет. Настоящий импрессионизм, картина Клода Моне.
— Женя, мне все равно непонятно, зачем больной туберкулезом Чехов отправился в такое трудное путешествие, которое сократило его жизнь? — сказала я, вдыхая последние морские ароматы дневного бриза. Ветерок должен был вот-вот переменить направление. — Совесть его мучила или кризис какой-то был? В свой литературный талант, может, не верил?
— Чужая душа потемки… — сказала она и задумалась. — Антон Павлович стал знаменитым в 27—28 лет, но, как сам говорил, еще «не возмужал». Понимаете, Наташа, одно дело под сотней псевдонимов писать «пестрые рассказы» для пошловатых журналов, и другое — не разочаровать публику, которая возвела на писательский олимп. Он любил людей, всем всегда сострадал. Наверно, он хотел узнать глубже жизнь. А может — познать себя? Во всяком случае, Чехов не ожидал от этой поездки ни новой славы, ни денег, прекрасно сознавая, что может погибнуть, не вернуться назад. Бог вознаградил его именно так, как в глубине жаждало его милостивое сердце. После опубликования «Сахалина» Пироговский съезд русских врачей обратился к правительству с ходатайством об отмене телесных наказаний. О книге говорили на Международном тюремном конгрессе. Главное тюремное управление России вынуждены были смягчить условия содержания каторжан. Сам Антон Павлович, вернувшись домой, стал собирать деньги по подписке, много хлопотал об улучшении положения сахалинских детей. В конце концов на каторжном острове были основаны три приюта на 120 ребят. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». [14 — Иоан. 15:13.] Вот так надо жить…
Какое-то время мы стояли молча в сгущающихся сумерках, думая о своем… Мне стало грустно-грустно, и я жалобно сказала:
— Женя, это тебе надо быть писателем.
— Да что ты! — по-детски воскликнула она. — Мне и так хорошо!
— А мне плохо.
— Нет, нет… Не унывай! Терпи, казак. Пусть тебя греет мысль, что ты ступаешь по следам Чехова…
— А ведь мне тоже двадцать восемь! — вдруг дошло до меня.
— Все впереди! — воскликнула она. — Прими только, пожалуйста, к сведению слова Чехова об одной из причин его поездки на Сахалин. «Поездка — это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я… стал уже лениться. Надо себя дрессировать…»
— Есть! — по-военному отчеканила я. — Ни дня без строчки!
— Можно и так сказать. А еще… — И Женя продекламировала:
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
— Ты так похожа на Ирину Васильевну! — невольно вылетело у меня.
— Наташечка, я должна идти, — ответила Женя, сделав вид, что не услышала меня. — Муж уже целый час дожидается. Вон он, видишь, рукой машет.
Я взглянула на молодого человека, который наверно, с полчаса стоял недалеко от нас и любовался импрессионистическим закатом…
— Муж? — удивилась я. — У тебя есть муж? Что же он не подошел? Неудобно, я так задержала тебя, Жень…
— Не переживай… Он знает: у меня важное дело. Володечка, иди сюда! — И Женя сама рванула к нему навстречу.
Он ласково обнял ее, чмокнул в щеку, стал что-то рассказывать. Потом они вместе подошли ко мне. Невозможно было не заметить, с какой нежностью смотрел Володя на свою Женю. Мне стало завидно…
Медленно побрели мы к остановке. Расставаться не хотелось. Их автобус пришел первым. Они запрыгнули внутрь, когда я, спохватившись, крикнула:
— Женечка, передай тете Оле, что я не ревизор!
Она кивнула, но вряд ли услышала меня.
Утром в дверь постучали. Не дожидаясь моего ответа, вошел кто-то с тяжело шаркающей походкой.
— Привет, Натаха! — услышала я.
Вошедший без стеснения осмотрел номер и развалился на стуле. Полноватый большой дядя в клетчатой рубашке-ковбойке и в кепке козырьком назад сказал:
— Садись, поговорим. Я режиссер.
— Узнаю по повадкам, Дубровский, — усмехнулась я, допивая свой утренний растворимый кофе.
— Дубровский, говоришь, — засмеялся он. — Молодца. Может, ты и писать умеешь? Дай кофе!
— А еще чего?
— Три ложки кофе, две ложки сахара. Можно взбить, чтобы с пенкой.
Вскипятив воду в стакане, я бухнула в него дефицитный индийский кофе, насыпала сахара и спросила:
— А слабо, режиссер, хоть раз на съемки взять?
— Молодца, не жадная, — поблагодарил он. — Кина не будет. Съемки кончились. Надо написать текст.
— Пишите, Шура, пишите… — усмехнулась я.
— У тебя получится, — гнул свою линию режиссер. — Да… клевая ты чувиха, жалко, что мы с тобой не пообщались… — И он двусмысленно подмигнул. — Я им сразу сказал, что ты не похожа на ВЛКСМного крючка. Нормальная девка. Не поверила Леля и давай таскать тебе продукты. За счет бюджета фильма. И гостиницу оплатили из бюджета. За тобой должок.
— Вас как зовут?
— Геннадий.
— Товарищ Геннадий. Гостиницу мне оплатит ЦК, я вам верну деньги. Договорились?
— Значит так. Деньги плочены. Но! В такую шикарную гостиницу ты бы в жизни не попала, если бы не Леля, которая напрягла все свои связи. А связи, соответственно, напугали обком, горком и местком, что ты — комиссия из ЦК ВЛКСМ… Таки в горкомовской гостинице место выделили. Секешь крапиву?
— Леле объявляю благодарность. Сюжетом уже воспользовался Гоголь.
— «Я умираю от скуки, мы с вами беседуем только два часа, а вы уже надоели мне так, будто я знал вас всю жизнь», — с одесским остаповским акцентом сказал режиссер и решительно поднялся со стула. — Значит, так.
Он раскрыл свой модный кейс, наверно, японский, торжественно достал оттуда переплетенную бумажную папку и всунул мне в руки.
— Читай. Начало читай, — он тыкнул пальцем. — Давай, с выражением.
— Морские ежи живут на морском дне… Ничего себе открытие! — засмеялась я.
— Вот тут читай, — режиссер перевернул несколько страниц.
— Органы размножения состоят из гроздевидных гонад, открывающихся наружу на верхней стороне тела… В бреду что ли писал? — оторвалась я от текста.
— Это, — выразительно произнес режиссер, — как и тебя, Натаха, нам спустили с Москвы, с «Научпопа». Сценарий И. Коломийцева, — почесал затылок режиссер. — Слушай, отдай мне кофе. У нас в далекой провинции такого и не видали.
Я пожала плечами, поглядела из окна на пляж. Прилив докатился до моего топчана, значит, скоро начнется отлив. Наверно, сегодня его не увижу, жалко. До свидания, крабики и звездочки, здравствуйте, ежики на морском дне.
— Возьмите, товарищ, Геннадий — протянула я большую жестяную банку режиссеру.
— Добро победило, да? Молодца! Это проверка на вшивость, — ухмыльнулся режиссер. — Оставляю свой подарок тебе. Вот тут всякие книжки умные про флору и фауну и морских чудовищ. Надо две страницы вразумительного, я бы даже сказал, сказочного текста написать. Ежики, понимаешь? Если в три дня уложишься, мы тебя на катере покатаем!
И режиссер исчез, остались книги и вонь от его курева. Почему я должна переписывать этот дурацкий сценарий И. Коломийцева? А не тот ли этот Коломийцев, который в прошлом году окончил экономический факультет ВГИКа… да-да у него какой-то папаша известный партайгеноссе, товарищ по партии… Значит, Коломийцеву захотелось лавров сценариста? «По вечерам Ежик ходил к Медвежонку в гости считать звезды. Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо…» А я тут при чем?
С тоской смотрела я в окно на беззаботных отдыхающих и повторяла: надо себя дрессировать. Надо себя дрессировать. Молиться я тогда совсем не умела. Надо себя дрессировать. Надо, Федя, надо. Почему все хорошее так быстро кончается? Потому что начинается другое хорошее.
И я села за книжки. Сначала понятного было очень мало, но на следующий день стала складываться ясная картинка — про этих ежиков, кто они, откуда, куда идут. Я их полюбила, как класс иглокожих. Возникла завязка сценария, и ручка застрочила. На второй день в голове, кажется, все разложилось по полочкам — вот что значит мехмат университета, — и первая страница была готова. На третий день оставалось написать вторую… Я забыла про пляж и отливы. Творческий процесс, происходивший в голове, заменял все утехи мира… Собственно, тогда, во Владике, впервые я почувствовала этот вкус писательства, за который много лет спустя первый крупный издатель МихАбр назвал меня наркоманкой. И вот как все сошлось: ВЛКСМ, Хабаровск, Ирина Васильевна, Чехов, Владик, Женя, ежики… и дало импульс дальнейшему. А если бы этого не было? Если бы я не добилась командировки и не поехала на Дальний Восток? Что было бы? Бог весть…
Вечером пришел режиссер и с опаской взял написанные две страницы, пробежал глазами, потом сел на стул и прочитал внимательно. Оторвав взгляд от бумаги, он закричал:
— Й-ес! Натаха! Завтра едем в тайгу!
Это было чудесное приключение. В течение часа мы: режиссер, оператор, тетя Оля и я — мчались на катере по просторам — одновременно залива, моря и океана, потом пристали к берегу, у рыбацкого поселка. Оказывается, в тех местах и снимали про ежей. Из поселка на каком-то самоходном агрегате — по сопкам вверх-вниз, вверх-вниз, мы пробрались вглубь леса, который оказался Уссурийской тайгой, по крайней мере ее началом.
Кто не был — рассказать невозможно, какая там была красота: смесь сибирской тайги и субтропических зарослей. Хвойные деревья соседствовали с широколиственными и с настоящим бамбуком. Разнообразные лианы — виноград и цветущий лимонник поднимались по замшелым стволам. И все это поразительно крупное, будто для гулливеров, — листья, шишки, травы… А ароматы — не передать!
Пока тетя Оля, она же — Лелик, готовила скатерть-самобранку на склоне сопки, с которой открывались захватывающие дух таежные дали с полоской моря на горизонте, режиссер Геннадий исчез. Появился он через полчаса, держа в руке небольшой букет серебристых цветов.
— Натаха, это тебе, — режиссер протянул мне цветы, которые, казалось, были сделаны из ажурного белого войлока.
— Нашел-таки! — воскликнула тетя Оля. — Вот же ж зараза ты, Генка: захочешь — так черта лысого достанешь!
— Что за чудо? — удивилась я.
— Это, Натаха, эдельвейс маньчжурский. Символ мужества и отваги. Награждаю тебя от имени всей ежовой группы.
— Нет, но… — Я смутилась. — Но это же… вроде в Альпах растет… Никогда не видела. Спасибочки…
— Такой текст залудила — на фестиваль пошлем! Молодца! Будем перемонтировать фильм, да Лелик?
— Выручила, — сухо согласилась тетя Оля. — Спасибо Ирине Васильевне…