Нестор Махно Ахинько Виктор
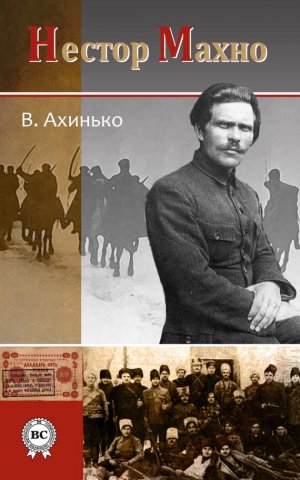
А. И. Корк, получая в Симферополе данные разведки, беспокоился: «27 ноября в 16 ч. 50 м. отряд махновцев в районе Юшуни проскочил колонной глубиной до трех верст через расположение 52 див. в северовосточном направлении и, очевидно, форсированным маршем будет продолжать двигаться на Перекоп и Литовский полуостров… Конгруппа и 52 дивизия получила задачу от командарма—4 преследовать махновцев в направлении на Перекоп. Приказываю начдиву—1 немедленно приступить к выполнению задачи, поставленной моей телеграммой нр 111/к… Действовать быстро, решительно…» (78, оп. 3, д. 35, л. 71).
В приказе командующему латышской дивизией Корк как-то флегматично констатировал: «По непроверенным сведениям кавдивизия вчера у Юшуни имела бой с махновцами, и, видимо, сегодня махновцы пройдут через Перекоп или Сиваш…» (там же, л. 74).
Эти свидетельства для нас чрезвычайно важны, потому что по одной из расхожих версий махновцы вырвались из Крыма тайным путем, нежданно-негаданно явившись перед Перекопом и назвав верный пароль, чем как будто ввели в заблуждение охранявшие Турецкий вал части 1-й стрелковой дивизии, даже не вызвав у них подозрений. Все это – что совершенно ясно становится из приказов Корка – нимало не соответствует действительности. Красные знали обо всех передвижениях махновцев, но ровным счетом ничего не предпринимали. Якобы было столкновение с частями 52-й дивизии, но в это верится с трудом: еще и трех недель не прошло, как они вместе форсировали Сиваш. Как было драться братьям по оружию? В этом смысле весь план «замкнуть» махновцев в Крыму имел колоссальный изначальный изъян: разгром повстанцев должны были осуществить те самые части, которые вместе с ними сражались против белых. Предполагалось, очевидно, что тысячи простых солдат проявят большевистскую сознательность и совершат предательство с тою же легкостью, с какой повернулся политический рычажок в мозгах Ленина и Троцкого. Этого не произошло. «Следствием чего, – читаем у Н. Ефимова, – махновцы спокойно дошли до Армянского базара к вечеру 27 ноября» (24, 214). Здесь они разделились: одна группа двинулась на Литовский полуостров, возможно, еще усеянный телами убитых, которых некому было схоронить в ледяной степи, и ушла из Крыма через сивашский брод. Воистину, было что-то зловещее в этом ночном бегстве махновцев вспять – по следам своей величайшей победы! Вторая группа, может быть, и назвав какой-то пароль, «прошла у Перекопа мимо незначительных и небоеспособных частей первой стрелковой дивизии», которая, несомненно, поняла, кто перед нею, но решила боя не принимать (24, 214). Утром 28 ноября обе группы соединились в деревне Строгановка на Таврическом побережье. Казалось, им удалось вырваться из крымской западни. Однако радоваться было рано: именно здесь, в Таврии, ждали их части, которые не питали к ним никаких чувств и гораздо лучше были психологически подготовлены к операциям против них.[25]
В Харькове, где тщетно продолжали свою дипломатическую работу члены махновской делегации с Волиным во главе, развязка наступила значительно быстрее. Понятно, что приказов Фрунзе с ультиматумом повстанческим частям до сведения махновских представителей никто не довел. Правда, Волин утверждал, что в середине ноября один сочувствующий анархистам телеграфист предупредил его о двух секретных телеграммах Ленина Раковскому, в которых будто бы предписывалось вести за анархистами наблюдение и начать готовить на них компромат «по возможности уголовного характера» (95, 284). Все это по духу весьма похоже на правду, но, увы, подтвердить сообщения «одного телеграфиста» документальными материалами мы не можем.
Показательно, что накануне рокового дня 26 ноября (и через 11 дней после заседания ЦК КП(б)У, на котором было предрешено уничтожение махновщины) Волина «сердечно» принял в своем кабинете Христиан Раковский и вновь сочувственно поведал ему, что вопрос о выделении территории для «вольного советского строя» обсуждается в инстанциях в Москве и, скорее всего, со дня на день следует ждать положительного ответа оттуда.
Поздно вечером, после выступления на митинге в Харьковском сельскохозяйственном институте, Волин вернулся в номер гостиницы и еще некоторое время работал над статьей для газеты. В половине третьего, когда он улегся наконец в постель, по лестнице загрохотали сапоги, грохнул выстрел, и после нескольких крепких ударов в дверь он услышал: «Открывай, иначе высадим дверь!» Зная по опыту, что это значит, Волин быстро собрался, после чего и был препровожден в какой-то подвал, куда на протяжении всей ночи свозили арестованных анархистов.
Так главный пункт политической части соглашения дождался своего «благополучного решения» – не удержался Волин от саркастического замечания по этому поводу (95, 644). После вынужденного и, в некотором смысле, неестественного для большевиков попустительства политическим оппонентам настал сладостный час расправы. Забирали всех, пишет Волин, вплоть до 14—16-летних мальчиков, будто речь шла «об уничтожении грязной расы анархистов до третьего колена» (95, 284). Всего в последнюю неделю ноября в Харькове было арестовано 346 анархистов (94, 274). Представлявшие махновскую делегацию Попов, Буданов и Хохотва были отправлены в Москву и расстреляны. Запоздалый выстрел, уготовленный Попову приговором Ревтрибунала еще в июле 1918 года, все-таки прозвучал. Всего в Москву из Харькова было переправлено 40 человек. Вновь возвращался в знакомые места отсидки Волин, впервые должны были увидеть настоящие застенки ЧК махновские командиры Середа, Зинченко, Колесниченко.
Надежды анархистов интегрироваться в систему советского строя рухнули.
Не менее драматически и загадочно развивались события в Гуляй-Поле. Наиболее странна неудавшаяся попытка покушения на Махно, имевшая будто бы место 20 ноября. О ней рассказал в своих показаниях ЧК Виктор Белаш и – с некоторыми отличиями в деталях – Аршинов в «Истории махновского движения». В первом случае речь идет о 40 (!) чекистах из спецгруппы по ликвидации анархобандитизма Ф. Я. Мартынова, появившихся якобы в Гуляй-Поле в середине ноября и попытавшихся во время большой пирушки, на которой собрался весь махновский штаб, забросать присутствующих бомбами. Однако махновцы опередили их и семь человек схватили. На допросе те сознались в злоумышлении и перед смертью назвали срок, когда Гуляй-Поле подвергнется атаке (12, 182). У Аршинова речь идет лишь о 9 агентах контрразведки 42-й дивизии, которые были схвачены 23 ноября и тоже, не выдержав разговора по душам, назвали сроки.
Нет никакого сомнения в том, что чекисты Мартынова страстно желали физического уничтожения Махно. Но что 40 человек посторонних могли появиться, найти себе приют и выносить злой умысел в Гуляй-Поле, где каждый чужой бросался в глаза и которое к тому же слишком многое пережило с 1917 года, представляется деталью совершенно фантастической. Зачем Белашу потребовалось такое городить на допросе, известно только ему одному. Однако жизнь он себе в результате выговорил. А ведь взяли его только осенью 1921 года, когда Махно уже ушел в Румынию…
Совершенно не укладывается в логику событий и то, что чекисты проговорились махновцам о вероломных планах красного командования. Напротив, все говорит как раз о том, что о приближающемся нападении в Гуляй-Поле ровным счетом ничего известно не было. Ну неужели, зная о дне, когда суждено совершиться предательству, Махно сидел бы на месте с охраной всего в 300 человек? Неужели он не ушел бы из села, не собрал из формировавшихся поблизости частей сильный отряд, чтобы ударить в тыл предателям и разгромить их? Можно ручаться, он проделал бы что-нибудь в этом духе. И проделал, как только на него напали.
Может быть, самым неожиданным аргументом против присутствия несметного количества чекистов в Гуляй-Поле является то, что у красного командования не было сколько-нибудь ясного представления о том, сколько, в действительности, войск в «столице» Махно; все разведданные были многократно преувеличенными и основывались, похоже, на слухах, что в конечном счете сослужило Махно добрую службу. Одно из донесений сообщало, например, что «армия Махно насчитывает до 9000 человек, около 2500 сабель» (12, 182), другое с той же категоричностью утверждало, что «войск в Гуляй-Поле до 1000 сабель и 3000 пехоты при 3-х орудиях…» (12, 182). Что, спрашивается, делали то ли сорок, то ли девять агентов в Гуляй-Поле, если они не смогли даже пересчитать, сколько войск состоит при штабе?
Вообще, эпизод с чекистами слишком смахивает на фрагмент из лихого киносценария: интересно, откуда он всплыл, зачем понадобился Белашу, почему устроил тех, кто его допрашивал?..
Действительные события развивались куда более прозаически. 24 ноября гуляйпольский Совет в очередной раз отказал в выдаче тысячи пудов хлеба фуражирам 42-й дивизии, которая в эти дни со всех сторон окружила местечко. За махновцами должно признать изрядную долю принципиальности. Как во время визитов большевистских бонз, так и пред лицом красноармейского командования они держались железной линии: хлеб даром не сдавать.
25 ноября Реввоенсовет махновцев предался теоретизированию и утвердил «Общее положение о вольном совете». Решительно невозможно представить себе, чтобы, зная о предстоящем наутро нападении, бывалые партизаны занялись бы вместо самообороны составлением своеобразной политической эпитафии.
Пасмурным утром 26 ноября, когда оставшийся без командира корпус Каретникова уже мчался по Крыму, чтобы вырваться из западни, а харьковская делегация сидела в подвалах чрезвычайки, из Гуляй-Поля в Харьков позвонил Петр Рыбин, анархист из секции пропаганды, и поинтересовался: как идут дела и как скоро ждать решения вопроса о «вольном советском строе»? Ему успокаивающе отвечали, что все будет улажено к полному удовлетворению махновцев, «при этом тут же сообщали, что вопрос с 4-м пунктом политического соглашения также подходит к благополучному разрешению» (2, 182).
Ровно через два часа после этого разговора Гуляй-Поле было накрыто ураганным артиллерийским и пулеметным огнем. Каким образом Махно и Белашу удалось собрать в охваченном паникой городке, где подводы и тачанки сталкивались на улицах, где рвались снаряды и вновь выли в предчувствии лютой беды бабы, своих триста повстанцев, мы знать не можем. Но факт, что это удалось. Удалось выставить слабое заграждение вокруг села, выслать разведку. Разведка донесла: окружены повсеместно. Дальше произошло нечто похожее на чудо, которому историки пытаются найти рациональное объяснение и все-таки не находят, потому что решительно непонятно, как могла испытанная в боях с махновцами 42-я дивизия упустить Махно, весь его штаб и пропагандистов, при которых было всего сотни три бойцов. Как это ни странно, прав В. Волковинский, который пишет на первый взгляд полную несуразицу: Махно бросил своих людей в прорыв тогда, когда заметил, что «одна из кавалерийских красноармейских частей, наступавшая со стороны села Туркеновки, боясь попасть в окружение, начала отходить» (12, 185). Махно было принял это за хитрый маневр, но, видя, что иного выхода у него все равно нет, бросился вперед наудачу – и выскочил из западни!
Побойтесь Бога, воскликнет читатель, но о каком страхе окружения могла идти речь, когда у Махно было так мало людей?! Перед кем отступала красноармейская часть? И тут ответ неоднозначный, ибо красноармейцы сражались не с реальными махновцами, а с той мифической девятитысячной армией Махно, о которой доносила разведка. Это была в прямом смысле слова битва с призраком, из-за чего шевеление нескольких десятков человек на околице Гуляй-Поля было красными кавалеристами истолковано как грозный маневр, убоявшись которого, они и отступили.
Самое смешное, что красные даже не поняли, что проскочивший мимо них небольшой отряд и есть Махно со всеми его силами. Весь день Гуляй-Поле обстреливалось из орудий, медленно и планомерно сжималось кольцо блокады. Вечером в городок, совершенно случайно – выполняя какую-то свою боевую задачу – ворвалась интернациональная кавбригада под командованием Мате Залки. Не обнаружив противника, кавалеристы устроились на ночлег. Утром бой возобновился: части 42-й дивизии продолжали наступление на Гуляй-Поле и, ничего не зная о маневре дерзкого венгра, грозили уничтожить его конницу. «После перестрелки со своими и между собой недоразумение выяснилось и части… 42-й дивизии и Богучарской бригады к вечеру 27-го вошли в Гуляй-Поле» (24, 214).
Конфузия вышла первостатейная. Все это, действительно, было бы комично, если бы этим не открывалась сызнова кровь. Когда Махно через восемь дней во главе почти трехтысячного отряда вновь отбил у красных Гуляй-Поле, ему были предъявлены единственные аргументы в затянувшемся политическом споре с большевиками: триста трупов впопыхах убитых сторонников «вольного советского строя»…
Аршинов пишет, что после вероломства 26 ноября Петр Рыбин, утром говоривший по телефону с Харьковом и выслушивавший дружелюбные заверения кого-то из чиновников Совнаркома, как-то болезненно сосредоточился на одной задаче: добраться до Харькова, вызвать по телефону Раковского и сказать ему, что он подлец. «Возможно, – продолжает Аршинов, – что он и выполнил это свое намерение, и, возможно, это привело его к гибели; через 5 дней по прибытии в Харьков он был арестован, а через месяц после этого расстрелян по постановлению чека» (2, 224).
27 ноября ЦК КП(б)У с неизбежными X. Раковским, Я. Яковлевым и начинающим политическую карьеру В. Молотовым заслушало доклад о ликвидации махновщины. Операции 26–27 ноября можно было считать проваленными: крымский корпус ушел, Махно ушел, неудачей закончилось окружение таврической группы махновцев (удалось окружить и пленить только один свежесформированный полк). А под Бердянском вообще творился позор, оттуда поступали сведения об отряде одного из крупнейших махновских командиров Удовиченко, который свободно разъезжал по уезду, устраивая митинги совместно с представителями большевистской власти. 27 ноября отряд провел митинг в селе Арзур. Агент докладывал: «Был представитель от уездвоенкома города Мариуполя, который сам выступал. Держали себя хорошо, хотя больше всего призывали к безвластию, но приветствовали соединение с красными» (78, оп. 3, д. 589, л. 18). Бердянск был злокачественной глухоманью и провинцией. Ничего-то до него не доходило! Из такого вот попустительства и вспучивались потом крамола и измена, тайное сочувствие, которое даже хуже явного…
ЦК КП(б)У поручил Раковскому, Молотову и Яковлеву вплотную приступить к выполнению задачи «чрезвычайной важности» – уничтожению бывших революционных партизан. Но для этого надо было выправить и ужесточить размягчившийся во фронтовом содружестве партийный дух.
29 ноября Фрунзе вызвал Корка из Симферополя в свой поезд и на основании полученных инструкций устроил ему хорошенькую взбучку. Судя по всему, разговор развивался примерно в таких тонах: какого же черта вы, товарищ Корк, упустили Махно, и как долго будет продолжаться бандитская расслабленность ваших частей?
Получив нагоняй, Корк со станции Дюрмень нижеследующим приказом взбодрил подчиненного ему командующего 3-м конным корпусом Каширина: «На основании указаний, полученных от командюжа, приказываю: 1) Комкорпуса Каширину немедленно продолжить преследование (крымской группы) махновцев с целью их уничтожения. 2) начдиву—15 к вечеру 30/Х1 сосредоточить дивизию в районе Аскания-Нова—Самойловка– Каталино… выслать конную разведку и на подводах пешую для выяснения отхода махновцев» (78, оп. 3, д. 35, л. 78).
Третий конный корпус, несмотря на жалобы Каширина на загнанность частей, был волевым приказом послан вслед уходящему «крымскому корпусу». Навстречу ему двинули части 42-й дивизии, наперерез – петроградскую бригаду курсантов, которой, если читатель помнит, в последний момент не дали погрузиться в вагоны в Мелитополе.
Какая-то жестокая ирония истории заключена в том, что красные решили взять реванш и отыграться именно на тех частях Повстанческой армии, которые непосредственно помогали им во взятии Крыма. Тот самый курсант Иван Мишин, который в день решающего штурма сидел с напарником в стогу с катушкой телефонного кабеля, вспоминал: «В мое дежурство в штаб Петроградской бригады курсантов из одного полка позвонили и сообщили, что по балке перемещаются махновцы в составе до тысячи человек. Об этом событии я доложил командиру бригады. Через некоторое время в полк передали, чтобы махновцам дали втянуться в балку, после чего будет дан сигнал к наступлению – выстрел из орудия. Был открыт огонь из винтовок и пулеметов с обеих сторон балки. Оказалось, что это был только передовой отряд махновцев, который отступил, понеся значительные потери. Основные силы избежали поражения» (57).
Правда, ненадолго. Красное командование, один раз опозорившись, решило во что бы то ни стало не допустить второго позора, которым стало бы для него соединение «крымского корпуса» с группой Махно.
Вырвавшись из Гуляй-Поля, Махно прежде всего собрал разбросанные в ближайших селах свежесформированные части. Он еще не осознал всю тяжесть постигшего его поражения, но постепенно избавлялся от иллюзий. 29 ноября на совете Повстанческой армии в Константиновке Махно дал указание: «Временно по силе возможности уклоняться от боев и заняться энергично организацией армии и объединением повстанческих отрядов, а также связаться с отрядом Удовиченко и ждать возвращения крымской группы Каретникова» (12, 186).
Крымский корпус, меж тем, все-таки попал в западню: утром 1 декабря примерно в 120 километрах к северу от Крыма у села Тимошевки повстанцы столкнулись с частями Первой конной и 42-й дивизии. Махновцы пытались прорваться, используя огневую мощь своих пулеметов, пленили один полк, но были отбиты. Бой продолжался целые сутки. Будущий маршал Тимошенко, в ту пору командир 4-й кавдивизии, докладывал Буденному: «Наши части переходили несколько раз в атаку, изрубили до ста кавалеристов, захвачены лошади и несколько пулеметов. Быстрой ликвидации банды мешает обилие у нее пулеметов на хороших лошадях, а также отсутствие при наших частях автоброневиков. Бронепоезд № 63 до настоящего времени на ст. Пришиб не прибыл, а вместе с ним не прибыл и 12-й автоброневой отряд, и местонахождение их неизвестно. Бой продолжается…» (27, 101).
Махновцы пытались вывернуться, уйти на юг – не удалось. Попытались впрямую прорубиться через кавдивизию Тимошенко, но к месту боя, на этот раз кстати, подоспела интеркавбригада Мате Залки, и махновцы дрогнули. К четырем часам вечера повстанцы расстреляли все патроны и были окружены возле села Михайловка. В половине шестого Тимошенко телеграфировал Буденному: «Банды Махно разбиты… Полностью уничтожена пехота, часть взято в плен. Много изрублено кавалеристов, захвачены лошади, тачанки с пулеметами, с упряжью и лошадьми. Остатки разделились на две группы…» (27, 102).
2 декабря интеркавбригада настигла часть махновцев у колонии Рикенау и вырубила 200 человек. Практически весь крымский корпус в ходе непрекращающихся после Перекопа стычек и этих двухдневных боев был уничтожен. Лишь 7 декабря оставшиеся в живых 250 повстанцев отыскали Махно с его отрядом. Встреча должна была произойти в селе Керменчик. Предупрежденный разведчиками, Махно с волнением ожидал возвращения лучшей своей кавалерии. Он в буквальном смысле слова не мог поверить, что от пятитысячного корпуса Каретникова уцелел один эскадрон. В воздухе заклубилась желтая морозная пыль. Батька увидел две сотни изможденных всадников. К нему подскакал Марченко с кривоватой усмешкой на лице:
– Имею честь доложить, крымская армия вернулась… (2, 189).
Махно молчал. Командиры штаба на эту мрачную иронию отреагировали столь же мрачными улыбками. Поглядев в лица товарищей, Марченко заключил:
– Да, братики, вот теперь-то мы знаем, что такое коммунисты…
ОКАЯННЫЕ
Страшна, страшна должна была быть месть Махно! Когда он понял, что его в очередной раз предали, обманули, в очередной раз использовали; что ни единое слово дружественных заверений не было искренним, а всякое выражение сочувствия обернулось иезуитством, что им просто играли, задуривая его, как малоумного, несбыточными обещаниями, – какое же опустошительное отчаяние должно было овладеть им! Какая тупая, неутолимая боль должна была поселиться в сердце, недавно еще исполненном надежд, какую клокочущую злобу должен был ощутить он в своих жилах! Опять в нем не хотели признать равного себе, опять выпихивали в нелюди, объявляли охоту на него, как на дикого зверя…
Опять вне закона, опять – «бандит»! Что ж, за все теперь должны были заплатить красные: за предательство, за погибших товарищей, за опаскуженное ложью и пытками дело революции, за волю народа, превращенную в большевистскую девку, за надругательство над памятью тех, кто пал за дело народа, – и за «бандита» тоже.[26]
Бандит – так бандит. Холодно и ясно встретил Махно декабрь 1920 года. И пока ему не сбили дыхание тяжелыми ударами в январе 1921-го, Махно успел нанести несколько хирургически точных ударов красноармейским частям, действуя с такой маневренностью, какой не демонстрировала ни одна армия времен Гражданской войны.
Когда Наполеон говорил, что высшим проявлением своего военного гения он считал не Маренго и не Аустерлиц, не Йену и не Ваграм, а операции против русских, прусских и австрийских войск в 1813 году – когда он, фехтуя пятнадцатью тысячами солдат, разбивал в три, в пять раз превосходящие его силы, – он имел в виду открывшееся ему искусство парадокса, войны вопреки правилам, новую степень свободы маневра, которой союзные армии так ничего и не смогли противопоставить, пока просто-напросто не вошли в Париж, столицу его империи, чем и принудили его сложить оружие. Махно в декабре 1920 года тоже, пожалуй, продемонстрировал лучшие образцы своего военного искусства. Сравнение его с Наполеоном более чем условно, тем более условно, что корсиканец ведь действительно возомнил себя императором французов и вне этой роли уже не чувствовал воли к сопротивлению – почему и сдался, когда пала его столица. Махно же был повстанцем – у него могло ничего не остаться, кроме степи и неба, он мог спать в тачанке или на голой земле – и продолжать сопротивляться.
Его можно было только уничтожить…
Пока красноармейские штабы получали и сочувственно перечитывали в целом лживые рапорты о разгроме махновщины от командиров частей, принявших участие в операциях 26–29 ноября, Махно собрал уцелевшие силы и нанес первый удар: 3 декабря махновцы налетели на 370-й полк 42-й дивизии и разоружили его. В тот же день была буквально освежевана кавбригада красных киргизов, собравшаяся для выступления против повстанцев в селе Комарь. Греческое село Комарь было одним из становых махновских сел, поэтому о появлении там бригады буролицых азиатов батька, конечно, узнал сразу же. Видимо, то, что против него выслали каких-то совсем неведомых, чужих людей, которые способны много напакостить в деревне именно в силу своей полной непричастности к ней, побудило Махно в отношении гостей повести себя круто: бригада была не разоружена, как обычно, а практически полностью уничтожена.
Красные киргизы заканчивали построение на улице села, когда оно было накрыто артогнем из-за горных увалов, окружающих село, после чего на улицу, заперев ее с двух сторон, влетели тачанки с пулеметами и в упор начали расстреливать заметавшихся всадников. Еще не замолкли пулеметы, как из-за тачанок грянула конница и пошла рубить согнанных в кучу смертельным огнем киргизов, которые были так ошарашены, что уже не могли сопротивляться: «Киргизы в панике не произвели ни одного выстрела, ни один из командиров не пытался установить хоть какой-нибудь боевой порядок, чтобы дать отпор; и командир, и джигиты бросились врассыпную к реке» (12, 187). Этим участь их была предрешена: махновцы сгоняли бегущих в кучки и рубили без пощады. Меньше чем за полчаса кавбригада перестала существовать. Лишь человек сто убежали в степь и дотемна хоронились там по-звериному…
В тот же день мог попасть Махно под горячую руку еще и батальон стрелков, двигавшийся по направлению к Комарю, но батальонная разведка как-то прознала про то, что делается, и вовремя донесла, что махновцев слишком много, тысячи четыре, так что прямой был резон скомандовать ретираду. И когда на следующий день к батальону стали пробиваться распущенные пленные 370-го полка и уцелевшие киргизы, выяснилось, что действительно: махновцы хорошо вооружены, есть табак, сахар, спирт, патронов много, настроение превосходное…
Почему-то дня четыре, со 2 декабря, когда был «накрыт» и разгромлен крымский корпус, до шестого, когда стало ясно, что ничего не кончилось, что никакой «решающей» победы не одержано, что опять надо вести войну – войну без фронта, без правил, войну неизвестно с кем и неизвестно как, – красными частями владела какая-то апатия. Не было плана. Не было общей идеи.
3 декабря на Фрунзе, вернувшегося из командировки в Москву, была возложена новая задача: учитывая опыт борьбы с басмачеством, возглавить разгром политического бандитизма на Украине. Он должен был сформулировать концепцию: как? Как ликвидировать, если три года не ликвидируется? Надо сказать, что Фрунзе выдвинул, с чисто военной точки зрения, ряд ценных идей, хотя самой должностью, в чем мы убедимся еще, тяготился.
Но чтобы эти идеи воплотить – насадить в жизненно-важных центрах махновщины сильные гарнизоны, перерезать маршруты Повстанческой армии бронепоездами, организовать постоянное преследование ее крупными силами кавалерии, – нужно было время. А пока из Крыма перебрасывались части Второй Конной, пока от Мариуполя – несмотря на приказание Фрунзе действовать «вдвое быстрее» – двигались части 3-го конного корпуса Каширина – Махно взял обратно Гуляй-Поле, словно в насмешку над всеми победами Красной армии. После этого 6 декабря Совет труда и обороны в Москве принял (а Ленин подписал) постановление, объявляющее искоренение бандитизма первоочередной государственной задачей, а для Советской Украины – «вопросом жизни и смерти». Партия, как это было принято, на решение этой очередной чрезвычайной задачи выделяла лучших работников. На этот раз в их числе вновь оказались неизменные В. Затонский, С. Косиор, Д. Мануильский, X. Раковский и «приданные» – председатель ВЧК Дзержинский, который, впрочем, ничем особенно себя не проявил, и два талантливых военачальника, Р. Эйдеман и К. Авксентьевский, которые очень помогли Фрунзе, когда у него сдали нервы в охоте на Махно.
Но пока делались назначения и тянулась прочая бюрократия, Махно ударил еще раз. После встречи с ошметками крымского корпуса он двинул свою армию на юг, в Бердянский уезд, на соединение с отрядами Удовиченко. Батько Удовиченко, бывший корпусной махновский командир, занимался формированием отрядов Повстанческой армии на юге, у Азовского моря, и, кажется, позже всех узнал о разрыве соглашения с красными, ибо, как мы говорили уже, еще 27 ноября проводил митинг совместно с коммунистами. Партийцы города Бердянска, зная о разрыве соглашения с махновцами и бродящем поблизости их отряде, перешли на осадное положение: днем работали в учреждениях, а ночью вооружались, собирались вместе и ждали налета.
11 декабря в Новоспасовку, родное село Куриленко и Удовиченко, пришел Махно. На всякий случай бердянские коммунисты провели мобилизацию и подсчет сил: насчитали 300 членов партии, к ним надежных – отряд продармейцев и красноармейцев Чека и ненадежных – местный батальон и червонную сотню уездвоенкомата, охарактеризованных, как «полумахновский элемент» (22, 84). В Бердянск Махно, по всей логике вещей, лезть не надо было: за ним шли красные, в надежде прижать к морю и раздавить, – а Бердянск был не просто на берегу, но на берегу плоской, вдающейся в море косы: здесь кончалась идущая от Полог железнодорожная ветка, здесь обрывались три разбитые грунтовые дороги, «проходимые только для махновцев». Тупиком был Бердянск, настоящей ловушкой, откуда могли б и не вывернуться партизаны, случись им сунуться туда. Стратегически Махно был уже окружен – причем двойным кольцом – войсками 4-й армии. Если рассуждать логически, то после соединения с Удовиченко он должен был бы попытаться найти зазор в цепи обступавших его частей, чтобы прорваться из окружения, а не возиться с тридцатитысячным уездным городком, дрожащим от ужаса.
Но в тот момент Махно, видимо, нужнее был ужас. В полночь 11 декабря Бердянск получил лаконичное уведомление из Новоспасовки: «Иду на вы». Эта телеграфная пародия на Святослава опровергала все доводы рассудка и правила тактики. Махно решил взять Бердянск просто так. Из своеволия. Чтобы позлить и подразнить врагов. Он и телеграмму-то прислал нарочно – чтобы был страх. Чтобы знали: ежели батька Махно чего захочет – он это сделает всему вопреки…
Бердянские коммунисты, следовательно, о намерениях повстанцев были оповещены. Они могли бы, вероятно, попрятаться – но это было бы слишком унизительно. Они решили сопротивляться – тем более что они рассчитывали на помощь. По опыту они знали, что нападения Махно надо ждать на рассвете. Следовательно, задача – продержаться несколько часов, до того, как подоспеют избавители. Но помощь не пришла. Вероятно, командарму—4 Лазаревичу не хотелось ломать медленный поступательный ход руководимой им операции, сулившей, как казалось, верный успех. Что, в свете этого успеха, означала небольшая отсрочка и – увы – неизбежная гибель нескольких товарищей? Стратегически выгодно было бы, чтобы Махно как можно глубже вонзил зубы в Бердянск…
Но бердянские коммунисты этих соображений не знали. Они рассчитывали на подмогу. Они пытались построить баррикаду, сделали семь опорных пунктов в самых крепких домах, натаскав туда оружия…
В шесть утра, словно по расписанию, махновцы – еще по зимней темноте, – с трех сторон ворвались в город. Обнаружив два опорных пункта на Итальянской улице – в здании почты и в здании Чека, – они открыли огонь и вскоре выгнали защитников из убежищ, заставив беспорядочно отступать. В девять утра отряд бердянцев, окруженный в предместье Лески, расстреляв патроны, был порубан до последнего человека. Взошедшее солнце осветило 82 трупа. Налет на Бердянск был чисто террористической акцией, в точном значении слова: он должен был внушить страх. Речь шла только о страхе, который, как ком в горле, должен был будить на утренней заре всех коммунистов от Луганска до Елисаветграда.
Показательно, кстати, что лишь те из оборонявшихся, кто нашел в себе силы противостоять страху, уцелели: маленький отряд в 12 человек до часу дня отстреливался в здании земотдела. Лишь когда махновцы подкатили захваченные в городе пушки и ударили по зданию с двух сторон, защитники прекратили стрельбу и залегли на полу. Но махновцам так и не удалось добраться до них – едва они сунулись на первый этаж, как с лестницы второго грянул залп и партизаны «ушли с проклятиями». Тем временем стало смеркаться, и осаждавшие дом махновцы вынуждены были присоединиться к остальным, чтобы покинуть город. В четыре часа дня Бердянск, получивший как последнюю память о батьке Махно восемьдесят покойников, был оставлен повстанцами, чтобы из мутных сумерек послать на север весть о случившемся дерзостном преступлении и предуведомить – теперь уже не спасителей, но, возможно, мстителей: он здесь, не дайте уйти…
А Махно, вскрыв большевикам жилы в Бердянске, двинулся прямо на север, откуда шли на него красные, дал своим сутки отдохнуть в станице Новоспасовке, а на следующий день смело принял бой с многократно превосходящими его силами.
Махно прекрасно знал свое положение и опасность, которая ему угрожает. У него было тысяч пять партизан, в то время как в операции против него было прямо вовлечено 2/3 всех сил, участвовавших в разгроме Врангеля, – около 60 тысяч человек.[27] Но Бердянск ему был необходим – чтобы ввести в непонимание красное командование и продемонстрировать простым красноармейцам неистовую мощь своего боевого юродства. И то и другое ему удалось. Лазаревич ждал прорыва Махно на запад или на восток, где кольцо окружения было неплотно еще примкнуто к морю, а он ударил в лоб, на север, вырываясь на оперативный простор, к непочатым партизанским резервам…
Как всегда, для прорыва было тщательно выбрано слабое место – фронт ненавистной махновцам 42-й дивизии, измотанной сплошными переходами. Весь день махновцы «отдыхали» в Новоспасовке, водя за нос разведку. Разведка докладывала, что партизаны ведут себя пассивно и никаких действий не предпринимают. Под покровом наступившей ночи Махно незаметно двинул армию на север, к селу Андреевка, к самым позициям 42-й дивизии, оставив в станице лишь арьергард, который красным командованием упрямо принимался за ядро повстанческих сил.
Утром 14 декабря В. С. Лазаревич отдал частям приказ атаковать Новоспасовку. Сводная дивизия курсантов повела атаку на несуществующего противника. Больше того: в пять утра, когда махновцы уже бросились на позиции 42-й дивизии, командир ее получил от командования армии приказ срочно поддержать курсантов, которые атакуют станицу! Правда, с ходу прорваться махновцам не удалось. Атаки и контратаки кавалерии, пробные «выпады» Махно продолжались весь день. Кольцо окружения сжималось. К наступлению темноты махновцы заняли глухую оборону в Андреевке: печальная судьба крымского корпуса внятно замаячила перед остатками армии. В это время, перегруппировавшись, курсанты ударили на Андреевку с юга. Завязавшийся таким образом бой красные приняли за попытку нового партизанского прорыва – на юг. Думая, что у него появилось время перегруппировать силы на северной околице села, комдив—42 приказывает снять с фронта измученную боем бригаду и заменить ее свежей. Мгновенно оповещенные об этом махновцы в самый момент смены частей на позициях и неизбежной при этом неразберихи обрушили на них удар всех своих сил и, разбив обе бригады, вырвались из кольца – на север. Вырвались, когда, казалось, никакой надежды у них уже нет, когда они окружены окончательно, Но красные еще не знали Махно так, как знал его Слащев, упустивший Повстанческую армию из окружения под Уманью. Им еще предстояло узнать, что такое – партизанская война…
Неудача боя возле Андреевки, когда «при счастливейших обстоятельствах представился великолепный случай раз навсегда покончить с популярнейшим вождем украинских бандитов» (48, 114), казалась столь неправдоподобной, что стала предметом расследования военного трибунала. В самом деле – силами трех дивизий при поддержке мощной кавалерии, бронемашин, легкой и тяжелой артиллерии, не раздавить «бандитов»? Это же нонсенс – или предательство? Трибунал предательства не обнаружил, но констатировал глубокое безразличие и апатию, с которыми действующие войсковые части исполняют возложенные на них поручения, и сделал вывод, что «подавляющий перевес в людском составе и технических средствах не обусловливает победы вообще и победы над партизанами в особенности» (48, 114).
Поистине удивительна эта повсеместно подмечаемая в красноармейских частях «усталость и апатия» и поистине неправдоподобная, какая-то юродская двужильность, которую обнаружили в тех же боях махновцы.
Можно выстроить любопытную хронологию:
Днем 11 декабря: встреча отрядов Махно и Удовиченко в Новоспасовке. Отдых полночи.
На рассвете 12-го – марш и налет на Бердянск. Вечер – марш, ночевка в Новоспасовке.
13 декабря: день – отдых. Ночной переход в Андреевку и подготовка к бою.
14 декабря: с раннего утра до вечера – бой и прорыв из окружения. Ночной отрыв.
15 декабря: дневка, отдых. Ночью – марш в направлении Гуляй-Поля.
16 декабря: в 2 часа ночи махновцы сталкиваются под Федоровкой с частями Второй Конной и северной группой Р. Эйдемана, которые и должны были, по замыслу, блокировать прорыв Махно на север. Может быть, В. Лазаревич не верил в такую возможность и выставил заслон, просто подчиняясь закодам тактики. Но Эйдеман оказался на высоте, а его части – по существу единственными, сохранившими хладнокровие и способность к маневру. Бой продолжался до наступления темноты, махновцы потеряли несколько сот убитыми, бросили черное знамя, но все-таки удержать их, загнать в лабиринт подходящих частей Эйдеману не удалось. Он не отлипал от них до 17-го, последний раз крепко прижав возле Туркеновки – и все-таки упустил!
Утром 18-го, на марше – пролет через Гуляй-Поле, занятое частями 125-й бригады 42-й дивизии и обозом Богучарской бригады. Обоз сожгли, пехоту разоружили, прихватив желающих с собой.
Механик связи Василий Белоусов, который, как нарочно, каждый раз заступал на дежурство, чтобы стать свидетелем очередных драматических событий, так описывает этот эпизод: «Ночью я подбадривал себя, чтоб не уснуть, каждые 10–15 минут делая проверку связи. Утром делаем проверку – связи нет. Надсмотрщики выскочили искать повреждение. Оказалось, что порезаны все провода связи. Тут же послышался орудийный выстрел и затрещали вокруг села пулеметы. 372-й полк, переутомленный походом, к такому внезапному нападению не был готов. Махновцы выгоняли из квартир красноармейцев и вместе с обозом богучарской бригады погнали в сторону немецкой колонии. Несколько тысяч лаптей с богучарского обоза облили керосином и запалили. Махновцы грелись вокруг костра, пленные красноармейцы стояли кучей, понурив головы. Подъехала тачанка. Махно поднялся на костылях (был в ногу раненный) и начал свою речь, что мы воюем не против власти советов, а против коммунизма и коммунистов. Объявил выдавать своих командиров и комиссаров. Красноармейцы стоят, понурив головы. Махно опять объявил выдавать коммунистов – „а то всех расстреляю“. Красноармейцы молчат. Тогда Махно объявил: „Кто желает в мою армию – отходите в эту сторону, а кто хочет домой или в свою часть – отходите туда“ (показал костылем). Красноармейцы стоят, не шевелятся.
– Что, просить я вас буду? – сердито закричал Махно.
Начали расходиться. Кто пошел к Махно, кто куда. Большинство красноармейцев пришли в свою часть и так и не выдали ни командиров, ни коммунистов» (8).
Прошла неделя с тех пор, как Махно ввязался в непрекращающиеся бои. Как люди, то есть существа, подверженные закономерностям природы, они должны были устать. Они должны были бы, по идее, искать укрытия, отдыха. Тем не менее в ночь с 18 на 19 декабря, казалось бы, окончательно выдохшиеся махновцы совершают одну из самых фантастических операций, в буквальном смысле слова перенесясь из одной географической точки в другую к полному отчаянию преследователей.
Декабрь 1920 года на Украине был не по мере жестоким, а в ночь на 19-е еще грянула вьюга, крутя вместе с сухим снегом тучи черной пыли. В эту ночь, «когда в двух шагах люди не могли различить человека от лошади, именно в эту ночь Махно делает беспримерный 80-верстный переход, – писал один из красных командиров, – и как коршун налетает на штаб Петроградской бригады» (4, 42).
Застигнутый на хуторе Левуцком штаб бригады петроградских курсантов, стоявший отдельно от основных сил, был почти поголовно уничтожен. К нападению петроградцы совершенно не были готовы. Вода в кожухах пулеметов замерзла. Отстреляться не смогли. Тех, кто пытался сопротивляться, махновцы, не церемонясь, вышибали из хат гранатами. По рассказу Ивана Александровича Мишина, который и подумать не мог о таком повороте событий, сидя в своем стогу у Сиваша, один из штабных, адъютант, уцелел, спрятавшись в конуре, только был слегка покусан собакой. Другой штабист, накинув на плечи зипунишко, кинулся к подводчикам – украинским крестьянам, которые перевозили командиров на тачанках, – и сел за стол вместе с ними. Подводчики не выдали его, хотя махновцы заходили и оглядывали хату.
Семь курсантов из роты охраны, забравшихся в печку, махновцы взяли в плен. Их посадили на подводу, повезли куда-то. Крестьянин-украинец, сидевший на козлах, после некоторого молчания обернулся и спросил:
– Бачили батьку Махно, чи ни?
– Ни, – ответили перепуганные курсанты.
– Ну, може побачите, – беззлобно сказал подводчик (53).
Курсантам, однако, увидеть Махно не довелось: откуда-то опять взялась кавалерия неуемного Мате Залки, и махновцам пришлось бросить обоз вместе с пленными. Залка послал одно из бесчисленных в те дни донесений, что настиг и нанес тяжелый удар. В действительности «отстрел» обоза был лишь одним из простейших приемов партизанской тактики, и военным, не склонным к самообольщениям, это было совершенно очевидно.
Павел Ашахманов, принявший после гибели комбрига Мартынова Петроградскую бригаду курсантов, писал по этому поводу: Махно «на одном месте более одного дня или ночи не остается, чтобы не быть основательно окруженным. В случае неудачи отходит врассыпную… Как образцовый партизан, не обременяет себя пленными и под Андреевкой бросает нам 1200 красноармейцев (42-й) дивизии. Так же решительно разделывается со своими хвостами-обозами и в нужную минуту бросает эту приманку нашей кавалерии, а сам тем временем уходит быстро и далеко». Ашахманов не удерживается от едкого замечания: «кавалерия лихо атаковала обозы и уклонялась от нанесения удара основному ядру (махновцев)» (4, 42–43).
23 декабря махновцы переходят на правый берег Днепра между Екатеринославом и Александровском, вторгаясь в район, занятый 6-й армией и Первой конной. Корк отдает своим частям приказ о боевой готовности. Казалось, в действиях Махно опять нет логики: на правом берегу его ждали свежие силы, а усталость его отрядов когда-нибудь да должна была бы сказаться. Но тут тоже был расчет: на Левобережье красные хоть и вымотались, но постепенно стали к нему приглядываться, в них зарождались азарт и злость, тогда как на правом берегу его еще толком не знали. Расчет был и на расслабленность частей, прочно ставших на зимние квартиры и не желавших больше воевать. Настроения эти были сильны до такой степени, что Латышская дивизия, прекрасно себя проявившая в боях с врангелевцами, вообще была расформирована из-за желания бойцов вернуться домой, в Латвию. Но на этот раз расчет Махно оправдался лишь отчасти. Дело в том, что на его пути оказалась Первая конная, ставшая армией профессиональных рубак, в которых дух войны не угас, а только томился, как запертый в бутылку джинн.
Первая конная погнала Махно на запад, но, поскольку и буденновцы не представляли себе, с кем имеют дело, он сзади налетел на две бригады Конармии, пребывавшие в убеждении, что преследуют его, – и разгромил их.
28 декабря А. И. Корк сообщал Фрунзе: «Банды махновцев, численностью до двух с половиной тысяч пехоты и конницы, преследуемые частями 1 Конармии, достигли района Елисаветграда…» (82, оп. 3, д. 35, л. 169). На следующий день штаб Фрунзе ответил строжайшим предписанием: «Махно со своим отрядом 23/12 ускользнул от удара частей 1 Конной армии, перешел жел. дор. у ст. Помощная и направился на Запад, имея намерение, по непроверенным сведениям, идти на Умань, возможны, конечно, различные направления. Завкомандвойск Украины приказал принять все меры, дать Махно решительный отпор и при первой возможности уничтожить всю его банду» (там же, л. 174).
Все это было, как легко догадаться, чистое трепетание воздуха. Как уничтожить Махно и что вообще делать с такой огромной «бандой», никто не знал. Махно пробовал найти опору на Правобережье. Станция Помощная, Елисаветтрад – все это уже знакомые нам места, вехи летнего, 1919 года, рейда Махно по тылам Деникина. Красное командование опасалось, что Махно устремится дальше на запад, чтобы присоединить к своим отрядам «всех местных бандитов», не понимая, что местные, петлюровского толка атаманы, как раз и не присоединятся к нему. Махно знал это по собственному опыту: как и в 1919 году, здесь, в Киевской губернии, его армия обречена растаять без пополнений. Теперь, когда он избежал удара собранной против него левобережной группы войск, ему нужно было срочно вернуться обратно на восток. 28 декабря Махно возле Помощной попытался вывернуться (что было принято за попытку прорыва на запад), но неудачно.
Намерения Махно разгадал, надо сказать, не Фрунзе, а командарм—4 Лазаревич, который четко понял, что никакая Умань батьке даром не нужна и что при первой же возможности он будет прорываться назад, на левый берег. «Не исключена возможность возвращения махновских шаек на левый берег Днепра в свои прежние районы – пределы Александровской губернии, – осторожно подсказывал он. – Кроме того, при своем поспешном отходе на правый берег Днепра много махновцев оставалось и рассеялось по населенным пунктам Александровской губернии…» (78, оп. 3, д. 441, л. 2).
С ночи 28 декабря целую неделю продолжались беспрерывные бои махновцев с превосходящими силами красной кавалерии. Впервые не удавалось им всерьез оторваться, красных было слишком много, они шли сзади, пытались перекрыть дорогу спереди, облипали со всех сторон… Махно бросил под Елисаветградом все орудия, почти все тачанки, пересадив своих хлопцев в седла для скорости хода. Спасло его только превосходное знание местности и сочувствие крестьян, благодаря которому удавалось все же менять усталых лошадей на свежих. Но до самой новогодней ночи ему не удавалось оторваться от преследователей и отделаться от мысли, что на этот раз ему все же крышка. Те из партизан, кто имел возможность, переоделись – как это и положено в час смертного исхода – в чистое нательное белье…
Новый год Махно встретил в бою с червонными казаками В. Примакова. Бой кипел всю ночь – и опять махновцам сподобилось вывернуться: однако теперь у них уже не оставалось времени даже для кратковременного отдыха. Весь день 1 января 1921 года повстанцы, немилосердно реквизируя лошадей, пытались оторваться от преследования. Второго января у деревни Сабодаш они приняли бой с 8-й кавдивизией Первого корпуса червонного казачества. Участники боя вспоминали, что махновцы действовали «с четкостью, свойственной частям регулярной армии» (18, 102). Бой продолжался до темноты и, вероятно, так и закончился бы ничем, если бы во время последней атаки красных казаков махновцы не применили свой излюбленный прием: разыграв отступление перед лавой красной кавалерии, вывели ее прямо на смертоносные «пулеметные тачанки». Но сколько тачанок оставалось у них? Сколько пулеметов? Эх, если бы столько, сколько было использовано в бою с конным корпусом генерала Барбовича в Крыму! Если бы хоть полстолька…
Червонные казаки, однако, угомонились. У Махно уже не было силы бить насмерть. Откуда сила бралась отбивать удары и увертываться? В ночь на третье января, в темноте, махновцы незамеченными прошли мимо 17-й кавдивизии Г. Котовского. Утром пошел легкий снег – слабая надежда, что заметет следы и отряд хотя бы короткое время сможет двигаться в неизвестном для преследователей направлении. Но путь к Днепру преградила 14-я кавдивизия Александра Пархоменко.
Утром Пархоменко со своим штабом выехал на рекогносцировку у деревни Бузовка. Вскоре показалась группа всадников, которая не торопясь двигалась вдоль лесопосадки и посему была принята за своих. Меж тем это была махновская разведка с Марченко во главе. Марченко не знал, кто именно перед ним, но беспощадным оком бывалого партизана определил – начальство. По начальству после Крыма у него были свои соображения.
– Вы кто такие? – крикнул Пархоменко, когда кавалеристы подскакали ближе.
– Мы от Примака, – последовал ответ. – А вы кто?
– А я Пархоменко, – ответил Пархоменко.
Такой удачи Марченко не ждал. Махновцы порубали всех, оставив в живых только кучера, который на забрызганной кровью тачанке добрался до своих, чтобы рассказать о гибели комдива.
Убийство Пархоменко стало последним подвигом старого партизана Алексея Марченко. Через несколько дней он сам был убит в каком-то бою – нераскаявшимся и неоплаканным пал в землю, как все обреченные, чтобы весною взрасти бурьяном, будыльем, травой забвения. А на поминках Пархоменко, состоявшихся в Екатеринославе 15 января, был устроен торжественный митинг, на котором опять присягали и клялись отомстить. Клим Ворошилов попытался смерть товарища представить в надрывно-патетических тонах: «Товарищ Пархоменко, как всегда, был впереди своей части и на этот раз выехал вперед, даже без всякой личной охраны, но здесь была устроена засада и т. Пархоменко с товарищами наскочили случайно на небольшую кавалерийскую группу Махно и были ею окружены. Товарищи погибли геройски, бандиты расправились с ними самым зверским, самым позорным образом…» (12, 196).
Ворошилов, говоря по совести, человеком военным так и не стал, хоть и не расставался с гимнастеркой и портупеей до конца жизни, а как был, так и остался мелким партийным агитатором. Характерно, что ровно за месяц до этой своей речи он в статье «Новые задачи Красной Армии» тоже агитировал, что «архибандит» Махно (стиль!) «не представляет собой сколько нибудь серьезной опасности» (12, 191). С военной точки зрения гибель Пархоменко была вещь не только обычная, но даже и глупая, ибо, отдавая приказ окружить и уничтожить банду, комдив должен был бы знать, что она находится в непосредственной от него близости…
Весть о гибели Пархоменко, однако, быстро облетела штабы красноармейских частей. Вслед Махно пущен был сводный отряд Котовского, сформированный по приказу В. Примакова, имени которого, как паролю, и поверил Пархоменко. Тем не менее 7 января махновцы достигли-таки Днепра возле города Канева (почти на двести километров к северо-западу от мест своих обычных переправ) и, набросав на лед досок и соломы, чтоб не разъезжались копыта коней, ночью перешли на левый берег.
Махно, как всегда, казался попавшим в отчаяннейшее положение, но действовал он, по-видимому, совершенно расчетливо. Красные могли сколько угодно ликовать, что оттеснили его на север, к Полтаве, и не пустили в родной Александровский уезд. Но Махно под Полтаву стремился не случайно: здесь в лесах Константиноградского уезда действовал его вербовщик и хранитель полевых магазинов Иванюк, а Махно было нужно оружие после опустошительных боев на правом берегу. Но до Иванюка тоже еще нужно было добраться: кавалерия Котовского шла от Махно с отрывом в несколько часов, а навстречу ему подтягивались превосходные и совершенно свежие силы. Но Махно опять не дал себя уничтожить.
Возле села Песчаное махновцам предстояло пересечь линию железной дороги, охраняемую бронепоездом. Котовцы висели буквально на хвосте. В этой совершенно отчаянной ситуации партизаны пустились на дерзостный шаг: к командиру бронепоезда был послан верховой с удостоверением взводного командира 42-й дивизии. Предъявив документ, махновец подвел командира бронепоезда к амбразуре и, указав на приближающихся к полотну махновцев, сказал:
– Это наша 14-я дивизия. А там, – повел он рукой в сторону, где уже видны были разъезды Первой конной, – махновцы. Начдив просит пропустить нас через полотно, потому как кони вымотаны и в атаке нам не устоять. А за переездом мы обождем подхода червонных казаков… (18, 107).
Командир бронепоезда, видно, совершенно простодушнейшим был человеком, если поверил взводному 42-й дивизии – которой и в помине не было поблизости, – отрапортовавшемуся к тому же представителем совсем другой, пархоменковской части. Добро, если бронепоезд, пропустив махновцев через железную дорогу, не открыл огонь по своим…
Оказавшись на Левобережье, махновцы тронулись не в свои родные места, чего от них, безусловно, ждали, а дальше на северо-восток, через «свои» уезды Полтавской губернии – где пополнились вооружением и людьми – в Харьковскую.
Под Харьковом Махно отпустил Аршинова – нелегалом пробраться за границу и во что бы то ни стало написать историю махновского движения. Простившись с учителем, он двинулся дальше, достигнув южных областей России. Показательно, что и в этих местах, где имя Махно разве что слышали, ядро Повстанческой армии быстро облипало народом, – в России тоже ситуация была взрывная: антоновщина бушевала вовсю, в Сибири как раз взялось и пошло гореть, как по сухой тайге. К Махно, как к Антонову, крестьяне являлись с голыми руками в надежде, что оружие добудут в бою. На одной из сохранившихся фотографий махновцев, стоящих вдоль железнодорожного полотна, видно, что среди двух с половиной десятков повстанцев лишь у двух-трех есть ремни, на которых висят сабли. У одного имеется, похоже, что-то огнестрельное. Остальные – с голыми руками. Это обстоятельство мы тоже должны учесть, чтобы понять, какая армия сопротивлялась красным…
Меж тем, проанализировав итоги более чем месячных боев с Махно, М. Фрунзе решил, что недостаточно «передавать» его от одной части – другой. Одновременно должно осуществляться постоянное преследование достаточно сильным отрядом. Для этой цели был сформирован летучий конный корпус под командованием В. С. Нестеровича, который, начиная с 15 января, непрерывно преследовал Махно на протяжении 24 дней. Каждый день имея с ним стычки, но ни разу не накрыв его.
Сколько можно было выдерживать такое напряжение? Непонятно. Все сущее устает. Есть предел человеческим силам, тем более что существует неуловимая грань, за которой начинается психогенная усталость, подавленность, страх… А махновцы дрались! Я не случайно в самом начале главы применил к ним определение – «юродивые». Юродивый только мог это выдержать, ибо юродивый – это психологически особенный тип: без судьбы, без быта, без семьи, без собственно-личного, который в обмен на все эти атрибуты человеческой жизни и тепла получает сверхчеловеческую выносливость, невосприимчивость к лишениям, какое-то насмешливое презрение к своей судьбе. Но «юродивый», по-русски, всегда блаженный, добрый, Христа ради безумный человек. Для махновцев двадцать первого года надо бы подыскать другое определение. Они не юродивые – они юроды. Безумные, но оставленные Богом без пути, во мраке. Омраченные. Окаянные.
Юрод спит на снегу в одной холщовой рубашке – и не простужается. Или вообще не спит. Не ест. Ничего не боится. Но и не сострадает. Его смех – скорее имитация человеческой веселости, юрод глумится, а не веселится, хохочет, но не радуется. Он вне радости, вне всего человеческого.
С тех пор как Махно и повстанцы были в последний раз объявлены вне закона – а значит, оказались изверженными из человеческого стана, достойными только смерти и посмертного поношения, – все, что творили они, было сплошное юродство и окаянщина. И взятие Бердянска, и митинги, проводимые Махно, и раздача добра из разбитых складов, под визг тальяночки – когда преследователи были на расстоянии двухчасового перехода, и бессмысленное уничтожение большевистских работников, которых под свист и улюлюканье выволакивали на майдан и, смеясь, рубали шашками, и вечное оборотничество, представление то примаковцами, то буденновцами, красное знамя, с которым, свернув черное, входили в село с каким-то мрачным восторгом вопя:
– Буденновцы мы! Всех коммунистов на сход! Митинг будет!
Залетев впервые в Россию, на юг Курской губернии в конце января 1921 года, махновцы в Корочанском уезде похитили всю литературу из Центропечати, перебили грампластинки, как могли, испортили библиотеку и музей, растворили и дали разворовать продсклады. В слободе Белой убили 8 милиционеров, жену начальника милиции изнасиловали, выпустили из-под замка пять цыган, арестованных за кражу…
Во всем этом нет никакого видимого смысла. Так не ведет себя армия, так ведет себя банда, окаянный сброд. Да.
А на что еще, кроме бандитизма, сопротивления отчаянного и озверелого мог рассчитывать большевистский режим, затыкая миллионам людей, трудящихся на земле, глотку окриком или – в кость – солдатским сапогом?! Бандитизм как политическое оружие рождается от отчаяния, от немоты. Когда нет возможности объясниться словами. Когда никто объяснений не слушает и не ждет, не считает тебя за человека. Вот тогда, чтобы все-таки быть услышанным, отверженному приходится обращаться к другому языку – языку ненависти.
После прохода Махно в уездах по нескольку недель не могла возобновиться советская работа: люди были кто убит, кто до смерти напуган, бумаги сожжены, печати похищены (11).
Это бешенство, пляска юрода, не знающего больше ни человеческих чувств, ни свойственной человеку усталости. После того как измочаленный погонями конный корпус Нестеровича сняли с преследования банды, Махно продержался еще месяц, до середины марта, прежде чем был вынужден раздробить армию на мельчайшие отрядики и в очередной раз распустить.
Сохранилось описание махновских отрядов, вторгшихся в пределы России: «8000 человек, причем из всей группы вооруженных винтовками человек 300, а остальные вооружены саблями, наганами и бомбами, имеют 55 пулеметов и одно орудие, но снарядов и патронов очень мало» (11, 4).
Наверняка восемь тысяч образовалось лишь на краткий миг сведения счетов с ненавистной властью. Бей, пока пришел батька Махно! Ушел – беги до хаты.
Какая бы ни держалась власть в государстве, эту беспощадную, дикую, все разрушающую на своем пути орду, по всей логике власти, следовало, прежде всего, уничтожить.
В этом была правда большевиков. Но и смрадными, раскровавленными устами окаянного юрода тоже высказывалась правда, и из дрожащих, покрытых коростой губ рвался наружу надтреснутый, полный ненависти вопль:
– Не замайте, дайте жить по-своему, дайте дышать!
Вот смысл всей окаянщины, этого бесчувственного сопротивления, этой тупой жестокости. Нет необходимости вновь перечислять причины, поддерживавшие в стране неугасимый огонь крестьянской войны и до, и после провозглашения нэпа. Не только в размере наделов земли и норме подлежащего сдаче хлеба дело. Мятежники чувствовали, что за всеми деревенскими мероприятиями большевиков стоит нечто большее, чем просто государственное обирание трудящегося на земле человека. Его лишают достоинства. Его лишают права самому решать свою судьбу. Чем глубже вдохнул человек воздуха революции, тем острее он чувствовал унижение. Сильные не могли смириться с этим. Они знали, что достоинством можно и поступиться, но тогда жизнь утратит полноту и цвет, неистовую, кипучую силу свою и обернется скукой, канцелярией, неволей. Вот почему после нэпа не улеглась повсеместно и благодарно крестьянская война: мятежные духом знали, чувствовали, что нэп – это тоже кусок, брошенный псам, подачка, временное разрешение дышать одной ноздрей. А еще оставались настоящие мужики, которым этого было мало. Разрешение крестьянам жить Ленин дал в марте, а мятежники на Украине, на Тамбовщине и в Сибири резались до конца лета. Потому что в борьбе есть один закон: пригни голову – поставят на колени.
Не совсем привычные параллели безнадежным битвам русских и украинских крестьян отыщутся в Новом Свете. В 1876 году, когда, казалось, выгорела, выдохлась, закончилась навсегда индейская война в Соединенных Штатах, а индейцы были окончательно усмирены и согнаны со своих земель, восьмидесятилетний вождь запертых в мексиканскую резервацию апачей Нана вдрут совершает побег с горсткой своих людей и пускается в трехмесячный головокружительный рейд по юго-западным штатам США. Несколько сот угнанных коней и несколько десятков убитых бледнолицых были последним словом старого вождя. Он чувствовал, что перед смертью должен сказать его, и сказать достаточно убедительно: мы не сломлены. Мы грозны. Мы воины.
Его понял молодой вождь, Херонимо. Для белых он навсегда останется дикарем, так и не понявшим, какую выгоду можно извлечь из послушания, так и не взявшим в толк, какую чудную податливость сообщает миру доллар, с помощью которого так просто извлекаются из мира вещи, прежде добываемые ценою опасностей и усилий…
У Херонимо было меньше полусотни воинов – а против него действовала пятитысячная американская армия, несколько мексиканских полков и сотни индейцев-следопытов, прельщенных благами, которые сулили им новые властители Америки. Апачи Херонимо не могли отвоевать себе древнюю родину. В последнем «рейде» их было всего одиннадцать человек, пронесшихся, подобно шальной пуле, по Нью-Мексико и Аризоне. Они пытались обрести не землю, а чувство. Очень редкое, очень дорогое – достоинство.
Те, что сохранили его, погибли, так и не смирившись с неволей. Но, погибнув, оставили последующим поколениям завет, который давал им надежду прожить жизнь с высоко поднятой головой: мы не были сломлены. Из несломленных – ныне и прежде – вяжется столп истории народа, на который потом уже навешиваются политика, курсы валют, дворцовые интриги и будуарные скандалы фельдмаршалов и министров.
Из тридцати восьми мятежных апачей, которых в конце концов выловил генерал Миллз, чтобы, заточив в товарный вагон, перегнать на пожизненное заключение в крепость в далекой, влажной, апельсиновой Флориде, шестерым удалось бежать еще до погрузки, одному – по дороге, за тысячи километров от родной степи, у города Сент-Луис, где уже звучал мотив Saint Louis Blues и вот-вот должны были появиться на свет те, кого этот мотивчик сделает звездами сцены новой Америки. «Целых два года без карты и компаса он пробирался сквозь страну, в которой уже не было места для индейца, туда, где еще недавно была свобода, – в апачские горы» (73, 343). Последний свободный индеец Соединенных Штатов принес своим соплеменникам то, чего не могли им дать все вместе взятые предатели-следопыты, поклонившиеся силе белого человека. Ибо это нельзя купить. Может быть, этим нельзя даже и поделиться. Может быть, это можно только взрастить в себе и носить внутри, как молчание, в тайной надежде, что другие все же поймут драгоценное значение этой тишины – стойкость несмирившегося борца…
Махно был обречен, как индеец. Поначалу он надеялся – ведь предательство большевиков было столь очевидным, столь явственной была неправда их, что, разбив несколько красных дивизий, он вызовет восстание в Красной армии и поставит большевиков на колени. Он не понял, что время революционного романтизма кончилось. Очень надолго. Что время взрывов миновало, наступает время покоя. Махновцы могли зарубить Пархоменко и в придачу еще Котовского, Фрунзе, Раковского – но это ничего не изменило бы. Против них работал механизм – Система. Они смутно чувствовали это и, как могли, мешали ее работе – убивали служащих Системы, рвали провода связи Системы, разрушали ее железные дороги, – но этим могли только чуть-чуть засорить механизм, но не остановить его ход. Сила Системы – в ее установке на слабость человека и в открывающейся в связи с этим возможностью манипулировать огромными массами людей. Пусть полки Системы нерасторопны – но за свой паек они приговорены к полному послушанию.
Пусть кормители Системы недовольны – но их заставит повиноваться страх, и закрома Системы никогда не пребудут пустыми. Тех, кто не подчиняется, Система ломает. Тем, кто склоняет голову и служит, – дает надежды на рост, на достижение чинов и славы. Сила Системы не только в терроре, под нож которого с механической неотвратимостью попадает всякий несогласный, но и в положительно формулируемых ценностях. Прежде всего Система (в обмен на «излишества» свободы) дает ощущение защищенности и стабильности. Она формулирует Большой Смысл и встраивает его в человеческие души, избавляя своих чернорабочих от мучительной обязанности отыскивать смысл бытия своего, и дарует им ощущение причастности к величественным процессам преображения мира, невиданного доселе созидания нового. В этом огромная притягательная сила большевизма, колоссальное его преимущество перед махновщиной, которая с 1920 года проявляла себя исключительно как разрушительная сила. И хотя расчет Махно на индивидуальное достоинство солдат революции оказался не совсем уж пустым, хотя в феврале 1921 года – когда было, впрочем, слишком поздно – действительно восстала одна из буденновских частей, омерзившись ролью, которая была ей навязана Системой, Система оказалась сильнее.
С момента разрыва соглашения, заключенного между Повстанческой армией и Совнаркомом Украины, на территории махновского района систематически проводились мероприятия, которые мы обязаны хотя бы перечислить, если хотим понять, какой жуткой силы железная лапа накладывалась на деревню.
2 декабря 1920 года приказом № 1 начальник тылового отдела 4-й армии Гронштейн в бывшем «вольном районе» устанавливал следующий режим:
«1. Уезды Мелитопольский, Бердянский, Александровский и Мариупольский объявляю на осадном положении. 2. Появление на улице или выезд из города, села или деревни после 10-ти час. воспрещается. 3. Лица, захваченные без надлежащего пропуска после указанного времени, будут немедленно расстреливаться без суда и следствия. 4. Уличенные в укрытии и оказании помощи махновцам подлежат немедленному РАССТРЕЛУ…» (78, оп. 1, д. 6, л. 10).
В развитие сего приказывалось немедленно под страхом расстрела: выдать всех, кто состоит (или состоял прежде) на службе у Махно, сдать оружие; сдать кавалерийское снаряжение вплоть до седел; широчайше оповестить население о содержании приказа.
Пока Махно дрался с частями 4-й армии под Бердянском и расшвыривал красных вокруг Гуляй-Поля, это суровейшее предписание не стоило и ломаного гроша. Но когда в конце декабря он ушел на правый берег, бумага вступила в силу.
Прежде всего – по селам и местечкам были расставлены крепкие гарнизоны. В секретной сводке командования 4-й армии читаем:
«7-я кавдивизия двумя кавбригадами займет Васильковский район и одной кавбригадой Болышетокмакский. Сводная дивизия 1-й харьковской бригадой займет Черниговский, Берестовскиий, Цареконстантиновский районы…» (78, оп. 3, д. 441, л. 8).
18 декабря – в тот же день, когда махновцы ушли из Гуляй-Поля, спалив обоз Богучарской бригады, здесь подоспевшими частями 42-й дивизии был организован Ревком, о чем и было доложено в штаб 4-й армии. Наконец-то и Гуляй-Поле дождалось «правильной» советской власти! Тут-то, должно быть, и возник на станции Гуляй-Поле бронепоезд, в котором члены Ревкома ночевали, покончив свои дневные дела, опасаясь, очевидно, выражений народной признательности. Но поскольку спать в бронепоезде, особенно зимой, неуютно, да и несолидно как-то для власти, власть должна была заставить уважать себя. Так с неизбежностью наступал этап «чистки»: вместо того чтобы бояться тех, кто внушал опасения, нужно было уничтожить их – и заставить остальных бояться себя.
В рапорте командованию 4-й армии помначдив сводной дивизии Ульман докладывал: «С 13 по 24 декабря успешно велась работа по очистке деревень от махновщины и отбору оружия. Для успешной работы в каждом полку созданы ревтройки во главе с комиссарами полков. За последние дни еще не поступили новые цифровые данные, но общее число расстрелянных махновцев-бандитов и активно поддерживающих их крестьян достигает приблизительно 1100 человек, среди них несколько махновских командиров, штабных работников и организаторов. Сожжено 15 домов… Работу затрудняет то, что приходится очень часто менять место стоянок и нет возможности довести работу до конца… Более основательные чистки произведены в деревнях Андреевка, Конские Раздоры, Федоровка. Приступлено к основательной чистке Туркеновка и Пологи…» (78, оп. 1, д. 6, л. д. 103–104).
Конечно, работа предстояла непростая! Государственная предстояла работа! Когда в декабре 1920-го Чека трясла одно из опорных махновских сел, Вознесенку, «добровольная» сдача оружия принесла: 69 винтовок, 9 револьверов, 11 сабель, 65 обрезов, 18 бомб, 2300 винтовочных патронов, 336 артснарядов и 2 коробки пулеметных лент. Через несколько дней при внезапном шмоне в той же Вознесенке было обнаружено дополнительно: 41 винтовка, 35 обрезов, 1068 винтовочных патронов, 40 винтовочных стволов и 5 бомб. Еще через несколько дней обнаружено и изъято: 11 винтовок, 5 револьверов, 1 бомба, 28 обрезов и 980 винтовочных патронов (40, 145).
Конечно, искоренение бандитизма особого подхода требовало – не дурной кавалерийской нахрапистости, а подлинной дотошливой въедливости, усидчивости, приметливости, – чтобы в деревенском клубке всё терпеливо распутать и от нетерпения не оборвать ниточку, если вдруг потянется…
Надо сказать, энтузиастов такого дела у Системы нашлось немало. Государственная работа по искоренению бандитизма ведь не какой-нибудь зауряд-кампанией была, а делом первоочередной важности, в котором можно было и замеченным быть, и возвышенным. Сколько красных командиров на этом Красное Знамя себе сработали! Ну, а народец поменьше, который за орденами не гнался, имел собственный профит: не орден, так хоть местечко в губернской прокуратуре…
Временно исполняющий дела председателя ревтрибунала 9-й кавдивизии Михаил Жихарев старательно учитывал плоды своей общеполезной деятельности: «Присуждены к высшей мере наказания Провенко Александр Евдокимович, 27 лет, уроженец села Знаменка… и Никита Антон Кириллович, 47 лет, уроженец дер. Хамировки за принадлежность к бандам Махно и вооруженный грабеж». На рапорте указано время вынесения приговора – десять часов вечера. Ровно через полчаса Жихарев подписал еще одну «высшую меру» – Коху Михаилу Ивановичу «за службу добровольцем в партизанском отряде белых и расстрелы советских работников» (78, оп. 1, д. 3). Ревтрибунал 9-й кавдивизии не особенно отвлекался перекурами…
Весь декабрь и январь в махновском районе – сплошные «чистки» и расстрелы. Судили под расстрел почему-то ночью. Во всяком случае в рапортах Жихарева упрямо указывается время около 22 часов: «16 февраля 21 час. 14 мин… вынесен смертный приговор народному судье 5 участка Александровского уезда Литвинову Александру Дмитриевичу 41 лет… за укрывательство раненого бандита шайки Махно…» (там же).
А расстреливали, по-видимому, утром, посветлу. Иван Александрович Мишин, тот самый петроградский курсант, который когда-то… Да-да, сидел в стогу сена на берегу Сиваша, после – вшивый, голодный, с вылезающими от грязи волосами – все маршем, маршем по ледяной степи в отряде курсантов-карателей, – стал свидетелем потрясающей в своей обыденности и простоте картины: «Однажды вечером в декабре 1920 года курсанты захватили за ужином в одной из хат пять махновцев. На дворе, в скирде соломы, были обнаружены пулеметы, у коновязи лошади. Судил их ротный суд, куда входил командир, комиссар и курсант в качестве секретаря, приговорил к расстрелу.
Днем я и два других курсанта роты связи сидели, греясь на солнце, и курили папиросы „Сальве“ одесской табачной фабрики. В это время к нам подошел мужчина в черном драповом пальто, в кубанке с красным верхом и хромовых сапогах, примерно тридцати лет. Его конвоировал курсант, держа винтовку наперевес. Поравнявшись с нами, мужчина попросил: „Ребята, дайте закурить в последний раз“. Мы дали ему папиросу, он ее закурил, и они пошли дальше. Когда они прошли метров сто, раздался выстрел. Мужчина упал, а когда мы подошли, он был уже мертв. Спросили курсанта, кто это. Курсант ответил: „какой-то известный командир из войска Махно“» (57).
Мы не знаем – кто. Но принял он смерть спокойно, зная, как настоящий боец, что расстрел – это еще не худшая штука, которая может приключиться с человеком на войне.
Можно было попасть на вербовку Чека или стать «ответчиком», раскроить свою душу страхом, обменять жизнь – на ежечасную возможность быть убитым… Пожалуй, институт «ответчиков» – одно из наиболее иезуитских изобретений большевиков в борьбе против Махно. М. Фрунзе так объяснял его смысл: «Ответчики назначались из числа кулацких элементов и, в отличие от заложников, оставались на свободе, несли персональную и имущественную ответственность за невыполнение возложенных на них обязательств, главнейшими из которых являлось своевременное предупреждение властей о готовящихся бандитских налетах, появляющихся бандитских агентах и т. д.» (82, оп. 1, д. 21с, л. 18). В этих строчках зашифрован смертный приговор за недонесение. В них – зародыш будущего повального доносительства и анонимочек…
Что ж, большевики черной работы, как известно, не боялись – не мытьем, так катаньем. Не получается создать комитеты бедноты – ничего, своих натравим, «из числа кулацких элементов», потому как каждому ясно, что такое «персональная ответственность» в такое время…
Однако в конце января 1921 года кропотливая деятельность по искоренению бандитизма в бывшем вольном районе была временно прервана. Поблизости вновь появился Махно.
Он шел с севера. Из Белгородской губернии вторгся в пределы Харьковского военного округа и двинулся в родные места, чтобы таким образом замкнуть, скрепить гуляйпольским замком маршрут своего очередного рейда – как он делал всегда. Но на этот раз каждый шаг стоил ему неимоверных трудов. «Ты нашу конницу знаешь, – писал Махно Аршинову для „Истории“, – против нее без пехоты и броневиков большевики никогда не устаивали, и я, правда с большими потерями, расчищал перед собой путь, не меняя маршрут. Наша армия каждый день доказывала, что она есть подлинная народная армия. По создавшимся внешним условиям она логически должна была таять, а она росла…» (2).
Но на этот раз Махно не суждено было вернуться в Гуляй-Поле. По правде говоря, больше он не увидит его никогда. Но он не знал, что будет так. Он пытался играть на административном делении, на «несостыковке» красных воинских частей, но части стояли крепко, «отвечая» каждая за занимаемую ею территорию. Кроме того, за ним неотступно следовал Нестерович. На чью бы территорию Махно ни вступал, для его преследования немедленно создавался дополнительный мобильный отряд из кавалерийских частей. В места предполагаемого проникновения банды также посылались надежные силы для предупреждения восстания…
Если пересчитать все части, которым было поручено настичь и уничтожить Махно, их окажется так много, что невольно возникает мысль о том, что до определенного времени имя Махно действительно внушало такой ужас, что части эти как бы даже против своей воли уклонялись от прямого боя с ним. Махно нужно было быть многократно, хоть и помалу, битым, чтобы преследовавшие его войска почувствовали себя сильнее его и сами поверили в возможность победы. Это случилось не сразу. Но факт: впервые зимой 1921 года у Махно недостало сил завершить операцию так, как он хотел. Его все-таки сбили с курса, отвернули от Гуляй-Поля. Он больше не мог ходить, «не меняя маршрут». Сам батька еще не понял, что это значит. Он только с горечью заметил нарастающую плотность и смертоносность преодолеваемого пространства: «Полк потерял убитыми более 300 человек, половину своих командиров, в числе последних наш славный милый друг юноша Гаврюша Троян. Пуля сразила его наповал. С ним же рядом Аполлон и много других верных и славных товарищей умерло…» (2).
Сбивали, постепенно сбивали красные неутомимый шаг двужильного хромого партизана. Правда, и красные не сразу это заметили, не сразу почувствовали, что он ослаб.
18 января Махно занял городок Недригайлов. Командующий Харьковским военным округом Р. Эйдеман получил от Фрунзе приказ уничтожить банду во что бы то ни стало. Эйдеман выполнил приказ – но через полгода. В конце июня 1921 года именно в бою под Недригайловом будет встречным ударом расколото ядро махновской армии, которое после этого начнет неудержимо дробиться… Но на этот раз Махно ушел.
Фрунзе очень нервничал. В январе он получил очередной нагоняй от Ленина, тем более обидный, что вождь не самолично ему выразил недовольство, а поручил взбучку заместителю Троцкого Э. М. Склянскому, послав ему телеграмму следующего содержания: «Надо ежечасно в хвост и в гриву гнать (и бить и драть) Главкома и Фрунзе, чтобы добили и поймали Антонова и Махно» (46, т. 52, 42).
Легко сказать – «добили и поймали!». Как военный, Фрунзе не мог не понимать, что то, о чем просит Ленин, – невыполнимо. Но он старался. Он очень старался. Дело в том, что с ним случилась беда, несчастье: он впал в немилость.
«В. И. Ленин неоднократно встречался с М. В. Фрунзе, интересовался ходом борьбы с махновщиной, – пишет в своей книге о Махно В. Волковинский, – давал ценные указания по дальнейшей организации ее разгрома. Напутствия вождя, как вспоминал адъютант Михаила Васильевича С. А. Сиротинский, не только помогали М. В. Фрунзе в решении сложных вопросов борьбы с контрреволюцией, но и вдохновляли его, после встреч с В. И. Лениным он ощущал небывалый подъем сил, работал с удвоенной энергией» (12, 190–191).
Все это было бы в точности так, если бы Фрунзе в это время действительно встречался с Лениным. Но в том-то и дело, что за год, на который пришелся разгар борьбы против Махно, Ленин до встречи с Фрунзе не снизошел. Он встречался с ним в сентябре 1920-го, когда Фрунзе отдавали Южный фронт, – и потом, осенью 1921-го. Может быть, действительно, вдохновлял. Но между этими двумя датами встречи не было. Это легко устанавливается документально по биографической хронике жизни Ленина, являющейся наиболее точным и документально выверенным его жизнеописанием, подтверждается также материалами выходивших в дополнение к собранию сочинений и биохронике «ленинских сборников». И если визит неизвестного украинского анархиста в 1918 году еще мог ускользнуть от фиксации биографов – и время было сумбурное, и человечек маленький (кто ж знал, что этот парень будет батькой Махно?), то встреча с командующим Южным фронтом в 1920–1921 годах от биографов никак ускользнуть не могла бы. Так что – не было ее.
Почему – нам неведомо. Но это не была случайность. Ленин принимал сотни людей и не принять командующего победоносным фронтом «по случайности» не мог. Он сознательно лишил Фрунзе своего благорасположения: «шлифовал» характер. Очевидно, его разозлило «добренькое» обращение Фрунзе к врангелевцам. И хотя после этого он выставил его лжецом и предателем, этого ему показалось мало. Нужно было, чтобы комфронтом как следует помучился чувством вины.
28 ноября, вскоре после разгрома Врангеля и два дня спустя после «разгрома» махновцев в Крыму, в Таврии и в Гуляй-Поле, Фрунзе выехал в командировку в Москву. Наверняка он, добывший для Страны Советов решающую победу, рассчитывал на встречу с вождем. Ждал скромного, по-большевистски организованного триумфа. Все полководцы ждут триумфа.
Фрунзе не дождался. Вождь его не принял.
Вместо этого на Фрунзе взвалена была тяжелая и очень грязная военная работа – разделаться с политическим бандитизмом на Украине. И все. С этим Фрунзе уехал восвояси, так и не изведав славы победителя. Как всякий настоящий партиец, Фрунзе не роптал и рьяно принялся за отряженное ему дело. Но невниманием Ленина он был, по-видимому, глубоко удручен. Ему хотелось скорее сообщить вождю радостное известие. После боев с махновцами под Андреевкой и Федоровкой он отправил в Москву телеграмму, в которой прочувствованно сообщал, что прорвавшаяся было из «котла» семитысячная (!) армия повстанцев на четвертой линии окружения в основном разгромлена и только Махно с четырьмя сотнями всадников удалось уйти. Вместе с телеграммой Фрунзе послал в Москву просьбу позволить ему приехать на Восьмой Всероссийский съезд Советов. Он думал, что заслужил. Он хотел понравиться.
А вышло, что обманул: Махно с основными силами вырвался, что и доказал, истребив штаб петроградской бригады и совершив ряд других беспощадств. В результате Фрунзе на съезд Советов приехал, но опять во второстепенной роли. Слушал доклады Ленина, Кржижановского, Троцкого, Зиновьева. Поражался грандиозности задач мирного хозяйственного строительства, встающих перед страной (на съезде был принят план ГОЭЛРО и много было сказано слов про транспорт, промышленность и сельское хозяйство). Но столь важной для Фрунзе личной встречи с Лениным так и не произошло (случайная, коридорная, может, и была, но даже о ней хронисты не упоминают). Фрунзе встретил в столице Новый год, а вернувшись на Украину, узнал, что махновцами убит Пархоменко. Он, как оплошавший солдат, лихорадочно принимается демонстрировать необыкновенную активность и усердие. Составляет план уничтожения махновцев. Возглавляет Центральное постоянное совещание по борьбе с бандитизмом. Но на посту председателя этого совещания он остается всего только месяц, собственно, до первого его заседания, в ходе которого он был освобожден от исполнения обязанностей, хотя и остался заместителем Раковского, ставшего председателем. Явно какая-то тень недовольства пала на него, и от этого творилось с ним что-то странное.
Фрунзе 1921 года загадочен: похоже, в нем схлестнулись потоки эмоций, с которыми он впервые в жизни не мог совладать. Впервые за все время Гражданской войны он заболел и взял бюллетень. Его мучила язва. Плохая еда – или нервы? Трудно предположить, что у главнокомандующего вооруженными силами Украины и Крыма, перемещавшегося по стране в персональном поезде, был какой-то ущерб в еде.
Значит, нервы. Одержал крупнейшую победу и на самом подъеме, на вдохе, когда он уже в грудь воздуху набрал, чтоб возвестить: «прощаю!» – был одернут. Впал в немилость. Дали грязное дело, сделали карателем (он не мог не понимать, не чувствовать, что речь идет не о ликвидации нескольких сот бандитов, как требовал думать Ленин, а о планомерной войне с крестьянами). Махно был постоянным источником его непрекращающихся невротических терзаний. Дошло до того, что летом, заслышав о приближении банды, Фрунзе совершает совершенно неадекватный поступок, бросаясь навстречу ей, на верную смерть – с тремя сопровождающими. По чистой случайности он остался в живых – кони оказались хороши. Но он не мог больше! Не мог, чтоб его «били, гнали, драли»!
Первый приступ болезни у Фрунзе случился 6 февраля, когда заместитель Троцкого Склянский получил второе «предупреждение» от Ленина. В «предупреждении» беспощадно констатировалось: «Наше военное командование позорно провалилось, выпустив Махно (несмотря на гигантский перевес сил и строгие приказы поймать), и теперь еще более позорно проваливается, не умея раздавить горстку бандитов». Ленин потребовал отчета обо всем, что происходит (включая использование аэропланов и бронепоездов), и завершил «предупреждение» суровым назиданием: «И хлеб, и дрова, все гибнет из-за банд, а мы имеем миллионную армию. Надо подтянуть Главкома изо всех сил» (46, т. 52, 67).
После этого «подтягивания» Фрунзе и выключился на неделю.[28] И, надо сказать, в самый неподходящий момент, потому что случилось то, что могло ввергнуть Ленина в самый свирепый гнев: взбунтовалась Первая конная. Правда, почти сразу выяснилось, что взбунтовалась одна лишь 4-я дивизия, и даже не целиком, а одна кавбригада – но последствия могли быть непредсказуемыми. Вся страна тлела мятежами. Иной раз для выступления не хватало только зачинщика – а комбриг Маслаков Григорий Савельевич был весьма популярным командиром, два «Красных Знамени» имел, да и вообще, зарекомендовал себя геройски. В последнем его наградном листе говорилось, в частности, об «исключительной храбрости и мужестве», проявленных в боях против белополяков, в которых Маслаков отличился, прорвав под Львовом со своей бригадой фронт, захватив 500 пленных и в жаркой схватке с батальоном польских легионеров зарубив двадцать человек.
Что заставило опытного, далеко не молодого (44 года) красного командира, объявить себя партизаном, сторонником Махно и призвать население хутора Кочережского, где стояла бригада, к восстанию против советской власти, мы можем только гадать. Но совершенно ясно, что мятежниками должно было владеть ощущение, что существующая власть настолько жестока и неправедна и мерзость ее настолько очевидна всему народу, что надо только восстать и возвысить слово правды, чтобы она пала. К несчастью для Маслакова, это было не так. К несчастью для красного командования, действовать против него можно было только частями Первой конной, которые были поблизости, – и тут мог случиться подлинный ужас и мятеж большой силы. Но не действовать тоже было нельзя, потому что Маслаков пошел на соединение с Махно.
По 4-й армии, которая держала весь махновский район, пролетела тревожная дрожь категорических приказов нового командарма А. С. Белого:
11 февраля, 2 часа ночи: «В связи с предательством комбрига… Маслакова, сумевшего на почве пьянства и демагогии увлечь за собою на путь неповиновения Советской власти значительную часть 19 кавполка… приказываю: Первое. Известить о случившемся начдива 7 кавдивизии и комбрига Интернациональной, стоящих на пути отряда Маслакова. Второе. Задержать и разоружить отряд Маслакова, использовав предварительно меры политического воздействия…» (78, оп. 3, д. 441, л. 70). И еще: «Ввиду опасного положения, создающегося в связи с приближением к району Гришино – Б. Михайловка отряда Махно, командукр приказал: 1) вести неотступное преследование частями Первой конной армии изменника Маслакова вплоть до его захвата… 4) особое внимание обратить на недопущение присоединения Маслакова к Махно не только из тактических, но и из политических соображений» (там же, л. 73).
Махно меж тем, обойдя с севера Луганск, все ближе подступал к своим местам. 9 февраля махновцы пересекли железную дорогу Лозовая—Славянск и, можно сказать, ступили на родную землю. Р. Эйдеман пытался загородить им путь, выставив на линии Чаплино—Гришино шесть бронепоездов, однако махновцы без труда нашли подходящую лазейку в этом бронированном заборе и двинулись дальше, по-видимому, через свою агентуру оповещенные о том, что на соединение с ними идет буденновская часть. Для Махно эта встреча была необыкновенно важна. Он все еще думал, что это – лишь первая ласточка и вслед за нею чередою пойдут красноармейские бунты, волною которых вновь вынесет его наверх.
12 февраля Фрунзе вынужден был пересилить недомогание и строжайше предписать Р. Эйдеману окружить и уничтожить Махно в районе Чаплино—Гришино, комбинируя действия войск с бронепоездами. Один за другим Фрунзе отдает приказы, имеющие целью – покончить с Махно к 20 февраля, ко дню открытия V Всеукраинекого съезда Советов. Того самого съезда, на который, согласно подписанному им самим в октябре соглашению, должны были свободно избираться делегаты от махновцев.
Теперь махновцев надлежало уничтожить. Фрунзе все хочется поспеть к круглой дате, сделать «подарок» Советской власти – и выбросить Махно, как кошмар, из головы. Казалось, все продумано: район Гуляй-Поля был немедленно занят проверенными частями. Создана еще одна маневренная группа из частей Первой конной. Проходы на восток и отход на север закрывали одиннадцать бронепоездов. Была поставлена задача частям: загнать, окружить, уничтожить. Сделаны строжайшие предупреждения: чтоб уж на этот раз…
Махно как будто издевался над Фрунзе. Семнадцатого стало известно, что накануне «банда Махно и части Маслакова численностью около 1000 человек заняли станцию Розовка, разгромили ее, порвав провода и уничтожив телеграфные аппараты, и подожгли мост на 351 версте. После двухчасового пребывания на станции бандиты, преследуемые частями интеркавбригады, направились на север… Не исключена возможность возвращения Махно в Гуляй-Польский район. Начальник Мариупольского укрепрайона доносит, что рассеявшиеся на мелкие части бандиты (возможно – маслаковская группа) перешли линию желдороги Мариуполь—Волноваха…» (78, оп. 3, д. 441, л. 82).
Махновцы и маслаковцы, разгромив станцию Розовка, действительно разделились. Почему – не совсем понятно. Махно в письме к Аршинову писал, что отправил отряд «Маслака» в экспедицию на Кубань, но это звучит, по меньшей мере, самонадеянно и претенциозно. Маслаков подчиненным Махно не был, виделись они лишь несколько часов – какие приказы мог отдавать батька мятежному комбригу? Вполне возможно, что, обсудив ситуацию, Махно и Маслаков действительно признали положение неблагоприятным для открытых боевых действий и решили действовать самостоятельно. Маслаков, видно, был из кубанских казаков – естественно, он стремился «к себе». Через несколько месяцев, летом 1921 года, загнанный Махно сам уходил в те места и целый месяц шарил по ним, кого-то ища… Но не нашел. Еще в июне маслаковцы рейдировали в Терской области, ведя «умеренную эсеровско-меньшевистскую пропаганду» или даже агитируя за советскую власть «при хороших, честных коммунистах» (49). Но после июля сведений о Г. С. Маслакове уже нет…
После разделения с Маслаковым Махно пришлось туго. Его зажали и начали окружать. Вечером 18 февраля махновцы попали под обстрел бронепоезда № 44, который принудил их частично рассеяться, а уже утром 19-го – атакованы маневренным отрядом 42-й дивизии и 125-й бригадой и, по донесениям, «в панике бежали на Рождественское». Ввиду того, что Махно был обставлен тремя бронепоездами и со всех сторон окружен, 42-й дивизии было в очередной раз строжайше приказано добить его. Были подтянуты резервы из частей, охранявших азовское побережье, 7-я кавдивизия, интеркавбригада Мате Залки. Все старые друзья собрались добивать атамана. Тщетно!
Утром 20 февраля махновцы ударили на хутор Немецкое, где стояла 124-я бригада 42-й дивизии, разгромили ее (в очередной раз!) и небольшими отрядами ушли в разные стороны…
После этого красным командованием, в буквальном смысле слова, овладела какая-то тяжелая истерика. Начштаба 4-й армии, например, разослал по частям предписание, не имеющее, по-видимому, аналогов в Гражданской войне, требуя, чтобы «каждая… часть, о которой есть предположение, что она не наша, расстреливалась интенсивным пулеметным огнем» (78, оп. 3, д. 441, л. 93).
Штабы потеряли махновцев из виду. 24 февраля совершенно неожиданные сведения стали поступать из Крыма. Начальник гарнизона в Джанкое докладывал нечто почти невероятное: якобы конная разведка махновцев делала попытки проникнуть в Крым, а главные силы – тысяча человек при трех орудиях – стоят северо-западнее Мелитополя. Как бы там ни обстояло дело, срочно в боевую готовность были приведены гарнизоны перекопских укреплений и Симферополя, а все подручные силы брошены к месту сосредоточения банды.
Зачем было Махно в Крым? Просто для того, чтобы отдышаться, спрятавшись в идеальном для партизан месте – Крымских горах, – а оттуда, возможно…
Что?
Ждать восстания против советской власти? Или ударить на один из черноморских портов, захватить крупнотоннажное судно и со всем отрядом бежать? Куда? Зачем? В какой стране причалил бы этот корабль под черным флагом? Уж не в Турции ли, где его, наверное, голыми руками растерзали бы врангелевцы?
Возможно, у Махно оставался один достойный выход – смерть воина. Но по горькой иронии судьбы ему, столько раз раненному, смерть не была дарована. Возможно, это была своеобразная месть провидения. Впрочем, в феврале 1921 года смерть его и с исторической точки зрения была бы явно преждевременна: он еще нужен был истории, чтобы поддерживать то немыслимое давление в котле, которое нужно было, чтобы запустился, пришел в движение механизм перемен, чтобы в железной империи большевиков открылся клапан для выброса спонтанной энергии – нэп. Он еще очень нужен был крестьянам…
Красноармеец 115-го кавполка, побывавший в плену у Махно, рассказывал, что в Покровском и Рубановке, где махновцы ночевали с 23 на 24 февраля, отношение крестьян к ним было очень дружелюбное. При обмене лошадей крестьяне ничего не просили у махновцев, а те платили большие деньги за постой. Махновцы сказали, что зимой воевать не будут, а весной поднимут восстание, ибо у них много есть людей, готовых к выступлению. Гражданские власти разбегаются при приближении Махно. Пленный рассказал также, что среди крестьян упорно циркулируют слухи, что Врангель высадился и занял уже все побережье, и Первая конная повернулась против большевиков… (78, оп. 1, д. 3). Как странно иногда совмещается в мечтах людей то, что в действительности кажется несовместимым, – и бойцы Буденного идут обок с Махно и казаками Барбовича…
Махно оставалось драться еще чуть больше двух недель. В начале марта махновцы все еще делали попытки просочиться в Крым, но потом вынуждены были уйти, потому что красные грозили прижать их к Сивашу. О начале Кронштадтского восстания махновцы ничего не знали. Вероятно, это событие вселило бы в них надежды и новые силы. Но они не ведали, и силы таяли. Они уходил, отстреливаясь, – их снова настигали. Разделялись, ныряли в сухие камыши заледеневших озер темной ногайской степи, урывками спали на глухих хуторах, снова собирались, снова рассыпались… Опять, возле самого устья, переходили Днепр, добирались почти до Николаева – и снова возвращались обратно по хрупкому, источенному весенним теплом льду…
В этих монотонных, как мартовское небо, днях бывали дни особенно темные: в один из них, настигнутый со своими людьми, был пулей ранен в голову Удовиченко. Несколько человек из его отряда уцелели и рассказали, что командир еще был жив, когда налетели красные. Долго не знали, умрет он или раненый достанется ЧК. Удовиченко повезло – умер.
Махно тоже повезло: 14 марта он был в схватке с красной кавалерией очередной раз ранен в ногу навылет, а поскольку была погоня и перевязать его было некогда, он в тачанке «едва не сошел кровью». Но не сошел-таки, дотянул до перевязки. Вечером состоялось заседание штаба, на котором решено было расходиться. Прорываться попросту было некуда: кругом были красные.
«…Возле меня сидели все командиры групп, члены штаба во главе с Белашом. Они просили подписать приказ – разослать на 100 верст по 200 бойцов Куриленко и другим (действующим автономно. – В. Г.) командирам, чтобы они самостоятельно руководили восстанием. Подписал приказ Забудько», – писал в отчете Аршинову Махно для «Истории». На самом деле заседание штаба не было лишено, видимо, внутреннего драматизма: большой бандой действовать становилось невозможно, она притягивала к себе слишком много сил. Да и Махно, раненый, едва не теряющий сознание, становился обузой, страшно было с ним – вот каждый и просил отпустить его на волю, думая, что так вернее уцелеет.
В результате армия была разделена на три группы: Реввоенсовет, штаб армии с батькой во главе и отряд Петренко должны были прорываться на восток по-над берегом Азовского моря; Щусю предписывалось пробраться в родные места, в Дибривский лес, и затаиться там; третья группа отряжалась в Юзовский район.
Не прошло и нескольких часов после разделения армии, как на группу Махно налетела 9-я кавдивизия и гнала махновцев 13 часов, прежде чем тем удалось оторваться от преследования и в селе Слобода накормить коней и дать им отдых. 17 марта возле Новоспасовки Махно вновь был настигнут казаками 9-й кавдивизии. Пошла жесточайшая рубка. Измочаленная многомесячными боями батькина сотня натиска красных сдержать уже не могла и чуть не поголовно легла под саблями. Спасли Махно пять пулеметчиков-«льюисистов», взявшихся держать красных до тех пор, пока остальные не оторвутся. Левка Задов на руках перенес Махно из боевой тачанки в обычные дроги. Один из пулеметчиков просил передать отцам, что они честно погибли за крестьянское дело, защищая батьку и веря в него. Когда оставшиеся в живых тронули коней, сзади раздались разрывы гранат и затрещали «льюисы». Кавалькада ударилась в галоп.
Куда неслись эти люди? Где было их место на земле? И были ли это люди еще, после трех месяцев, почти непрерывно проведенных в седлах, под пулями, на зимнем ветру? Да, это были люди – окаянные, проклятые, лишенные всего, исторгнутые из мира человеческих существ в свое окаянство…
18 марта пал мятежный Кронштадт. Среди тех, кто руководил разгромом восставших, было много старых знакомых Махно – делегатов партийного съезда: Затонский, Дыбенко, Федько, Ворошилов. Троцкий, конечно. Молодые петроградские курсанты, которых перебросили с Украины, чтобы и здесь, под Питером, ввязать в кровавое, бесчестное дело. Партия всех вязала на крови – чтоб не были белоручками…
О том, что происходило в Кронштадте, делегаты X съезда РКП(б), проходившего в Москве, узнали из закрытых (и не включенных в стенограмму съезда) докладов Троцкого, прочитанных им 12 и 13 марта.
16 марта съезд принял знаменитую резолюцию о замене продразверстки продналогом. Это не был еще, собственно, нэп. Даже слова такого еще не было, но этим решением зачиналась новая эпоха. Палеолит большевизма закончился. Наступала кратковременная эпоха бронзы, которую потом подмял под себя, раздавил железный век Сталина.
20 марта Махно с горсткой оставшихся в живых сподвижников достиг разоренной немецкой колонии возле села Заливного Александровского уезда и укрылся там, почти месяц не подавая признаков жизни…
ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ
В конце марта в Гуляй-Поле был схвачен начальник связи Повстанческой армии. Взяли его, видимо, военные, но попал он сразу в руки Чека, что у военных рангом повыше вызвало нешуточную тревогу. Из штаба 4-й армии в штаб 3-го конного корпуса ушла телеграмма: «Говорил с помнаштакор Крутиковым, который сообщает, что начсвязи находится в ведении гуляйпольской чека, если он не расстрелян, его просят… результат сообщить мне». Некто Левченко ответствовал на эту телеграмму: «Хорошо, передам Высоцкому. Но тилько нельзялы вияснит на верное, жыв лы иче начсвязи?» (78, оп. 3, д. 439, л. 28). Приказано было, если не поздно, забрать махновца у Чека и доставить в штаб корпуса для допроса. Из Харькова спецтелеграммой от 26 марта было велено у пленного при допросе выяснить: 1) действительно ли распущена армия; 2) где находятся уцелевшие ее отряды; 3) где находится Махно и склады оружия; 4) куда Махно в принципе может скрыться?
Пока шла эта переписка, начсвязи Повстанческой армии, содержавшийся под стражей в гуляйпольской Чека, – сбежал. Обстоятельства этого невероятного побега выясняли, да так и не выяснили, потому что, найдись в этом деле виноватый, ему бы не сносить головы.
Жизнь, однако, довольно скоро предоставила ответы на все интересующие красное командование вопросы.
29 марта от командира гуляйпольского продбатальона поступили сведения о появлении в районе Новоуспеновки банды Щуся, с которым, по слухам, был сам Махно. К сведениям отнеслись недоверчиво, так как командир батальона вообще был подвержен паническим настроениям и уже дважды сообщал неподтвердившиеся факты. На всякий случай информацию все же передали в штаб Фрунзе, снабдив ее комментарием, что, скорее всего, комбат принял за отряд Щуся одну из «незначительных банд местного происхождения».
1 апреля поступили сведения из штаба Кавказского фронта, что банда махновцев под командованием Белаша заняла местечко Хомутов неподалеку от Ростова-на-Дону и оттуда двинулась в направлении на Новочеркасск.
Сколь бы фантастичными ни казались эти сведения, характерна мгновенная реакция Фрунзе, который, не медля ни секунды, потребовал от командарма 4-й армии точно выяснить местонахождение обеих банд, уничтожить их, Махно поймать.
Тут же выяснилось, что ловить бандитов некому – все кавалерийские части после изнурительных боев с махновцами переброшены на «поправку фуражом» в район Лозовой, и командование армии располагает лишь двумя кавполками каширинского корпуса, бригадой Туркестанской кавдивизии и частью 7-й. Фрунзе был, по-видимому, в отчаянии от такого головотяпства, но он пытается не выпустить ситуацию из рук и хотя бы точно оценить обстановку. Телеграф отбивает его вопросы: сколько узбеков и туркмен в Турккавдивизии? Какова боеспособность полков конкорпуса?
Ответ из штаба 4-й армии: «Узбеков и туркмен (басмачей) во второй Турккавдивизии состоит 250 человек». Немного. Значит, дивизия боеспособна. Части третьего конного корпуса Каширина производили хорошее впечатление: «38 кавполк численностью 305 при 6 пулеметах и двух орудиях… Отряд 37 кавполка – один дивизион 102 сабли при 5 пулеметах. Обе части имели опыт борьбы с бандитами – бандами Кожа и Золотого Зуба» (78, оп. 3, д. 439, л. 48).






