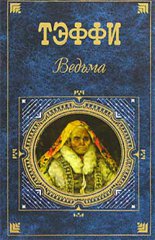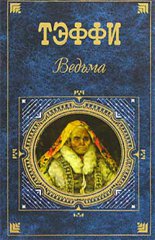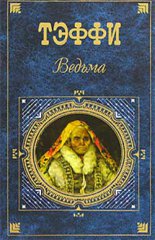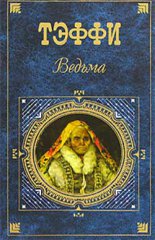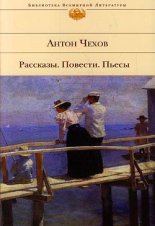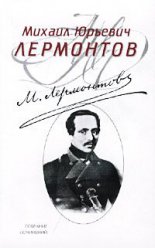О теории прозы Шкловский Виктор

Театр и прежде всего режиссеры в старом понимании обновления должны пройти через руки тех, кто сейчас считается молодым.
Может быть, это правильно.
Потому что жизнь сейчас очень сложна.
Приходится причислять к молодым очень взрослых людей.
Вот мне 90 лет, с трудом закончил книгу, но я недавно вышел из числа молодых, которые так должны быть крепки, что им вывихи не страшны.
Новое чтение, которое предложил Строганов, не обновление текста. Это обновление конфликта. Это превращение обычного частного конфликта в общий.
Это восстание молодости, которая сурово наказывает и сурово отстаивает и свое право на новую жизнь, и право на знание – кого она любит больше всех на земле.
Корделия в театре, который ставит Шекспира, должна быть обновлена, воскрешена.
Женщина, которая в эпоху борьбы Франции с Англией решила по-своему борьбу народов.
Король Лир признал права Корделии, когда поднял ее мертвой.
И как бы стал отрицать права других жить, когда новое умерло.
Корделия – новая драматургическая роль, новое чтение Шекспира.
Создание роли, равной роли Гамлета.
Великий театр должен решаться на великие поступки.
Ведь мировой театр сыграл Чехова и показал простоту и глубину разломов в новой, как будто спокойной жизни трех сестер.
Дочь царя Эдипа, которого она не оставила.
Все разошлись, а она осталась одна сопровождать отца, который оказался преступником.
Это она ведет отца, ослепшего.
Но жизнь переплетается литературой, или, что то же, эпосом.
Глостер слеп, как Эдип.
И вот здесь смотри страшные слова: «мышь имеет право жить» – а вот она, Корделия, – мертва.
Антигону закопали в землю заживо.
Вы говорите, что Антигона и Анна Каренина родные сестры?
Как это мне не пришло в голову.
Смерть как непреложность.
И смерть как начало пути.
Почему же Шекспир дал Лиру такое отчаяние, такое подчеркнутое ощущение смерти?
И вот теперь число «три».
У Пушкина тоже три сестры в сказке о царе Салтане.
Чехов уже прямо вводит название «Три сестры».
Не две и не четыре – три.
Основа этого глубоко народна.
Толстой пытался отрицать Шекспира.
Особенно «Короля Лира».
Говорил, что это невозможно.
Что так не бывает.
Что это искусственно, а не искусство.
Но так, как молния отыскивает самые высокие деревья, так судьба Льва Николаевича Толстого как бы повторила судьбу короля Лира.
Старому человеку, который хотел быть свободным от ограды своего имения, свободным от деревьев, которые он сам посадил, от прудов, которые он сам копал, в попытке создать, утвердить новое, Толстому пришлось уйти.
Здесь я скажу слово, оно может показаться в чем-то недостаточным; но слово это точно.
Поступок Толстого лирообразен.
Я думаю о «Короле Лире» в сегодняшней жизни.
Что же это такое, где цена и где тайна и почему мы так боремся за освоение и старых нравственных решений?
9. Медный меч, или Заключительная глава о «Дон Кихоте»
I
Кажется, Аристотель говорил, что смысл должен быть понятен из действия, а слова служат пониманию философии вещи.
Пушкин писал, что герой действует в «предполагаемых обстоятельствах».
Эти слова Пушкина есть в статье «О народной драме и драме “Марфа Посадница”», о которой мы только что говорили.
Проза показывает нам человека в разных предложенных обстоятельствах, и именно это освещает действие, ход действия.
Не слова, превосходно анализируемые грамматиками от поэзии, но проза – и поэзия – исследуют мир при помощи показа героя в меняющихся условиях.
Поиски места героя в мире, его «приключения» и есть исследование мира.
Поэтому герои так много ездят по суше и по морям – как будто это они проложили дорогу, – путь Колумбу через воды Саргассова моря к Новым берегам.
Теперь надо резко переменить течение мысли.
В книге о Дон Кихоте найдено все, кроме медного меча.
Как бы карнавального оружия.
Не будет большого противоречия, если этот меч, которым сражается Дон Кихот в заключительной сцене с вепрем, будет не медным, карнавальным, а боевым. Ибо вся сцена обставлена Сервантесом как инсценировка, это как бы театр.
Герцог говорит об охоте на вепря, готовится к ней. И говорит, а так было испокон века, что охота готовит к войне.
Большое количество терминов войны взято из охоты.
Большое количество охотничьих выражений воспринято от войны.
«Обложили, как волка» – мы понимаем о чем идет речь.
Герцог готовится к охоте.
Вы увидите меня в другом платье, – почти высокомерно говорит он.
Одновременно происходит как бы инсценировка событий, их театрализация.
Дон Кихот обставлен подобием драмы.
Речами переодетых людей.
Отметим постройку Волшебного Летающего Коня, он, как нам кажется, взят из сказок «Тысячи и одной ночи».
И вот эта обстановка инсценировки вокруг Дон Кихота объяснит, почему у него медный меч.
Потому что это оружие маскарада – праздничного карнавала.
Это пародия на оружие.
Люди по избитой дороге вепря, крупного кабана, с криком выгоняют зверя на командный пост герцога, герцогини и Дон Кихота, на командный пункт великой инсценировки.
Герцогиня бросается вперед с дротиком в руках. Женщина, привычная к странным положениям. Санчо Панса с привычным благородством и быстротой взлетает на дерево.
Дон Кихот медным оружием убивает зверя.
Из этого проистекает следующее.
Движение герцога в защиту жены было в то же время движением спасения самого себя, герцога, от зверя.
Дон Кихот выступает как рыцарь реального подвига и одновременно, в ощущении действительности, как бы участником инсценировки.
Так, как он относится к двум львам, громадным львам, которые едут к испанскому королю, чтобы удивить его африканским чудом.
Дон Кихот спасает герцогиню.
Для тех, кто не успевает понять, о чем идет речь, напомню хорошую картину «Бабетта идет на войну».
Эту пародию хорошо ведет главная героиня, ее играет Бриджит Бардо.
Но Дон Кихот может быть заключен в тюрьму за ошибку, ведь он бедняк и неудачник в сравнении с герцогом; так был заключен человек в тюрьму в одном романе Диккенса, потому что тому пришлось сразиться с человеком недворянского происхождения.
И за это человек был спрятан в тюрьму.
Он сидел в одиночке, сошел с ума, и из жалости ему дали инструменты сапожника.
Дон Кихот попадает в клетку. Это та клетка, которая везла его домой, чтобы прекратить его подвиги.
Гегель считал великий роман «Дон Кихот» лишь прелестным рядом новелл, слабо сцепленных тонкой нитью.
Но великий роман потому роман, что сцеплен действиями движущегося, то есть изменяющегося, героя, который действует в различных предложенных обстоятельствах.
Дон Кихот конца второго тома – это иной герой, чем в начале первого тома.
Обращаю внимание, что во втором томе «Дон Кихота», выпущенного через восемь лет после выхода первого тома, почти нет вставных новелл, что связано с изменением времени, включающим изменение героя.
Это уже слитое повествование.
Сервантес очень ясно чувствует, что его роман сложен как бы из кирпичей.
Вставная новелла первого тома «Повесть о безрассудно влюбленном» имеет по подсчетам самого Сервантеса около восьми печатных листов.
И эта повесть уже вне привычного для него строения прозаического произведения, то есть второго тома.
Хочу сказать, что во втором томе Сервантес сам говорит про новеллы – включенные, присвоенные.
И если Сервантес в начале романа дает как пошлость слова, лозунг, что свобода выше всего, то в конце романа, почти перед смертью Дон Кихота, в описании того, как Санчо Панса и Дон Кихот уезжают из пышного дворца герцога, Дон Кихот восклицает о счастье свободы.
Дон Кихот перерос самого себя. Это – герой, созревший в романе, герой познанный. Это познание начиналось в первом томе, когда Дон Кихот при первом выезде, попавший к козопасам, пастухам скота бедняков, начинает говорить о равенстве людей, равенстве, которое должно лежать в основе рыцарства. Для Дон Кихота равенство начинается с того, что он, бедный идальго, сидит рядом с бедными пастухами. Но он преодолел призрак дворянского запрещения что-либо делать, кроме игрушек такого построения, как птичьи клетки, то есть явно мало кому нужных вещей.
Дон Кихот едет через роман, и вместе с ним едет вперед, преодолевая предрассудки своего времени, Сервантес.
Роман построен как бы в гору. Дорога Росинанта идет вверх.
Ошибки Дон Кихота изменяются.
Отношение к нему тоже меняется.
Не забудьте, что это единственный роман, может быть единственный в Европе, в котором герой едет среди людей, которые знают его как уже описанного в романе – в его первом томе.
Великий философ, великий человек Гегель, рассматривая материал как бы в его бытовом смысле, не понимает, что та часть, или тот кусок смысла, с которым ты споришь, он должен быть большим; большим в том понимании, что часть должна быть взята как часть целого.
Дон Кихот сделан героем.
Он выдуман бедняком, который только по четвергам ел мясо.
Это блюдо называлось блюдом уныния, как я говорил уже, ибо это мясо не заколотых, а сдохших животных. Выбрасывать жалко, приходится съедать, как-то наспех соединив с ощущением беды мира.
И Дон Кихот питается вместе с Санчо Пансой голубями, а когда они едят в трактирах, то потом Санчо Панса подбрасывают на одеялах за неоплаченный счет.
Роман был задуман как пародийный, но книга сама растила себя. «Дон Кихот» – это один из первых психологических романов.
Причем герой освещен как бы дважды.
Это роман о бедном человеке.
Это роман о гордом, храбром человеке, но осмеянном, имеющем как бы неправильные претензии.
Герой как бы дважды уязвим.
И нет противоречия в том, что Дон Кихот первый свободный герой.
Ахиллес у Гомера плакал, когда у него отобрали прекрасную пленницу. Но он был бессилен. Он хотел ответить на оскорбление, нанесенное ему Агамемноном, но Афина Паллада удержала героя за волосы невидимой рукой. То есть он сдержал себя перед знатнейшим противником.
Дон Кихот – настоящий герой великой Испании, страны многих революций, страны гордых людей.
Он любит так, как любят герои Шекспира.
Шекспир и Сервантес – современники, они как бы однополчане литературы, расположенной на двух разных берегах. Но у Шекспира действующие лица трагедий разделены на королей, героев, вообще знать – и шутов. Шуты всех умнее. Шуты думают о трудностях коллизий, в которые попадают герои.
В смехе вырастает новая мораль.
Дон Кихот – герой, мыслящий человек, храбрый человек, который вызывает к себе уважение, хотя уважение это сопряжено со смехом, – но чей это смех?
От «Дон Кихота» происходят герои английского романа.
Достоевский хотел создать несмешного Дон Кихота.
Он пытался это сделать в «Идиоте», в «Подростке» и не отвоевал мужества своего героя.
Может быть, ему помешала попытка сделать своего героя религиозным и смиренным.
От «Дон Кихота» дорога идет к новой литературе, к героям героическим, трогательным, но как бы дважды непонятым, героям заблудившимся.
Но что противопоставлял Гегель Дон Кихоту?
Донкихотство.
Он говорил, что все эти попытки молодых людей кончаются горечью похмелья; и я приводил уже его длинное благоразумное предупреждение.
Дело в том, что в словах Гегеля нет движения.
Гегелю казалось, что то, что он видит, – вечно, включая имперскую полицию.
Гегель отрицал право на юность и утверждал, что корректив смерти – нечто довольно уютное.
Новое иногда заставляет жмуриться.
И вот теперь, после слов Гегеля, скажу несколько скромных слов, – все это игра и условность.
Прекрасные, но неоконченные темы.
Герой молится, не зная, что многое разрешается временем.
У земли, у городов, у рек, у сражений есть своя хронология.
Молодой человек почти без жалованья, почти без связей видит землю.
Он видел то, что объясняет прошлое, ему это будет разрешено только будущим и не будет закончено, как не закончены «Мертвые души», как не закончены и сами грозы.
В моем возрасте писатель уже не ждет прихода вдохновения. Оно приходит реже, оно сбивается, как бы врывается короткими эшелонами грозы.
Искусство редко находит внятные разгадки.
Начало вещей либо странность, либо, часто, преступление.
Текст дает сгущенный цвет, а когда приходит гроза, то буря заставляла бежать кур, раскрыв хвосты; буря проходит, становится светлей. Куры успокаиваются.
Так вот, Гегель, гениальный человек, пишет про людей своего времени, говорит, что претензии на счастье, на любовь – ошибка. Есть полиция. Есть законы. И тщетно молодежь идет прямо рогами на стену.
Но искусство бессмертно сохраняет коллизии прошлого.
Коллизию зачинщика Прометея, которым прямо рогами вперед пошел на Зевса.
Его уговаривают Нереиды.
Его уговаривают боги, чтобы он сдался. Он не сдается.
И тогда его навечно приковывают к скале.
Дальше идет мифологическое решение проблемы двойственности: и богов нельзя обидеть, и Прометея нельзя обидеть.
Толстой говорил, что будущего нет. Оно не существует. То есть мы должны были бы сказать, что его не существует сейчас.
Сейчас существует только час и минута нашего времени, указанного на часах.
Но прошлое со своими коллизиями тоже существует, и оно обновляется в искусстве, обнажается в нем, предсказывая сюжет будущего.
Потому что искусство избирательно. Оно видит сдвиги земной коры, предчувствует их так, как предчувствуют их сегодня кошки и люди в сейсмических лабораториях.
Поэтому в искусстве так много изгоев-людей, лишенных места в жизни.
Они как та кошка и как тот любимый ею котенок.
И Оливер Твист.
И Давид Копперфильд.
Списку этому нет конца.
Трудно, даже во сне трудно думать о любви.
Я писал когда-то об этом.
Об этом писал и Юрий Олеша. Трудное дело.
Снова скажу, что в старой Библии говорилось, и это потом пошло в романы, что нехорошо, взявшись за рукоятки плуга, смотреть, оглядываясь, много ли напахали другие.
Люди часто не знают, сколько они сделали сами, смотрят не вперед, на то, сколько еще надо сделать, а назад, на чужими плугами распаханные поля.
Толстой, человек, видевший неправду и правду семьи, и неправду жизни крестьян, и ложь правительства, и неправоту религии, Лев Николаевич Толстой видел все же Золотой век не впереди, а позади.
Он думал, что именно крестьянская семья, которая, как когда-то в шутливом преувеличении пишет писатель, жала пшеницу, у них зерно было величиной с куриное яйцо, – что там люди были чем более древними, тем более молодыми.
К Толстому приехал из Америки бывший толстовец, разбогатевший финн, фамилия его не сохранилась.
Он сказал Толстому: «Вы, Лев Николаевич, зовете всех в деревню, а там не нужно много народу. Я вот пахал землю, запрягал шестнадцать мулов в один плуг (ведь тогда еще не было тракторов) и мне не нужно было много рабочих». И Толстой записал эти слова, они требуют глубокого размышления.
И вот так мы снова дошли до Толстого, до его мыслей, до его сомнений, до его понимания необходимости многократного анализа вещи, которую он хочет написать, к его бесконечной работе.
II
В далеком прошлом мне встретился ученый-испанист, было это в университете, в коридоре. Он сказал мне: «Виктор Борисович, как вы догадались, что Сервантес в работе над «Дон Кихотом» пользовался современными ему энциклопедическими словарями, ведь вы же не знаете языка?»
«Мне это тоже непонятно, – ответил я, – как птице непонятно, как она перелетает через океаны и на том берегу находит свое гнездо».
С энциклопедическими словарями дело проще.
Когда читал первые страницы первого тома, то там Сервантес ведет беседу с ученым-современником; как ему быть, человеку, который много времени потерял на войне и на плен после войны.
Друг сразу указывает Дон Кихоту на энциклопедические словари[96] и в то же время извиняется, что рыцарские романы так расплодились, что заползли даже в такие книги, в которых упоминается звонкое и тяжеловесное имя Аристотеля.
Что хочу сказать?
Когда читаешь, когда работаешь, важна установка, заданность.
Я знал изначально, кто такой Сервантес, новейшие сведения о его атомистических знаниях не удивили бы меня и в те годы, когда происходила беседа с ученым-испанистом.
Однорукий, изрубленный воин, Сервантес, сражавшийся на палубах кораблей, которые хотели освободить Средиземное море от пиратов, прошедший через алжирский плен, тюрьму и через унижения сборщиков налогов в стране, где все уже собрано и содрано, он пишет повествование о как бы ненужных подвигах.
Вот эта остолбенелость, околдованность, разлитая в жизни как бы застылость, замороженность в некоем сосуде с прозрачными стенками.
Ее пытался расколдовать Дон Кихот.
Ее пытаются расколдовать чуть ли не во всех сказках всего фольклора народов.
К Дон Кихоту обращались все.
Над сценами поражения Дон Кихота плакал молодой Гейне, плакал, читая детское издание, где был спутан Караско с цирюльником, который брил Дон Кихота, а это совсем разные люди.
Достоевский прочитал Дон Кихота не глазами Гейне-мальчика.
Достоевский освобожден от случайных ошибок.
Мне кажется, что мудрость и глубокая подготовленность структуралистов не позволила им сделать то, чему их мог бы научить и Санчо Панса.
Что в мире дело идет не о словах, а о том, что мыслить надо предложенными обстоятельствами.
Герои, будет ли это Робинзон Крузо, будет ли это Евгений Онегин, попадают в разные предлагаемые обстоятельства, и вопрос в том, как они себя ведут в этих обстоятельствах, каковы их поступки, где сходство, где различие, а так же каково сходство и различие между поступками и словами.
Онегин меняется в отношении к Лариной.
И Ларина меняется в отношении к Онегину.
Но поэма описывает не слова, а те положения, которые освещаются; освещаются так, как будто солнце встает из-за горизонта.
Солнце несколько раз по-разному встает по воле автора.
И Дон Кихот – это не только человек, пытающийся собственноручно погубить зло.
Нет. Дон Кихот исследует мир, и одновременно Сервантес – это человек, который не боится исследовать мир.
И путь Дон Кихота – это путь бесстрашного исследователя жизни, которого так приветствовал Достоевский.
Достоевский зимой вместе с петрашевцами в одном белье стоял на снегу на площади, и перед ним и перед ними всеми читали приговор.
Нарочно был избран заика.
Он читал длиннейший приговор. Достоевский знал, что ему оставалась одна минута жизни, и разделил ее на то, чтобы посмотреть на дальние здания, а потом он подумал, успел подумать о Дон Кихоте: как тот старался на плохом коне с плохим оружием отвоевать мир от зла.
Он как бы целовал книгу Сервантеса, как Священное писание. Он через десятилетия писал о том, что петрашевцы были правы и прав был Дон Кихот.
Только теория свободы иногда умеет создавать такие концы для книг.
Романы не умирают. Они оживают. Они переживают столетия. Они просеивают на мелких решетах то, что было сказано из страха, и то, что сказано взаправду.
Растет дерево жизни. Оно и зимой живет.
Чудо мира состоит в том, что кровь дерева зимой другая, незамерзающая. И нет для нас большей радости, чем победа какого-то богатыря, который, может быть, и не был никогда, она радует нас и через тысячу лет.
Растаяли глиняные пластинки, на которых рассказывалась история Гильгамеша, человека, для которого наши библии – вчерашние газеты, даже суетливее. Но память о Гильгамеше переживает седьмую тысячу лет.