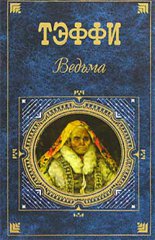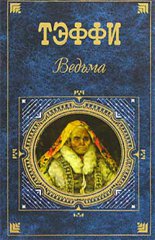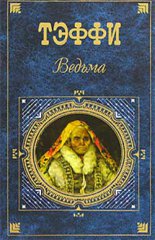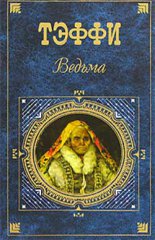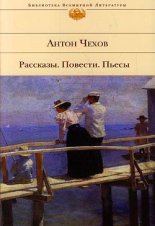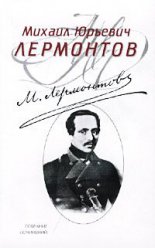О теории прозы Шкловский Виктор

Однажды он читал очень интересную лекцию о своих современниках и назвал эту лекцию «Анализ бесконечно маленьких».
Маяковский любил своих современников. Он говорил про Блока, что если взять десять строк, то у Маяковского – четыре хороших, а у Блока – две, но он, Маяковский, никак не может написать тех двух.
Мне приходилось говорить с Блоком; к сожалению, мало.
По ночам, гуляя по набережным тогдашнего Петербурга, который не был еще Ленинградом, Блок говорил мне, что он в первый раз слышит, что о поэзии говорят правду, но он говорил еще, что не знает, должны ли поэты сами знать эту правду про себя.
Поэзия сложна, подвижна, ее различные слои так противоречивы, в этих противоречиях сама поэзия.
Поэзию анализировать надо. Но анализировать, как поэт, не теряя поэтического дыхания.
Какие отношения между формализмом и структурализмом?
Мы спорим, это две спорящие школы. Умер Тынянов, Эйхенбаум, умер Казанский, умер Поливанов, умер Якубинский.
К радости моей, вижу новых поэтов, вижу новые споры. Если вы спросите меня, как я отношусь к искусству, скажу: с жадностью, так, как относится человек к молодости.
Теперь надо сказать печальную вещь. Был у меня друг Роман Якобсон. Мы поссорились. Мы дружили сорок лет.
Считаю, ссоры неизбежны.
Мы формалисты – это название случайное. Вот я, Виктор, мог быть и Владимиром, Николаем.
Формой мы занимались. И случайно про форму говорили много ненужного. Когда-то я говорил, что искусство состоит из суммы приемов, но тогда – почему сложение, а не умножение, не деление, не просто взаимоотношение. Сказано было наспех для статьи.
Структуралисты делят произведение на слои, потом решают один слой, потом отдельно другой, потом третий. В искусстве все сложнее. Вместе с тем структуралисты, в частности наша тартуская школа, сделали очень много.
Но посмотрите:
– Форма – это разность смыслов, противоречивость.
Самый простой пример. Пушкин писал:
- Ее сестра звалась Татьяна.
- Впервые именем таким
- Страницы нежные романа
- Мы своевольно освятим.
Само введение имени «Татьяна» несет много смыслов, многосмысленность; простое имя «Татьяна» прежде всего своей простотой как бы упаковывает все смыслы уже самого текста, формирует их отношения, их взаимоотношения: размышляя так, мы понимаем, что разговариваем о форме.
Товарищи работают интересно, но как они влияют на нашу современную и мировую литературу и читают ли их писатели, волнуются ли они за них?
В «Словаре Академии Российской», изданном в 1806 году и любопытном кроме прочего тем, что именно о нем говорил однажды Пушкин – «хоть и заглядывал я встарь в Академический словарь», – на странице 897 читаем: «ВЫМЫШЛЕНИЕ. – Выдумание, изобретение чего умом, размышлением».
Смысл слова «вымышленный» как выдуманный, то есть несуществующий, – более поздний. В 1806 году вымысел был занятием полезным. Говорили так, я снова цитирую старый словарь: «вымышлять» – значит «выдумывать, силою разума и размышления находить, изобретать, открывать что-нибудь новое или редкое».
То, что называется «формальным методом», вымышлено было и названо этим термином приблизительно в конце лета перед третьей русской революцией, перед Октябрем.
Вымыслить значило не только придумать, но и объявить, утвердить, так сказать, закрепить патент.
То, что я расскажу сейчас, было в 1917 году.
На берегу Невы, около университета, шло заседание в бывшем Кадетском корпусе, в очень большом зале с широкими сводами. Это здание было потом определено как остатки дворца Меншикова. Сейчас оно считается восстановленным.
На узкой кафедре говорил меньшевик Чхеидзе – рыжий, мятый, спокойный. Он сказал: «Сейчас нет такой партии, которая одна взялась бы руководить революцией» – и замолчал. Такие утверждения, вставленные в речь, традиционно назывались риторическими паузами.
Пауза кончилась.
И сидящий в первом ряду В.И. Ленин, не вставая, не напрягая голоса, внятно сказал: «Есть такая партия».
Сказано было прочно.
А пауза была создана, осмыслена как растерянность одних и знание других.
Многие замыслы отпадают. Или теряют свой первоначальный смысл.
Уже были вымышлены на Западе паровозы. А они были вымышлены для перевозки угля, под землей. И надо было вымыслить рельсы для этих тяжелых работников. Рельсы вымыслил, изобрел Фурье, вымысливший желаемый, но фантастический для него строй – социализм.
В России рельсов не было. Хотя мы тогда вывозили железо в Англию, так как сибирская руда и сибирское железо естественно обогащены титаном. И это выражалось в том, что русское железо не ржавело.
Нержавеющие крыши парламента в Англии покрыты русским титанистым железом.
Нужно было пустить паровозы хотя бы между Москвой и Петербургом. И были мысли вымышленные – пустить железные поезда по торцовым дорогам.
Полагалось, что это прочно, но торец пригодился в другом деле и жил в Ленинграде как хорошее средство для постройки мостовых до 1924 года.
В 1924 году в большом наводнении торцовые мостовые, в том числе и мостовые Невского и набережных, всплыли.
Все это имеет свое значение. Слова надо уточнять.
Вымысел, выраженный паузой Чхеидзе, был ложный.
Решение Ленина было истинным.
Многое ложное и истинное лежит в старых и новых поэтиках.
Поэтика прозы не была создана. Потому что проза опоздала.
Поэтика прозы появилась позже. Может быть, из поэтики судебного, то есть устного, красноречия.
Это была поэтика создания вдумчивого слова.
Сейчас поэтики прозы все еще не существует, так как то, что создал ОПОЯЗ, не было точным, не было договорено.
Для меня искусство – это спор, спор сознания, осознания мира. Искусство диалогично, жизненно. Оно, если его остановить, завянет.
Человеческие сердца натянуты как тетива.
И тот, кто не хочет с этой тетивы спустить стрелу, когда он думает, что слово только слово и текст только текст, тот прежде всего не художник, не оруженосец.
Он собиратель бабочек.
Мой друг Роман в книге, посвященной его шестидесятилетию, напечатал статью о стихотворении Пушкина «Я вас любил, любовь еще, быть может...».
Стихотворение Пушкина кончается словами: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим».
Якобсон утверждает в анализе, что это сочетание слов, что там нет образов.
Он ссылается на статью Вересаева о том, что искусство может существовать без образов. Там приводится в пример «Граф Нулин».
Могу ответить только, есть такая фигура, старая, образная – литота. Литота – это фигура, которая, отрицая, подтверждает.
Это история о любви бескорыстной и огромной, в каждой строке она утверждает, что сегодняшняя любовь больше, чем вчерашняя любовь. Это и есть анализ стихотворения. И в «Графе Нулине», когда граф хочет овладеть женщиной, он сравнен с котом, который овладевает мышкой.
«И вдруг – бедняжку цап-царап».
Это ирония над верностью, и это и есть форма этого произведения. И, конечно, это самый настоящий образ.
Вот теперь, разъяснив вопрос хотя бы самому себе, приведу конспект записи, которую обнаружил утром на столике, где стоят лекарства на ночь.
Серая исписанная картонка, а ночь была сложной:
Описание непрошедшей, действенной любви к прошедшей, снятой, убранной.
Эта любовь рождает бинарность.
Утверждения – отрицания даются в смене.
Развязка: – другой тебя любит меньше.
Я люблю больше.
Я еще угрожаю.
Бинарность вторжения – это отрицание, равное утверждению.
Ревность любит быть нежной.
Но если? – вопрос равен угрозе. Угрозе нежностью.
Быть жестоким очень легко, надо только не любить.
Когда-то я писал об этом.
Толстой же писал, что самые жестокие люди те, которые самые убежденные.
В искусстве человечество, осматривая современность, сравнивает ее с прошлым.
Когда-то на Балканах возникла едва ли не величайшая ересь мира – богомильство. Веселовский написал толстый том под названием «Соломон и Китовраз». Веселовский говорит, что богомильская ересь была первым идеологическим вторжением славян в понимание мира.
Боснийская легенда рассказывает о том, как бог увидал Землю, созданную Сатаной. И он пожалел эту Землю. И отжалел кусок сердца. И бросил сердце на Землю. И сердце вошло в ухо Девы, и Дева родила Слово через ухо.
Это связано с Евангелием, потому что «в начале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово».
У Рабле рассказывается, как Пантагрюэль родился из уха своей матери. Это была пародия на Евангелие.
И у Мольера в «Школе жен» Агнесса говорит: «Правда ли, что дети рождаются из уха?»
Вот эти богомильские легенды сами по себе проливали кровь целых стран. Бастовали альбигейцы, шли крестовые походы. И это дошло до Рабле.
Из-за этих легенд, из-за переосмысливания христианства создавалось новое искусство.
Искусство рождается при столкновении эпох и мировоззрений.
Искусство выправляет вывихнутые суставы.
Искусство говорит о человеке не на своем месте.
Орест должен убить свою мать потому, что она убила отца. Сталкиваются эпохи матриархата и патриархата.
Гамлет не должен убивать свою мать, отец сказал ему «нет». Но Гамлет человек новой науки, нового времени.
И сами великие романы – это пародия на романы. И Рабле и Сервантес почти современники. И до Рабле существовал рыцарский роман, уже пародийный, о великане, но Рабле вдохнул в этот старый роман новый дух.
Проверил все цитаты, которые дает Рабле на Священное писание, на «Деяния апостолов», и утверждаю, что все они пародийные.
Если в Библии сказано о том, что изобрели сыновья, потомки Каина, что они делали шатры, медные инструменты, как они создали культуру, то тут предки Пантагрюэля изобрели ботинки с загнутыми носами наверх, догадались, что, играя в кости, надо надевать очки.
Это пародия на Сорбонну и на Евангелие.
И это ваганты, странствующие ученики, не верящие в старую науку.
И как бы мы ни подсчитывали слова и буквы, если мы не видны в этом споре мысли, борьбу, которая подходит к краю ковра, то мы не поймем искусства.
Надо считать. Это делают структуралисты. Перед этим надо читать.
Нельзя понять Достоевского, не зная эпохи, не зная беременность России великой революцией, и читать Толстого; не зная, что он говорит: социальная революция не то, «что может произойти», а то, что «не может не произойти».
Не зная этого, нельзя анализировать ни Достоевского, ни Толстого. Для чего Раскольников убил старуху такого роста и веса, что горло ее, старухи, было похоже на петушиное. Почему он ее убил топором? Ведь топор неудобно нести по улице, и у него не было топора. Раскольников должен был взять его у дворника. А старуху можно было убить камнем, гирей.
Что за этим стоит? Что стоит за необходимостью преступления? Почему Достоевский не использовал детективный роман, не спрашивал, кто убил, кто совершил преступление, а спрашивал, что такое преступление?
Когда Раскольников пришел на каторгу, то ему каторжники сказали: «Не барское это дело – ходить с топором».
Топор был единственным оружием крестьян.
Чернышевский звал к топору, топоры упоминаются и «Бесах».
Черт приходит к Ивану и говорит, что ему холодно. Он летел через воздушное пространство в костюме с бантиком, а хвостик у него был как у большой собаки. И он рассказывает, что там так же холодно, как в Сибири, где девки дают парню поцеловать топор, а губы примерзают.
Иван Карамазов в таком безумии, что он сам с собой разговаривает, спрашивает: какой топор?
И черт ему отвечает: топор, если имеет достаточную начальную скорость, будет спутником земли, и будут печатать в календарях: восхождение топора в таком-то часу, захождение топора – в таком-то часу.
Вокруг мира Достоевского и вокруг мира Толстого летает топор.
Повторю: у Достоевского был друг и недруг – Победоносцев.
Победоносцев похож на Великого инквизитора, на человека, который отнимает у людей сердце и свободу.
Но мы должны понимать, что никогда никто не стоит на месте.
Человек двигается толчками.
Секретарь Каткова Любимов говорил, что Победоносцев не сразу стал таким.
Не будем обвинять великого писателя за то, что его привлекают противоречия.
Противоречия – насущный хлеб великого искусства.
И его форма, и его содержание.
Эйнштейн как бы уже стал великим человеком тогда, когда ему было десять или двенадцать лет. Он получил компас, помните это место из «Автобиографии». И он удивился, как же без видимого приложения сил стоит стрелка в определенном положении.
Законы динамики – великие законы.
Когда Пушкин говорил, что он над вымыслом слезами обольется, когда Достоевский читал Толстого и спорил с ним, я не думаю, что они что-то исследовали. Ведь искусство само по себе рождается не для того, чтобы фотографировать людей и при этом закреплять их голову в ошейник на штативе, чтобы она была неподвижной.
Было такое приспособление в старых фотоателье.
Достоевский и Толстой никогда не разговаривали друг с другом, и ведь не случайно.
Достоевский писал о Толстом, и очень хорошо. Толстой никогда не писал о Достоевском, а говорил о нем правильно. Он говорил, что у Достоевского люди поступают всегда вдруг.
Это слово «вдруг» действительно присутствует у Достоевского постоянно. Толстой говорил, что человек должен сделать один поступок, а «вдруг» у Достоевского делает другой.
Но слово «вдруг» обозначает не только неожиданность. Оно обозначает совместное действие, неожиданное совместное действие.
Во флоте говорят «поворот всем вдруг!», и «вдруг» значит «вместе».
Мир Толстого и Достоевского был двойной.
Толстой знал, что социальная революция не наверное произойдет, а наверняка произойдет.
Но он существовал в старом мире и одновременно хотел в нем существовать и опять же одновременно спорил с ним, спорил с законами старого мира, отстаивая его законы.
Но существовал другой мир – мир Достоевского.
Вторая вселенная своего времени. И «вдруг» Достоевского – это вторжение того мира в этот мир.
Не надо думать, что искусство одноэтажно.
Противоречие появляется для того, чтобы выявить «вдругую» действительность.
Достоевский писал не только для своего времени, а для потрясенной земли, и его «вдруг» стало реальным.
Поэтому Достоевский стал писателем великого искусства. Меня интересует мир скрываемый, предсказываемый, предвиденный, анализированный, уже существующий в прошлом, но еще не выявленный.
Меня интересует мир и создание модели мира.
Эйнштейн говорил, что самое сильное впечатление его жизни был Раскольников, а второе – открытие закона относительности.
Литература изменяется, причем писатели знают своих предшественников.
У искусства есть два закона. Два явления.
Явление сегодняшнее и явление вечное.
Когда читаю Гильгамеша, повесть, которой, вероятно, семь тысяч лет, я ощущаю эту повесть как сегодняшнюю.
Искусство, именно оно потому искусство, что оно видит истины, которые не проходят.
Когда-то рак состязался с лисой в быстроте. И рак вцепился ей в хвост и висит на нем. Лисица прибежит, взмахнет хвостом, а рак отцепится и говорит: я здесь.
Мир болен однообразием, а искусство – это осязание мира. И познавать надо законы мира.
Не отказываюсь от слова «формализм», но в слово «форма» вкладываю то, что вкладывают писатели.
Почему Раскольников, гениальный человек, про которого говорит Порфирий: «станьте солнцем», почему он пошел на убийство этой старушонки? Потому что в мире нет правды. Потому что он Дон Кихот, только Дон Кихот был счастливее.
Анализировать надо движение, а не только спокойное состояние. Надо анализировать сознание художника, который сперва смеялся над Дон Кихотом, писал, что вставало солнце и растопило бы мозги идальго, если бы они у него были.
Чем дальше он едет, чем больше он совершает нелепостей, тем он умнее. Оказывается, он знает поэзию, знает латынь, он дает советы, он, как и сам Сервантес, сидел в тюрьме, Когда встретил партию каторжников, он судил их снова и простил, а они забросали его камнями.
Вот это – умудрение искусства.
Литература – это произведение искусства, она сама в ряду искусства. В ряду музыки, архитектуры, кино.
Структуралисты стараются понять литературу из законов слова, но мы-то начали с того, что слово различно; поэтическое слово – оно другое, чем слово прозаическое.
Писать романы трудно.
Писать трудно еще и потому, что писать надо дома, сидя на месте.
Как Пушкин говорил: «Я не хочу для России другой истории, чем ту, которую она имела».
Если вынуть свою жизнь из жизни своей страны – это трудно.
Я не формалист, я только человек, который написал об этом много писем. В том числе «и не о любви».
Я хочу разгадать тайну прозы.
Писатель говорит тайнами судеб людских.
Судьба человека, героизм человека – ассоциируются с полями, чертополохами и подрубленными снарядами деревьями.
Сюжет – это не рассказ о том, что случилось. Сюжет – это не рассказ о фабуле. Приходит промытая мысль через словесные барьеры, которые как бы замедляют строение мысли. Так подымают воду озера бобры.
Хочу рассказать, для чего сделаны сюжетные ходы. Для чего Робинзон попал на свой остров. Для чего Сильвио не выстрелил в своего врага и пренебрег кровью мужчины. Для чего человечество мягкими умными руками щупает будущее, берет его и оценивает, будет ли эта ткань хороша вновь.
Слова книг – это словеса, наполняющие библиотеки вселенной.
Книги – это построения, которые заново перетасовываются, построения человеческих судеб, использующих законы будущего, подготавливающих пересиливание смерти памятью.
И все мы дарим свое будущее еще не родившимся людям.
Вот что я хочу сказать в оправдание появления ОПОЯЗа. Мы всё хотели перестроить.
Все будет. Только не надо, когда кошка выносит котят на улицу, думать, что она ничего не понимает или не любит котят.
У кошек свой мир предсказания, возвышения и падения. И когда мир уложится в познании коротких и красивых по своей краткости форм, тогда воскресят Хлебникова.
И не будут ругать футуристов.
Эти люди, которые хотели записаться в будущее и нужны будущему, если не во взмахах воли, то в глубоких расселинах между волнами.
Вечным смыванием берега волны кормят разных не главных существ, которые не рыбы, но которые ощущают движение и жизнь воды как среды.
III
Но надо рассказать еще одну историю, она как бы параллельная, удваивающая.
Сергей Михайлович Эйзенштейн был из богатой семьи. Его мать была дочерью богомольной купчихи, умершей на паперти церкви, кланяясь. Отец, вероятно, из евреев, хотя и похоронен он на православном кладбище в Берлине.
Отец – Михаил Эйзенштейн – не был очень талантливым человеком, «хороший архитектор дурного вкуса». Был большим любителем женщин, большим любителем оперетты. Мать ссорилась с отцом. От этого странного брака родился Сергей Михайлович Эйзенштейн.
Я смотрел его детскую фотографию. Сидит хорошо одетый мальчик «под лорда Фаунтлероя». В ногах его шелковая подушка. Мальчик откинулся; как бывший скульптор, вижу, что он должен упасть. Тогда достал я негатив и увидел, что его за шею держит скобка; для того чтобы в фотографии мы не шевелились, – говорил уже об этом, – нас привинчивали. И вот этот молодой лорд Фаунтлерой – одновременно собака на привязи. Только у него ошейник не полный, а половина. И все его родственники сняты так.
Сергей Михайлович говорил: «Мне революция не дала ни хлеба, ни богатства. Я сам был богат. Она мне дала волю. Я бы сделался инженером, как отец. И отец каждый день спрашивал бы меня: тебе нравятся мои постройки, а я говорил бы: «Да, папенька», – а был бы несчастен, как Давид Копперфилд».
Его отдали в Институт гражданских инженеров. Он уже тогда хорошо рисовал. Но рисовал он все время людей с головами зверей. А это все были его знакомые.
Произошла Февральская революция. Сергей Михайлович очень любил книги. Он любил архитектуру – любил Витрувия.
Все классические книги по архитектуре он выкрадывал у отца.
А время уже начиналось. Время Блока, Маяковского, ученых, таких, как Чернов, Федоров, которых вы даже не знаете; Менделеев, Павлов, Кураев.
Были превосходные университеты, только они все время бастовали.
Там были и бедные голодные студенты, хотя щи с мясом стоили пять копеек и их подавали с поклоном.
Хлеб бесплатно. И все много голодали, потому что и пять копеек было много.
Это был большой восход цветов человеческого сознания. Я сам из бедной семьи, знал, что трехкопеечная булка стоит три копейки.
Но уже были футуристы, были недовольные, были военные неудачи, я был солдатом, водил броневую машину, разбил ее на Карпатах, видал безмолвную русскую артиллерию и винтовки без зарядов.
Страна, которая не имеет металла, она – жертва страны, которая имеет металл. Но не надо рассказывать историю революции; история продолжалась.
Был великий режиссер Мейерхольд, был хороший художник Головин, ставили «Маскарад» Лермонтова. Четыре года шла постановка. Был огромный портал, золотой. Затем были такие маленькие комнаты в декорации, были прорези в занавеси, и «Маскарад» показывался головами, которые просовывались через занавес.
Было 26 февраля или 25 февраля 1917 года.
Шел юбилей актера Юрьева.
Юрьев играл Арбенина в необыкновенном халате.
А город волновался.
В казармах говорили, что нельзя кровью залить пулеметы.
У меня были броневики, я был инструктор бронедивизиона, у меня были броневики, и с них были сняты карбюраторы. А ведь я родился, когда этой соски не было.
Ночью мы перевооружили машины, свинтили их и выехали. Где-то кто-то стрелял.
На Невском не было света.
На крыше Адмиралтейства горел прожектор и освещал Невский проспект.
В театре шел спектакль.
Юрьеву преподнесли золотой портсигар с большим двуглавым орлом. Это был последний двуглавый орел.
Я подъехал к Адмиралтейству и поставил машины «кругом», потому что к Адмиралтейству сходятся дороги со всех вокзалов. Машин было пять или шесть.
Когда Юрьев вышел на улицу после спектакля, то уже царского правительства не было. Городовые еще отстреливались с крыш: они не знали, что на крышу не надо ставить пулеметы, потому что, когда стреляют с крыши, мертвое пространство большое. Городовые негодные тактики.
А что случилось с Эйзенштейном?
Он мог уехать в Ригу, где у отца были дома. Мог остаться в Институте гражданских инженеров, потому что Эйзенштейн уже был на третьем курсе, а он пошел в Красную Армию техником.
Он почувствовал освобождение, хотя спектакль в театре и он сам на спектакль шел и прошел через перестрелку.
И вот он поехал. А тогда фронта не было, потому что фронт был всюду. Американцы высадились. Эйзенштейн поехал на Онегу. Он ездил в вагонах, заставленных книгами. Он делал постановки для красноармейцев. Он проехал через город, который Малевич раскрасил квадратами. Приехал в пустую Москву, сделался театральным художником. Поставил совершенно невероятную пародию на Островского, потом пришел в кино.
Если вам придется когда-нибудь заново начинать жизнь, не бойтесь неудач.
Он сделал один ленту. Очень плохую. Вторую пробную ленту – очень плохую.
Тогда художник-оператор и директор фабрики с ним перестали разговаривать. Директором был в прошлом водопроводчик – Капчинский, директор сказал, что он может снять еще только одну ленту. И он снял гениально.
Эйзенштейн сделал картину «Стачка». Картина невероятная и для сегодняшнего времени.