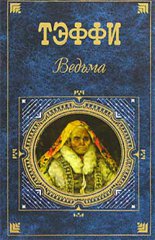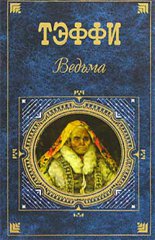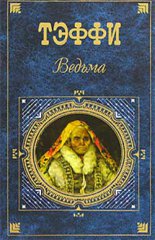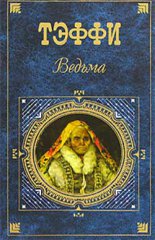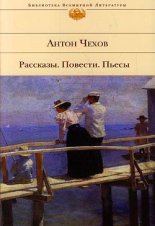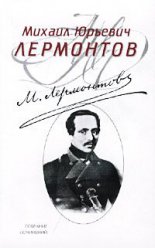О теории прозы Шкловский Виктор

Подвижность сцен у Мейерхольда – возьмите «Ревизор» – имеет блестящую и необходимую жизнь, потому что движение на сцене художественно обусловлено.
Посмотрите, как построена двойственность разгадки действий человека.
«Укрощение строптивой» Шекспира; женщина укрощается угрозой, что герой убежит от свадьбы. Он должен расколдовать женщину – сделать ее покорной; кроме того, он хочет получить ее приданое.
Всего этого нельзя сделать карандашом.
Здесь надо думать.
Северных берег того, что мы называли Полярным океаном, северная наша граница, наш фасад, как говорил Менделеев, начерчен, но художественно не осмыслен, не описан.
Посмотрите, как организована церковная служба:
дьякон – священник; хор.
Но ведь это отражение системы греческой трагедии. В церковном пении православной церкви – оно пение, но рассказывается о том, что написано.
Хотя оно поется.
Даже открывание боковых ворот – это отпечаток обычаев старой сцены.
Одновременно мы понимаем, что говорим о структуре и о наследовании структур, о переходе структур одного вида искусства в другой.
Гоголь. «Тарас Бульба».
Казаки уезжают; но при этом рассказано о движении колосьев, – этим показывается первый план. Таким образом дается время и пространство – насколько далеко видно в степи.
То есть это смысловая пертурбация. Но тогда если так описывать, то надо уловить движение предмета.
Искусство так и делает.
Сад, дом Плюшкина описываются движением – осматриванием.
Пушкин пишет о Татьяне:
- Давно сердечное томленье
- Теснило ей младую грудь;
- Душа ждала... кого-нибудь.
И мы понимаем, что прикасаться к этим строчкам надо не при помощи анализа рифм.
V
Драма мужчины и женщины, зрелых любовников, указана крупным поэтом.
Литература имеет берега – левый и правый.
Кошки – необходимый ход в бессмертие этой тайны.
Тайна не разгадывается чередованием ударений; это не ритм, это только следы на песке.
Пришел человек, который когда-то любил девушку, не переставал любить.
Она ему отказала.
Отказ и ее горестное признание обновляют – сталкивают положения.
Татьяна Ларина сказала:
«...я другому отдана; Я буду век ему верна».
Достоевский считал, что это сильно; потому что перед этим сказано: «Я вас люблю (к чему лукавить?) ...»
Но Пушкин уже готовился к прозе, которой почти боялся.
Тогда он сделал ступеньку.
На эту ступеньку потом встал Толстой.
Потому что ехать надо было далеко и туда не дойти только прозаическими ногами.
Пушкин прочертил начало любовной истории – там горечь любви и измены.
Отрывок начинался так:
«Гости съезжались на дачу...»
Толстой сказал – азот как надо начинать.
Это было начало не только нового романа, но и начало пушкинской прозы.
Сменился ритм.
Но там был второй отрывок той же темы:
«На углу маленькой площади... стояла карета...»
Пушкин разгадывал это положение; женщина пришла к мужу, заперла кабинет, говорит: она полюбила другого.
Необычное положение кареты указывало на необычность положения сюжета.
Оно само было почти сюжетом.
Женщина, что заперла дверь, как бы оставила мужа за дверью.
Пушкин говорил, что это ощущение знакомо только женщинам.
Она не может изменить новой любви.
Она отдана ей.
Это лежало за пазухой времени. И история Анны Карениной написана в записной книжке человека, который жил за несколько десятилетий раньше Анны Карениной.
Тема литературная жива.
Жива, потому что осознается: тут левый и правый берег человеческого самосознания разделяются между поэзией и прозой.
Потому что сердце рвется; сердце не продается на ярмарке невест.
На той ярмарке, которая хорошо описана Толстым в «Войне и мире». И, конечно, в «Анне Карениной».
Девушка, войдя в зал этой ярмарки, видит клубящуюся группу не ангажированных для танца женщин.
Она боится подойти к этой как бы забракованной группе.
Но тут дружба приглашает ей кавалера.
Девушка радостно улыбается ему. Потом стыдится своей улыбки, своей готовности.
Реки поэзии текут не пересыхая, но превращаясь.
Ощущая ритм и звучность строки, не надо забывать, что она своей новизной обновляет бесконечно старые дороги.
Она протаптывает тропинки, о которых написано сотни и более раз.
Сюжет прозаического романа и стихотворного романа дышат как бы одним воздухом; – но все-таки это разные решения разной постройки – разные моменты человеческого осознания.
Движение прозы и движение стиха различны: стих движется ритмически, и ритм стихотворной речи семантичен. Он связывает строки, подкованные ритмом, звуком ритма. Потому что здесь осмысливаются совпадающие по звуку слова.
Ритм прозы иной, потому что проза иначе переосмысливает.
Поэзия больше всего пользуется для противопоставления смысла звуками.
Проза сталкивает положения, события, характеры.
Но литературная тема жива – жива потому, что движется.
Поэтому в жизни искусства новые мехи необходимы.
Именно влюбчивые в искусство люди и кажущаяся беззащитность перед видом созданного в искусстве – оно и есть жизнь искусства.
Искусство переживает время, которое его создает; это и есть поэзия.
Пушкин сказал, как приходит любовь:
«Пора пришла, она влюбилась...»
Пришла пора – и деревья развернули свои почки; потом безбольно пожелтели – опадут и останутся в строю листьев или строк поэм.
Но двери искусства имеют пороги.
Переходы Маяковского к иной любви, когда оказывается, что выражение «облако в штанах» – горькое выражение: это столкновение вещей разнооцениваемых.
История оказалась длинной.
Ощущалась короткой.
Можно наоборот.
Сегодня даже нет Моссельпрома.
Гости, что съезжались на дачу, реальность. Они оценивают, правильно ли разговаривает замужняя женщина с молодым человеком. Потом говорится о тех, кто сам перестал быть гостем, гостями.
Я боюсь сказать что-то похожее на правило.
Мы не гости в этой жизни.
- В этой жизни
- помереть не трудно.
- Сделать жизнь
- значительно трудней.
У нас многие клянутся именем Маяковского, но вот происходит явление, может быть, неизбежное: разъяли, разрезали великие стихи революционных поэтов на цитаты, на лозунги; лишили стихи Маяковского движения, поэтическое связи и энергии.
Маяковский ввел ритм мысли, вот для чего он ломал строку.
Он изменил динамическую нагрузку строки, позволил стихотворной строке быть интонационной, использовал опыт народного стиха, создав ритмико-синтаксические параллелизмы, создал новую строфику стиха.
На опыте Некрасова, развивая этот опыт, создал поэму, которую можно понять, ощутив необходимость смены размеров строк.
Маяковский – наследник Пушкина и Некрасова.
Эпоху Маяковского можно сравнить с эпохой Возрождения.
И вот теперь, через много лет возвращаясь к прежде написанным книгам, могу вновь сказать с полной ответственностью, что Дон Кихот создан не так, как я писал в «Теории прозы».
Искусство переживает время, изменяет адреса. Ему нужно познание картины, и близкой и далекой.
Трагедии Шекспира были сыграны на дворах гостиниц, при смене развлечений. Потом показывались сражения медведей с собаками.
Общее – кровь. Недаром Пушкин говорил, что драмы родились на площади и должны остаться на площади.
Преобразиться должна площадь.
Мы не поняли Маяковского, как не понимаем Дон Кихота.
Выбираем из Маяковского куски прямой пропаганды, но борьбу за пропаганду пропускаем.
Высокий, широкоплечий человек с громким голосом, с голосом сокола, голосом лебедя, Маяковский поневоле вспомнил «Слово о полку Игореве».
Певец накладывает руки, которые, как сокола, опускает на стадо струн.
Записываю для наслаждения:
- «О-ГО-ГО» могу –
- и – охоты поэта сокол –
- голос мягко сойдет на низы.
Поэзия и проза создается ощущениями превосходства над противоречиями.
Журавли в небе прекрасны.
Но странно, сокол, падающий на журавлей, прекраснее.
Как страдал Лев Николаевич Толстой. Струны его полей лежали там, где уже была музыка других струн – прежде перепаханные поля.
Вставала рожь, и по полю ржи проходила крестьянка. Длинная юбка ее, сбивая росу, оставляла след свой, как подпись труда на поле.
А земля своя, тульская. Поют соловьи в дубраве, и прикупает Толстой землю и записывает в дневнике: «...поют соловьи и не знают, что они теперь не казенные, а мои собственные».
Вот так на струны своего сердца падает сокол совести. Маяковский писал когда-то: один я не могу понести шкаф, тем более несгораемый.
Носят люди великие тяжести и не могут решить, как зазвучат струны.
Когда мучает их какой-то единственный вопрос.
Слова не говорятся.
Они проживаются – переживаются.
Гамлет переворачивает страницы своей жизни; именно поэтому для него слова – это слова, слова, слова.
Слова, они приносятся из глубин, как будто вырванные с корнями, с куском леса мыслей, леса мозгов, в котором они живут и сталкиваются.
Мы не знаем судьбу слов, среди которых живем.
Но Толстой знал, как добраться до глубины смысла, до ощущения предмета, он умел уходить на великую дорогу засловья.
3. Сказка и слово
Слово само не плачет и даже не всегда ориентирует.
Страдает и радуется человек и в любом положении хочет понять, что же надо делать.
Анализируя слово как таковое, мы ничего, или почти ничего, не узнаем, как и почему страдает Гамлет.
Ничего не узнаем о том, что случилось в доме его, Гамлета, и кто брат Ореста, а значит, брат Гамлета, – а это Треплев.
Об этом прямыми цитатами из текста «Гамлета» сообщается в пьесе «Чайка».
Анализируйте не слово, а систему слов: мысль, оторванная от обстоятельств произнесения, то есть оторванная от души человека, от того лабиринта сцеплений, куда она погружена, а это есть жизнь, – такая мысль «страшно понижается».
Снова цитирую Толстого – в отрывках и пересказе.
Слова лишь только эхо событий человека и, вырванные из этого контекста, обесцениваются, наступает инфляция слова.
Но каждый человек говорит на своем языке, то есть душу свою облекает в слова, – свои.
Переходя к общему, можно сказать, что подобное явление существует и в отдельной национальной культуре.
Одна национальная культура отличается от другой культуры особенностями своего понятийного строя, тем, как она обращается с миром действительности, делит его, как она его расчленяет и как она обращается и с каждой такой частью, и с единством этих частей.
При сравнении, при сопоставлении, сближении различных национальных характеров, то есть при сближении различных понятийных и одновременно как бы по-разному чувствующих систем, при сопоставлении, другими словами, разных слепков с действительности, возникают удивляющие вещи, реальность которых, в свою очередь, обладает и явной реальностью, и условностью, как бы снова нереальностью.
После такого поневоле краткого, но необходимого предисловия переходим к рассказу о китайской новелле.
Китайская новелла. Подступы
Каждая вещь входит в свою пару.
Китайская пословица
I
Про китайскую литературу великий знаток Китая академик В. Алексеев писал, что она входит в мировую «не только как эпизодический или единичный номер в серию. Если правда, что классические литературы Греции и Рима, легшие в основу современных европейских литератур, могут считаться мировыми по своему значению, и если правда, что выросшие и расцветшие под их влиянием литературы Европы в свою очередь влияли одна на другую, становясь, таким образом, сами мировыми, то не меньше будет правды в утверждении, что китайская литература есть мировая по своему значению».
Китайская литература не влияла на весь мир. Но и великие литературы Запада не влияли на весь мир. Китайская поэзия выросла, не подозревая о западной, она дошла до нас – только недопонятая.
Перед нами литература иного строя, иных закономерностей. Мы должны приучиться смотреть на европейскую литературу как на часть построения будущей действительности мировой литературы.
Европейская литература развилась, мало зная литературу Востока, и теперь, вслед за развитием живописи, достигается некоторая всемирность; всемирность узнавания.
Китайская литература имеет трехтысячелетнюю историю, свой понятийный склад, и поэтому она имеет свои глубокие противоречия и свой как бы второй план, который часто не может быть понят нами.
Единство художественного произведения в правильном приближении может быть понятно только тогда, когда мы знаем и тот фон, ту почву, на которой создано это произведение, на которую оно опирается, с которой оно спорит, противопоставляя новое старому, которое его породило.
Сейчас в истории и теории литературы мы знаем лишь отдельные голоса, как будто вырванные из диалога, который еще не состоялся.
Прежде всего должен сказать, пишу только как читатель китайской литературы.
Я нахожусь на самом краю ее читательского знания, в том состоянии, про которое когда-то древние говорили, что познание начинается с удивления.
Удивляться приходится много и разнообразно, но, удивляясь, не надо переносить законы своей по-своему познанной литературы на литературу еще не познанную.
В то же время надо видеть, в чем единство истории человечества.
Ее успехи кажутся различными корнями одного великого уравнения.
II
Китайская история протекает с большими перерывами, правильнее – толчками, которые мы еще не умеем заполнить и понять.
Был Китай, и был Рим, между которыми сообщений как будто нe было или они были единичными.
Между ними была культура Средней Азии со своей архитектурой, со своим действием и как бы в первый раз возникшей системой звукозаписи, которая, вероятно, соединилась с записью движения руки музыканта по грифу, которое укорачивало или удлиняло звук.
Движение руки между двумя полюсами звука превратилось в запись, как будто претендующую на реальность.
Мне кажется, что так и возникла музыка, записанная музыка, еще пока не существующая вне инструмента.
Китай осуществился вне какого-либо соприкосновения с Европой, хотя в VI веке н.э. монахи принесли в Византию личинки тутового шелкопряда, спрятав их в посохи.
Наше летосчисление кажется нам единственно правильным, единственно существующим. Но вот культура, которая реально существовала и не соприкасалась с нашей.
Говоря об этом, понимаю, что я не специалист-востоковед. Я вижу что-то, чему отвечаю как читатель.
В 316 году Северный Китай подпал под власть кочевников. С этого времени обе половины страны, северная и южная, стали жить обособленной государственной жизнью. Начался период северной и южной династий.
Е.Д. Поливанов говорил мне, что северному и южному китайцу, для того чтобы объясниться, нужно иногда писать знаками, которые много древнее их говоров.
В VII веке, когда славянские племена еще не настаивали на своем существовании в истории, было государство Тан.
В сказочной условности его культуры были существенные отличия от привычных нам форм.
Северный Китай был захвачен кочевниками, но к VI веку это была уже единая империя.
Пришельцы-кочевники почти полностью к этому времени ассимилировались.
Наступила эпоха Тан, примерно VII—Х веков, к середине времени расцвета которой и относится расцвет так называемой танской новеллы.
Для того чтобы европеец мог понять сказочные царства Китая, нужно, на мой взгляд, представить следующую ситуацию.
Существует некий зрительный зал, на сцене происходит действие, но актеры – не люди. При этом на сцене много персонажей, есть оборотни.
И сценическое существование и существование зрителей равно реальны.
Чем отличается сказочность Китая от европейской?
Тем, что фантастический мир не только называется, он подробно описывается. Как бы очеловечивается.
Могущественный дракон, живущий во дворце Божественной пустоты, в разговоре со смертным не торопится, не забывает кланяться и ждать ответных поклонов.
Китайская сказка описывает не просто факт бытия; невероятное дается не только как возможное, а как существующее.
Если в европейских сказках мы встречаем «помощных зверей», которые устраивают дела своих хозяев, например кота в сапогах, то этот мир заранее задан как бы игрушечным. В китайских сказках этот мир задан как чрезвычайно важный, справедливый, чем-то уравновешивающий реальность.
В нем несколько раз встречается гетера, превращающаяся в животное, и ученый, провалившийся на экзамене. И они великодушны.
Юноша потратил на гетеру столько денег, что совершенно разорился, но когда она встречает его нищим, то чувствует себя морально обязанной ему помочь («Красавица Ли»). Он подобран этой сомнительной для нас, добродетельной неустроенностью жизни сказки, которая корректирует бытовую жизнь и украшает ее, подробно перечисляя материалы, из которых построен подводный и потому как бы несуществующий дворец, материалы, известные народу только по названию, но являющиеся бытовыми в другом мире, существующем в сказке.
Европейская сказка рассказывает нечто, что имело место раньше или будет потом. Это превращение.
Фантастика китайской сказки утверждает два возможных бытия и быта: мир смертных и сказочный мир, причем в обоих мирах много воюют, там существуют отставленные полководцы, проигранные сражения и провалившиеся на государственных экзаменах молодые ученые. Они поддерживают разговоры со сказочными существами.
Это больше чем беседы со сфинксами или с ожившими мумиями.
Это утверждение желаемого как существующего, причем достоверность рассказа словно бы подтверждается тем, что в конце новеллы есть ссылка на то, откуда новелла пришла к рассказчику.
Сказки «заадресованы». По этим адресам почта могла бы разносить письма.
Так происходит утверждение необходимости нереального, или, вернее, изменение времяожидания во времясовершение, и утверждение нравственности сказочных существ, которые у нас по снисходительности как бы одомашнены, приручены поневоле, они появляются у нас дома и имеют лицензии не дальше детской.
В Китае они существуют как данность.
Танские новеллы – не новеллы в обычном смысле и не сказки, рассказывающие о переезде в другие, нам неведомые страны, это новеллы, утверждающие другую нравственность.
Очеловеченные драконы очень справедливы с людьми.
Русские сказки обычно начинаются так: «В некотором царстве, не в нашем государстве...» В этом государстве идет обычная жизнь – люди пашут землю, женщины варят пиво, а если действие происходит в царском дворце, то не варят, потому что подразумевается, у царя все есть.
В танских новеллах, по времени приблизительно совпадающих с былинной Русью, существуют оборотни, главным образом лисы.
Этот сказочный мир доступен не для всех, но реален.
Как попытка подобного построения существует «Крысолов» Грина, написанный в доме на Невском проспекте; там находилась топящая камины какими-то брошенными банковскими бумагами компания «Серапионовых братьев».
У Грина изображается государство крыс, вполне реальное; государство это занимает наше пространство, наши три измерения.
В русских сказках есть оборотни, но они «оборачиваются», их можно расколдовать, что удачно получается в арабских сказках.
В китайских сказках этого нет. Оборотни, населяющие их, никогда не меняют формы своего существования. Они так и остаются жителями того мира.
В китайской литературе часто фигурирует человек, провалившийся на экзаменах (в Китае, чтобы стать чиновником или занять важный пост, требовалось сдать экзамены). Один из таких неудачников, попросив приюта на ночь, попадает в прошлое («Путешествие в далекое прошлое»).
Оборотни главным образом лисы. В поэтической новелле «История Жэнь» рассказывается о том, как лиса-оборотень Жэнь любила бедного человека по имени Чжэньлю. Новеллу заключают такие слова: «Даже оборотни и те испытывают человеческие чувства! Столкнувшись с насилием, они не теряют целомудрия; следуют за человеком даже под страхом смерти. Не в пример некоторым теперешним женщинам»[83].
Жэнь отличалась от женщин тем, что носила купленные платья и никогда не шила себе никакой одежды. Не могла. Но иногда она превращала какие-нибудь развалины в дом и там принимала гостей.
Лисам грозит опасность от собак.
Жэнь погибает, растерзанная охотничьими псами. Чжэньлю хоронит ее останки и ставит над могилой «деревянную дощечку с надписью».
Собаки следят за лисами и истребляют их. Так в жизнь включается безжалостность.
В Китае как будто есть народ, который произошел от лисиц.
Бледные оборотни с некитайской нравственностью принадлежат, быть может, к этому племени.
В танском Китае явно существует несколько нравственностей, при этом судьбы женщин рассказываются подробнее, чем судьбы мужчин.
В Танском государстве соединился Северный и Южный Китай.
Но соединяются не только части страны, соединяются существа – и существа разных способов бытия – люди и оборотни. Последние отдают людям свое время, свою жизнь, а те не могут уберечь их от собак.
Интересно при этом построение пространства.
В русских сказках, например, зверь живет в пространстве человека.
В китайской новелле рядом с жизнью и миром людей существует жизнь и мир волшебных существ.
Некий Лю И, провалившийся на государственных экзаменах, встречает у дороги девушку, которая пасет овец. Девушка была красива, но очень печальна и «одета как служанка». Лю И пожалел ее и вызвался ей помочь. Выяснилось, что девушка младшая дочь Дракона, владыки озера Дунтинху, девушка неудачно вышла замуж за второго сына духа реки Цзин, а бараны, которых она пасет, на деле раскаты грома, у них был «свирепый взгляд и смертельная поступь», странная «манера пить и жевать... но шерсть и рожки не отличались от тех, что у обычных овец».
Девушка просит Лю И отнести записку ее отцу Дракону, который живет в одном из самых больших озер Китая. Попасть в озеро довольно просто – нужно найти апельсиновое дерево, известное местным жителям, «снять свой пояс, привязать его к дереву. а затем три раза постучать по дереву; за тем, кто ответит, можно следовать без всяких колебаний» (с. 32).