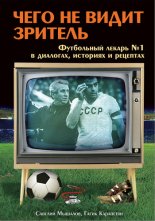Фаина Раневская. Психоанализ эпатажной домомучительницы Вашкевич Элла

Он с надеждой порылся в тумбочке, добыл из ее глубин пачку раскрошившегося от старости печенья, неодобрительно посмотрел на нее.
— И где кофе? — спросил сердито.
— Так ведь ты сам его уничтожил, до последней крупинки, — усмехнулся Психолог и потрогал пальцем чашку с чаем. Тут же палец отдернул, чашка была до безобразия горячей.
— Мог бы, между прочим, и купить, — проворчал Бес.
— Мог бы, между прочим, хотя бы раз принести с собой, — парировал Психолог. — Или сотворить, что ли.
— Да ты что?! — возмутился Бес. — Сам ведь знаешь, проблемы у меня с ароматизацией. Представляешь, какой кофе может получиться? Ты ж потом замучишься кабинет проветривать.
Психолог отчетливо представил сероводородную вонь, так напоминающую общественные уборные, и с тяжелым вздохом достал банку кофе из ящика стола.
— На, проглот! — отдал банку Бесу. — Наслаждайся.
Бес, счастливо отфыркиваясь, схватил банку, быстро свинтил крышку и лизнул коричневый порошок.
— Что новенького? — спросил, негромко, вежливо чавкая.
— Да вот, кажется, нашел Спасателей, — задумчиво отозвался Психолог. — Помнишь, говорили о Треугольнике Судьбы? Триада: Спасатель-Преследователь-Жертва. И Спасателя не было. Так вот, теперь есть.
— Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее! — заинтересовался Бес, но чавкать кофейным порошком не прекратил.
— Для недолюбленного ребенка Спасателем может стать тот, кто его полюбит, — пояснил Психолог. — Вот наша подопечная всю жизнь провела в поисках таких Спасателей. Ей жизненно важно, чтобы ее любили. К тому же ей очень хотелось семейной любви.
— А как же ее знаменитая фраза: «Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья»? — удивился Бес. — Я как раз думал, что она полностью отказалась от семьи в пользу театра. Ну, вроде того, что театр заменил все, стал семьей.
— С одной стороны да, — согласился Психолог. — Ее «всем» был театр. Компенсация отсутствующих семейных отношений…
— Мне вот интересно — что это на самом деле? — перебил Бес. — Осознанный акт самопожертвования: я отдаю себя театру и отказываюсь от личной жизни? Или результат невозможности создания семьи, невозможности какой-либо личной жизни?
— Ты дослушай, — поморщился Психолог и, обжигаясь, глотнул чай. Как он и подозревал, лепестки оказались пересушенными, и чай неприятно пепельно горчил. — Театр — понятие очень обширное. Это примерно то же, что сказать: моя семья — весь мир. Так что о полном исключении семейных отношений речи не идет. В театре и рядом с театром она искала идеальную семью, которой ей так не хватало в детстве. В результате на роль матери она приняла Павлу Вульф, Анна Ахматова стала идеальной старшей сестрой, а Качалов — идеальным братом. Сначала на роль матери примерялась Екатерина Гельцер, но не сложилось. У Гельцер был совсем не материнский характер. Подругой, сестрой могла быть превосходной, но не матерью.
— Так почему же в сестры не взяла? — Бес послюнявил палец, сунул его в банку и облизал прилипший порошок. Психолог сделал вид, что ничего не заметил.
— Разница в возрасте, с одной стороны, — пояснил Психолог. — Но это не главное. Сестра ведь должна была быть старшей. Главной оказалась разница в положении на момент их знакомства. Гельцер тогда была знаменитой балериной, а Раневская — театральной неудачницей-дебютанткой, ее скорее даже можно отнести в том периоде просто к плеяде поклонниц театральных талантов, чем к начинающим актрисам. При таком раскладе Гельцер должна была бы стать матерью, но, как я уже говорил, это было не в ее характере.
— А ты уверен, что Павла Вульф стала этой самой идеальной матерью? — уточнил Бес. — Вдруг тоже что-то вроде старшей сестры или даже просто покровительницы таланта. Учительница. Любимая учительница, не спорю, но все же не мать.
— А вот, послушай… — Психолог открыл книгу. — Вот она писала ей в 1958 году: «Дорогая моя мамуля! У меня было впечатление от сегодняшней репетиции как от чего-то безнадежно и непоправимо кошмарного…» — классическое письмо любящей дочери маме. Или вот, в 1960 году: «Мамочка, золотиночка, нет под рукой бумаги, поэтому пишу на Ванечке (открытка с изображением Ван Клиберна. — Прим. авт. ). Все мои мысли, вся душа с тобой, а телом буду к 1 июля…» И еще интересное: «…Не сплю ночи, целые ночи не сплю. Тоскую смертно по Павле Леонтьевне. Если бы я писала что-то вроде воспоминаний, была бы горестная книжка. В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части. В жизни меня любила только П.Л. П.Л. скончалась в муках. А я все еще мучаюсь, как в аду».
— Да, ты прав, — согласился Бес. Он уже ополовинил кофейную банку и ощущал приятную расслабленность. — Она нашла себе идеальную мать, о которой мечтала.
— А также сестру и брата, то есть полный семейный набор, — заметил Психолог.
— Не полный! — Бес наставительно задрал палец. Острый коготь был испачкан кофе. — А где же папа?
— Станиславский! — не задумываясь, ответил Психолог. — Это идеальный отец, о котором она мечтала всю жизнь, как об идеальной матери.
— Но они ведь даже не были знакомы! — поразился Бес. — Ну, одна мимолетная встреча, да и то на бегу. У Станиславского таких встреч наверняка было множество, поклонницы его осаждали.
— А у нее — единственная, — парировал Психолог. — И он стал для нее отцом. Мало ли что она его совсем не знала. Это ведь и не обязательно. Тут та же ситуация, что и с детьми, чьи родители умерли, когда дети были еще маленькими. Эти дети не помнят родителей, но рассматривают их фотографии и воображают какие-то идеальные семейные отношения. Вроде того: если бы папа был жив, он бы научил меня драться и играть в футбол… И Раневская так же примерялась к Станиславскому, отведя ему в своей «семейной системе» место отца.
— А другие режиссеры не годились? — поинтересовался Бес.
— О! Это — отдельная история! — засмеялся Психолог. — Она ведь на остальных режиссеров перенесла свое отношение к настоящему отцу. Помнишь, каким она представляла господина Фельдмана?
— Самое главное, что она знала о своем отце: он ее не любит, — сказал Бес. — Остальное уже было вторичным. Если бы она думала, что он ее любит, то простила бы ему все что угодно, даже нос на макушке.
— В общем да, — кивнул Психолог. — Значит, не любит, а в дополнение к этому еще и авторитарный, жестокий, не умеет слушать, часто бывает неправ, крайне прагматичен, думает только о деньгах.
— Малоаппетитный портретик, — заметил Бес.
— Ну да, куда господину Фельдману до кофе, — усмехнулся Психолог, выразительно глядя на почти пустую кофейную банку. — Только не забывай, что портрет пристрастный и художник был склонен пользоваться исключительно черной краской, слегка разбавляя ее серой.
— Учту, — пообещал Бес и вновь запустил палец в кофе.
— А теперь подумай, какими неаппетитными представлялись ей режиссеры, если она наделяла их чертами своего отца, — вздохнул Психолог. — Не удивительно, что она с ними постоянно воевала.
— А как же утверждения о том, что режиссеры сами во всем виноваты? Они не понимают ее стремлений, не учитывают ее мнение и так далее? — поинтересовался Бес.
— Слышал я такую историю, — начал рассказывать Психолог. — Участников поименно не помню, но суть такова: репетировали пьесу, и режиссер, боясь обидеть Раневскую, все свои пожелания высказывал в исключительно вежливом тоне. Например: «Фаина Георгиевна, не будете ли вы любезны сделать шажок вправо. Но если вы считаете, что там вам стоять неудобно, то можно шажка и не делать…» В общем, облизывал как мог. А вечером Раневская позвонила подруге и спросила: «Ты тоже считаешь, что я плохо играю?» Та, разумеется, поспешила заверить: «Ну что вы, Фаиночка! Вы играете великолепно, как всегда!» И Раневская на это, чуть не плача в трубку, сказала: «Но как же я могу работать с режиссером, который считает, что я говно?»
— Ничего себе! — воскликнул пораженный Бес. — И это все из-за того, что он вежливо пытался донести до нее какую-то свою мысль?
— Вот именно, — кивнул Психолог. — Все дело в том, что она изначально настроена враждебно, и любое пожелание, любые слова режиссера воспринимались как личное оскорбление. Более того, сомнительно, чтобы она слышала, что ей говорят. Это как испорченный телефон: говорят одно, а слышится-то другое.
— Ага, — Бес потер ладони. — Как в той истории. Мужчина присаживается на скамейку, на которой уже сидит одинокая дама. При этом говорит: «Рыбонька, подвинься». Дама освобождает место и думает: «Рыба — значит щука. Щука — значит зубы. Зубы — значит собака…». И уже во весь голос, со слезами: «Това-ааарищи! Он меня сукой обозвал!!!»
— Именно! Тот же принцип. Можешь представить, как с ней мучились режиссеры, — Психолог печально покачал головой. — Но беда в том, что она тоже мучилась. Ведь она была искренне уверена, что каждое обращение «рыбонька» означает «сука». Понимаешь, ведь она ставила режиссеров в позицию Преследователя и, конечно же, сама тут же становилась Жертвой. Все тот же пресловутый Треугольник Судьбы.
— Настоящий кошмар, — согласился Бес. — Как вообще можно было работать в таких условиях?
— Но в других условиях она бы работать не смогла. Отказалась же она от роли миссис Сэвидж! [19]А ведь спектакль имел грандиозный успех! И за роль эту пришлось побороться. И все шло великолепно, но уже через год Раневская начала скандал. В августе 1967 года потребовала от руководства театра восстановить спектакль в первом составе, провести несколько репетиций с Варпаховским [20], угрожала, что если требования не выполнят, то она уйдет из спектакля. Требования были приняты, и она протянула в «Странной миссис Сэвидж» еще два года. Но все время была чем-то недовольна. И в конце концов отказалась от роли! А ведь эту роль называют одним из самых главных ее театральных успехов!
Ей был необходимо отец, которому она всю жизнь хотела доказать его неправоту. И если режиссеры не давали необходимой обратной реакции на ее выпады, она просто терялась, а затем эту реакцию воображала. Вот как в том случае, что я тебе рассказал, — Психолог покачал головой. — Зато теперь я понимаю, почему она столько лет проработала с Завадским, хотя у них был постоянный конфликт, доходящий до скандалов. Просто он выдавал столь необходимую ей «отцовскую» реакцию: постоянно твердил, что она делает что-то не так, не то, неправа и так далее. И она ругалась с ним так, как мечтала бы ругаться с настоящим отцом, да только не имела возможности.
— Мне даже жалко Завадского, — хмыкнул Бес. — Он же, бедняга, буквально жил на вулкане, который не спал, а периодически поджаривал ему тазобедренные суставы. Это ж все равно что пытаться заткнуть извержение собственным задом — больно и бесполезно.
— Однажды Завадский сказал ей, что своей игрой она сожрала весь его режиссерский замысел. На что Раневская ответила: «То-то у меня ощущение, что я наелась дерьма!» — Психолог помахал книгой, подтверждая, что ничего не придумал.
— Я очень сочувствую Завадскому, — признался Бес. — Его режиссерский путь не был устлан розовыми лепестками.
— Это еще ведь не все, — сказал Психолог. — Она ведь находила в театре не только отца, но еще и сестру, которой, по собственному признанию, отчаянно завидовала.
— Так ты же говорил, что место идеальной сестры заняла Ахматова!
— То идеальной, а была ведь еще и реальная Бэлла, которой страшно хотелось отомстить. Ведь это Бэлла заняла все место в сердцах родителей, она была красива, вышла замуж… У нее было все то, чего не было у Раневской. А так как по ряду причин настоящей Бэлле она мстить не могла — между прочим, она ее действительно любила, то вся месть обрушилась на головы тех, кто хоть немного был похож на сестру. То есть на красивых женщин, которые попадались на пути Раневской.
— Что-то такое я слышал, — задумчиво сказал Бес, вылизывая кофейную банку. — Говорили, что молодые актрисы в театре, которым приходилось работать с Раневской, в три ручья плакали, так она их доводила своим острым язычком. При этом чем красивее была актриса, тем больше ей доставалось.
— Вот именно, — кивнул Психолог. — Каждая из этих девушек была «Бэллой». По отношению к ним она была Преследователем, а они — Жертвой. Ты же помнишь, что в Треугольнике Судьбы человек обречен бегать от одной вершины к другой, переходя с позиции Жертвы на позицию Преследователя, затем Спасателя и вновь по кругу…
— А как же Орлова? Марецкая? Да множество других! — удивился Бес. — Красивые женщины…
— Ну ты сравнил! — Психолог даже засмеялся. — Это ведь были примы! Над ними особенно не поиздеваешься. К тому же они могли позволить себе определенную дозу насмешек. А могли и ответить, чего не позволяли себе обычные актрисы. Молоденькой актрисе спорить, а уж тем более ссориться с Раневской было невозможно. Ну а с той же Орловой Раневская не стала бы ссориться сама. Тут можно говорить об определенном равновесии, то есть о выходе из Треугольника Судьбы. Хотя и не совсем, конечно. Ведь она их все же поддразнивала, и не всегда безобидно.
— Какое жуткое противоречие, — поежился Бес. — С одной стороны, она ищет любовь, хочет, чтобы ее любили, более того — даже пресмыкается ради любви. А с другой — делает все, чтобы завести врагов.
— Ты не забывай, она ведь не верила в добрые чувства к себе. Была убеждена, что ее любить невозможно, не за что, — ответил Психолог. — Между прочим, поэтому у нее всегда была гипертрофированная реакция на проявление добрых чувств. Стоило только кому-то проявить к ней добрые чувства, выказать любовь, привязанность, как она немедленно преисполнялась благодарности к этому человеку. Она наделяла такого человека всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами, готова была простить ему все недостатки, возводила его на пьедестал. Самым главным для нее было именно то, что ее наконец-то сочли достойной любви и дружбы. Это как много битая собака — сначала не верит в ласку, а уж если поверит, то за этого человека перегрызет горло, умрет ради него. А он, может, просто проходя мимо, ее погладил…
— Я вот чего не могу понять, — Бес почесал затылок, с трудом протискивая коготь между тугими кудряшками. — Если она так боялась нелюбви, то как же могла набраться храбрости, чтобы прийти к Ахматовой, например? Или к той же Павле Вульф? Обрати внимание, у нее много таких случаев в жизни, когда она являлась к известным людям, а потом между ними завязывалась самая настоящая дружба. Но при этом опасалась знакомиться с обычными людьми, опасалась дружбы, я уже не говорю о других отношениях.
— Ты сам сказал ключевые слова, — заметил Психолог. — Все это были известные люди. Титаны, можно сказать, с ее точки зрения. Если бы они ее отвергли, это было бы нормальным явлением. Титаны не обязаны замечать простых смертных. А вот если бы отверг обычный человек — это больно, это страшно. Что дозволено Юпитеру, то не позволено быку, как говорили в старину. А ведь титаны ее не отвергали, так как она сама была человеком незаурядным. Просто никак не могла в это поверить.
Психолог глотнул остывший чай и сморщился. Холодный привкус пепла был еще отвратительнее. Он отставил в сторону чашку и вновь заговорил:
— Она прожила жизнь, постоянно ожидая подвоха от окружающих. Это как с тем режиссером, который был вежлив безупречно, но все равно был обвинен во всех смертных грехах. Она постоянно ждала удара, как все та же много битая собака. Когда к такой собаке приближаешься с куском мяса, она не верит. Она считает, что мясо отравлено. Потому что всю жизнь ее преследуют удары и отравленное мясо.
Очень характерна сцена в «Свадьбе» [21], где Раневская играет мать невесты — женщину весьма недалекую, довольно зловредную, старающуюся командовать мужем. Недаром, кивая на нее, муж интересуется у греческого купца: «А что, тигры в Греции есть?» Желая подшутить над «тигрой»-женой, он наливает в бокал водку и селедочный рассол и все это щедро сдабривает перцем. После чего предлагает жене, мотивируя тем, что неплохо бы выпить за здоровье молодых.
И вот тут ключевой момент, раскрывающий характер не столько чеховского персонажа, сколько самой Раневской: «тигр» расчувствовался! Да буквально до слез на глазах. Малейшее проявление доброго отношения — и вместо тигра мы видим безобидную кошку, немного облезлую из-за нехватки ласки. И, утирая слезы, она целует мужа, купца Дымбу, и — выпивает бокал! Муж и Дымба, радостно хихикая, уходят, а несчастную, выпившую адскую смесь, перекашивает. Но в искаженном лице можно заметить обреченность: все вышло так же, как и всегда, ласка оказалась обманом, предлогом, чтобы ударить как можно больнее.
Любопытно, что в выражении лица нет разочарования, хотя именно его можно было бы ожидать от человека, обманувшегося в своих ожиданиях. Но нет. Очевидно, ожидания как раз обмануты и не были, подсознательно именно такого поведения окружающих ожидала если не героиня, то сама Раневская.
— Интересная трактовка, — задумался Бес. — А я, признаться, в этой мамаше невесты видел только злющую бабу. Но действительно, есть в ней что-то жалкое… жалобное. Но что же тогда получается? С одной стороны, она ставит себе отрицательную оценку и готова пресмыкаться перед теми, кого считает выше себя, с другой стороны — ее оценка завышено-положительная, и тех, кто оказывается ниже, она унижает еще больше?
— Об одной певице она сказала: «У нее прекрасный голос! Но когда она поет, то создается впечатление, будто кто-то ссыт в жестяной таз», — сказал Психолог. — Как думаешь, сколько у нее прибавилось друзей после этой фразы?
— А фраза хороша! — засмеялся Бес. — Хотя на месте той певицы я б глаза выцарапал автору.
— Вот именно. И ведь старались выцарапать, — вздохнул Психолог. — Что не удивительно. Людям не нравится, когда их унижают. Но при этом сама Раневская утверждала, что ей не давали жить завистники таланта… И многие ее доброжелатели тоже говорили о том, что ее затирали, не давали ролей, и так далее, исключительно из зависти к таланту. Никто не пожелал сказать вслух, что во многом это «затирание» было обусловлено ее собственным характером, ее манерой обращения с окружающими.
— Ну да, у недоброжелателей не спрашивали, а поклонники никогда бы такого не сказали, — фыркнул Бес.
— Естественно. — Психолог отобрал у Беса пустую кофейную банку, вылизанную до блеска. — Послушай, ты опять выжрал весь кофе. В следующий раз приходи со своим. Мне ж никакой зарплаты не хватит — снабжать тебя каждый день банкой!
— Жадный ты, — укоризненно заявил Бес. — Баночку кофе пожалел… Эх ты, а еще друг!
Хочу домой
За окном нудно, как царевна-несмеяна, плакал осенний дождик, и мокнущие листья деревьев из последних сил цеплялись за ветки, не желая падать в раскисшую грязь. Психолог был не в настроении: по дороге на работу проезжающая мимо машина обдала его фонтаном мутной глинистой воды, и на костюме остались противные пятна, никак не желающие подсыхать. От мерзкого внутреннего озноба не помогал горячий чай, и Психолог подумал, что простудился. Наконец очередной стакан крутого кипятка избавил его от дрожи, и он отправился в комнату для приемов. Поправил подушечки на диване, заботливо достал плед, развернул его.
Раневская немного опоздала. Вошла, отфыркиваясь и встряхиваясь, как собака после дождя, тряхнула большим серым зонтом с деревянной рукоятью.
— Я тут в уголке его поставлю, — пробасила, пристраивая раскрытый зонт посреди комнаты. — Пусть просохнет как следует.
Удивительно, но этот зонт, загромоздив комнату, неожиданно придал ей какой-то домашний уют.
Психолог расставил на журнальном столике фарфоровых кошечек. Кошечки — на любой вкус. С одинаково-изысканными персидскими мордочками и пышными хвостами, они стоят на лыжах и костылях, уютно сворачиваются в клубок, носят кроссовки и нарядные платья…
— Фаина Георгиевна, выберите ту, что больше всего нравится, — предложил, подвигая столик поближе к дивану.
— Предпочитаю собак! — отрезала Раневская. На кошечек она даже не взглянула.
Психолог с тоской вспомнил погибшую коллекцию далматинцев. Он тоже всегда предпочитал собак, ведь ни одна собака не зашипела на него и не исцарапала, чего нельзя сказать о кошках.
— А почему вам нравятся собаки? — поинтересовался Психолог, переставляя кошек. Раневская внимательно наблюдала за его манипуляциями из-под опущенных ресниц.
— Собаки преданы безусловно, — вздохнула Раневская. — Они любят хозяина всегда, даже если этот хозяин плох. Собственно говоря, для собаки вообще не существует такого понятия, как «плохой хозяин». Есть «ее человек», и этому человеку собака отдает всю свою любовь и преданность. И какую любовь! Собака умрет ради Своего Человека. Кошки — совсем другое дело. Кошка еще подумает, а достоин ли человек ее любви, не говоря уже о преданности. Да и любовь кошки неглубока, в первую очередь она думает о себе, а уж потом о человеке. Если бы вы познакомились с моим Мальчиком, то поняли бы, о чем я говорю.
— Я понимаю, — кивнул Психолог. — Но все же выберите фигурку. Представьте, что это такие собаки.
Раневская засмеялась. Она наклонилась над столиком, перебирая кошек. Покрутила в пальцах нарядную киску в кокетливой шляпке с цветами в лапах, отставила в сторону. Взяла кошечку-лыжницу, погладила пышный хвост, провела пальцем по помпону на шапочке, но тоже отставила в сторону. Туда же отправилась и дачница — симпатичная киска в резиновых сапожках и цветастом фартучке с грабельками в лапах. Сердитая кошка, оскалившаяся, выгнувшая спину дугой, грозно взъерошенная, явно не понравилась — Раневская отставила ее с гримасой неодобрения. Но тут же убрала и ласковую…
В конце концов осталось только две статуэтки. Одну из них Психолог называл «Просто Кошка» — обычная кошка сидела, обернув лапки хвостом. Не было ни платьев, ни шляпок, ни цветочков, ни футбольных мячей. Хоть сейчас за мышами. Вторая носила имя Калека — обмотанная бинтами, с загипсованной задней лапкой, с костылями под мышкой… В общем, действительно калека.
Психолог затаил дыхание, ожидая, какой же фигурке будет оказано предпочтение. Он предугадывал ответ, но все же продолжал надеяться.
Раневская покрутила Просто Кошку, даже улыбнулась ей, но затем решительно взяла Калеку.
— Вот эта, — подала статуэтку Психологу. — Я выбираю эту.
— Спасибо, — Психолог поставил статуэтку около пирамидальных часов, а остальные сложил в коробку.
— Что-то вы не проявляете любопытства, — заметила Раневская. — Даже не спросили, почему я выбрала эту, а ведь там много гораздо более симпатичных фифочек.
— И почему же? — Психолог улыбнулся. — Они вам не понравились?
— Мне вообще не нравятся кошки, — безапелляционно заявила Раневская. — Но вот эту стало жалко. Надо же было так над ней поиздеваться! Живого места нет. Неужто мало было просто одной загипсованной лапы?
— Сложно сказать, — Психолог поскреб затылок. — Я ведь их не делаю, эти статуэтки. Ну а за художника не отвечаю. Он так увидел эту кошку.
— Сегодня плохой день, — сказала Раневская, меняя тему, но рука ее протянулась к Калеке, пальцы погладили фарфоровую головку. — Тоскливый, нудный. В такую погоду я часто просыпаюсь по ночам с одной мыслью: «Хочу домой!» Это желание преследует меня с давних пор. Я нигде не могла почувствовать себя дома. Всегда были какие-то чужие углы, которые почему-то назывались моими. Был даже домашний уют, но ощущения родного дома не было никогда.
Что такое родной дом? Это там, где безопасно. Где никогда с тобой не может случиться ничего плохого. Вообще ничего! Даже мелкой простуды. А если случилось — ну должны же быть и гадости для равновесия, чтобы сделать хорошее более заметным! — то оно безобидно и быстро проходит.
Как-то мне снился наш дом в Таганроге. Дом моего отца. Снился долго, чуть не два месяца, каждую ночь. Мне снилось, что его разбили на квартиры и в каждой квартире живет семья. Но одна маленькая двухкомнатная квартирка была свободна, и я знала, что она — моя. Это была наша бывшая детская, разделенная фанерной перегородкой на две комнаты. Я входила туда, усаживалась в старое продавленное кресло, покрытое пылью — ведь в него много лет никто не садился, — и чувствовала, что я дома.
Я была там одна. Никто, ни отец, ни мать, ни брат, ни сестра не входили в дом, а тем более в эту квартирку. Я знала, что они очень далеко и квартирка полностью моя. Более того, она дожидалась именно меня, поскрипывая стенами и потрескивая отклеивающимися цветастыми обоями.
Один раз мне приснилось, что я иду по совершенно незнакомой улице, и вдруг впереди возникает мой дом. Он появился там, как появляются в сказках дворцы, построенные волшебством за мгновение. Вокруг лежали сугробы, и не было ни одной протоптанной тропинки к подъезду, ни единого следа к входной двери. Да и сама дверь была страшно потертая, обшарпанная, с облупившейся пузырями краской. Дом выглядел заброшенным и нежилым, окна были плотно заколочены, но меня тянуло к нему неимоверно. Проваливаясь в сугробы, я пробралась к двери, с трудом отодвинула ее, протиснулась в небольшую щель.
И вдруг — очередное чудо! — дом оказался полон людей, света и запахов. Пахло свежими булочками и убежавшим молоком, тянуло сытным запахом настоящего куриного бульона — золотистого, с алыми морковными кружочками, сливочными тянучками и густым, бодрящим кофейным ароматом, к которому примешивалась пряная коричная нотка. А из-за множества приоткрытых дверей на меня настороженно смотрели глаза.
Потом кто-то сказал, что нехорошо получается — дверь открыта, к подъезду ведут следы, и теперь все узнают, что в доме живут. Из одной квартирки выскочил мальчишка в цигейковой шубке и сползающем на глаза лисьем малахае, ссыпался по лестнице дробной рысью, высунулся на улицу и замахал веником. Он заметал мои следы. А затем тщательно закрыл дверь.
Проходя мимо меня, мальчишка буркнул, что нужно в следующий раз быть аккуратнее. То, что в доме живут, большая тайна. И нужно быть очень внимательной и ни в коем случае не оставлять следов. Я только молча кивнула. Мне было ужасно стыдно, и я чувствовала себя виноватой, будто вломилась в чужой дом без спроса, да еще и нагадила на любимый ковер хозяйки.
Но квартирка на месте нашей бывшей детской была свободна и дожидалась именно меня. Старый буфет, продавленное кресло, мутное зеркало с облезшей амальгамой в вычурной кованой раме, тахта с выпирающими под обивкой пружинами… все это было моим, родным и знакомым. Стол со сломанной и укрепленной двумя криво прибитыми дощечками ножкой торжественно удерживал на себе тонкую стеклянную вазочку с ромашками — и откуда ромашки посреди снежного города? — и тарелку с горячими, плывущими маслом булочками. Рядом с вазочкой стояла чашка с густым горячим шоколадом. Все это было мое и для меня. И квартирка выглядела ухоженной и уютной, несмотря на всю потертость и колченогость мебели. Но за ветхими кружевными занавесками прятались заколоченные окна — через них не пробивалось ни единого лучика света.
Странно, но то, что окна были заколочены, вселило в меня чувство уверенности и безопасности. «Тут меня никто не найдет», — говорила я себе, хотя кто бы стал вообще меня искать? Но там, во сне, я знала, что именно здесь, в этой глупой квартирке, полной старой мебели, с глупыми булочками и ромашками, со мной не может случиться ничего плохого. Что именно там — настоящая радость.
А еще я знала, что в квартирах по соседству живут мои друзья. Просто они еще не знают о том, что они — друзья, и я с ними еще не познакомилась. И я не спешила со знакомством, оставляя его на потом, как десерт. Там могли жить и те, кого я знала раньше, с кем дружила, кого любила. Но в этом удивительном доме, который притворялся нежилым, нужно было начинать все сначала и заново знакомиться со своими любимыми.
После таких снов я просыпалась в слезах. Мне хотелось немедленно ехать в Таганрог. Туда, где ждет мой дом. Но, окончательно стряхнув сон, я начинала соображать, что никто и нигде меня не ждет. Нет никакой квартирки из нашей бывшей детской, и не стоит там старое кресло из гостиной, и нет давно кухонного буфета… Ничего этого уже нет. Остались только стены дома, но это не то, что нужно.
Иногда перед сном, ощущая все старческие боли в теле, я говорю себе: «Я хочу домой!» Почему-то мне представляется, что как только я попаду домой, то старость немедленно отступит, тело вновь станет гибким, кожа — гладкой, а в душе поселится радость. И тут же соображаю, что сказала неимоверную глупость. У меня нет и не может быть дома. Только временные обиталища.
А однажды я нарисовала наш старый дом. Окна, балкончик с гнутой решеткой, густую зелень вокруг. И себя рядом — девчонкой в платье гимназистки. Глядя на рисунок, я даже чувствовала запах травы и листьев, будто только что прошел дождь и летнее солнце нагревает мокрые тротуары, а цветы начинают сказочно благоухать…
Вот только почему-то на том рисунке все окна были забраны такими учрежденческими решетками. Совершенно глупыми и грубыми. А еще, посмотрев на картинку через несколько дней, я поняла, что вся моя семья находится в доме, запертая за этими решетками. И только я стою на улице. Они — там, а я — тут… И никогда нам не быть вместе.
А ведь мы встречались. Конечно, не в Таганроге. Но когда в 1947 году в Чехословакии снимали «Весну» [22], я видела маму и брата. Почти каждый день я бывала у них. Но вот какая странность: как только прошла первая радость встречи, мне стало неловко, неуютно в их обществе. Мы были очень разными, прожили разную жизнь, долгие годы в разлуке. И я, конечно, знала, что вот они — мои близкие и родные люди, которых я должна любить, потому что они — моя семья, но… Я не чувствовала этого. Все было в голове, а в сердце — почти что ничего.
Больше всего это было похоже на встречу с друзьями детства. Когда ищешь во взрослых лицах стершиеся детские черты и поражаешься: неужели вот этот человек был твоей самой близкой подругой много лет назад? Вам же совершенно не о чем говорить! Вы рассказали друг другу основные события вашей жизни — кто, где и кем работает, замужем или нет, есть ли дети, и на этом все! А из общих воспоминаний лишь куличики из песка… И понимаешь, что детство давно ушло и говорить о душевных порывах с этим, посторонним в сущности, человеком не хочется, и мучительно ищешь повод побыстрее распрощаться.
Мама была ужасающе старая, брат — слишком взрослым, общие воспоминания у нас быстро иссякли, а рассказать тридцать лет жизни невозможно. Да и не хочется, уж слишком многое приходится объяснять. Мы жили в разных странах, в совершенно разных условиях, и то, что для меня являлось естественным — для них было непостижимым, и наоборот. В Москве во время войны мы, полуголодные, в разгромленной неотапливаемой студии делали веселые фильмы, падая от усталости и даже не имея сил снять грим после съемки. Мы получали копейки, и я вечно была в долгах. Как можно было объяснить это моей семье, если Barrandov Studio, где мы снимали «Весну», была полной различной техникой, о которой там, в Москве, мы могли только мечтать? Множество декораций, шикарные костюмерные… А мы в Москве шили костюмы чуть не из дерюги, а для съемок «Золушки» тащили из дому различные вещи, чтобы украсить интерьер. Если второразрядные актрисы носили бриллианты, и это было естественным? Как рассказать, почему мы с Ахматовой смеялись, когда она сказала: «Фаина, вы можете представить меня в бриллиантах?» Мы были слишком разными, слишком далеко развели нас прошедшие тридцать лет…
Потом я делала еще одну попытку. Моя сестра овдовела, и я пригласила ее в Москву. Знали бы вы, сколько порогов пришлось обить, сколько бумажек подписать, чтобы получить для Бэллы разрешение вернуться! Но я была стара и очень известна, поэтому моей сестре было позволено приехать в Москву.
Мне казалось, что двухкомнатной квартиры нам хватит с избытком, ну а о деньгах я никогда особенно не беспокоилась. Как-то по поводу денег я сказала, что среди моих бумаг нет ничего, напоминающего денежные знаки, и эта фраза стала крылатой. Но так оно и было: денег никогда не было, но всегда все как-то устраивалось.
Бэлла приехала. Какая же она была красивая! Старше меня, и я ожидала, что она будет совсем старухой. Но и в старости она сохранила красоту, и мужчины оборачивались ей вслед. Она даже ухитрялась быть кокетливой, несмотря на возраст, и это получалось у нее совершенно естественно.
Я вновь позавидовала сестре. Мне тоже вслед оборачивались, но вовсе не из-за моей красоты. Все дело было в моей известности. Меня преследовал проклятый Муля, и даже мальчишки свистели мне вслед, крича: «Муля! Не нервируй меня!» Бэлле не нужен был Муля, чтобы на нее обратили внимание.
Вынужденные жить в одной квартире, мы трагически не понимали друг друга. Между нами непреодолимым барьером стояли все те же долгие годы, проведенные в совершенно различных условиях, — так же, как с мамой и братом. Пытаясь вспомнить адрес аптеки, где она заказала очки, Бэлла говорила: «Это находится на улице какого-то там сентября…» Оказалось, что речь идет об улице имени 25 Октября, но эта дата ни о чем не говорила моей сестре! Поймите, это не мелочь, это основа всей жизни, и она оказалась у нас различной.
Бэлла удивлялась моей бедности. По ее понятиям столь знаменитая актриса, имеющая правительственные награды, да еще и так узнаваемая на улицах, должна была жить в собственном особняке, иметь множество прислуги, а не одну вороватую домработницу, ездить на собственном роскошном автомобиле. Она не могла принять мои платья, которые я носила по нескольку лет. Мало того, что в ее глазах эти платья были давно вышедшими из моды — знаменитостям прощают такие причуды, но они ведь были старыми! Три года платью — немыслимо! Три дня подошло бы куда как больше.
А еще Бэллу удивляла моя любовь делать подарки — при такой-то бедности! Вы будете смеяться, но я все свои деньги тратила на подарки, а потом сидела чуть не голодная, одалживалась у друзей, не отдавала долги, потому что было нечем. Однажды из-за этого даже поссорилась с Танечкой Тэсс [23]. Понимаете, Танечка никогда не бедствовала, и я как-то попросила у нее одолжить денег. А она вежливо так мне сказала: «Фаиночка, вам будет трудно отдать». Милый такой отказ! Я очень, очень обиделась. Потом, конечно, мы помирились.
Помню, как однажды я получила в театре гонорар за спектакль. И что-то много денег там было. Главная роль… Увесистая такая пачка купюр. И так мне показалось это неловко, стыдно, что у меня столько денег. А вокруг множество людей, которым позарез деньги нужны. И я бегала по театру, спрашивая у всех подряд: «Вам не нужны деньги? Возьмите, у меня есть». И раздавала, не считая. А уже потом, когда почти ничего не осталось, я вспомнила, что хотела купить себе новое платье, да еще нужны деньги на хозяйство, и домработнице заплатить… Самым обидным было то, что, вспоминая, кому я раздала деньги, я сообразила, что все это были неприятные мне люди!
Конечно, все это поражало Бэллу и казалось ей неправильным.
Мы недолго были вместе, всего четыре года. Бэлла умерла, и я опять ей позавидовала. Ей было дано то, в чем отказали мне, как в красоте: умереть на руках близкого и родного человека. А все мои близкие и родные уже давно ушли, и я совсем одна, и умирать мне — одной, и никто, кроме Мальчика, не понимает весь трагизм этого. А Мальчик — всего лишь собака…
Вместе с Бэллой окончательно ушло чувство защищенности, которое и так-то бывало у меня редко, но рядом с близкими друзьями я все же испытывала его. После смерти сестры я больше нигде и никогда не могла почувствовать себя защищенной, спокойной. Я нигде не была дома. Вы даже не представляете, как это тяжело — не иметь собственного дома, настоящего дома, а не просто четыре стены, к которым прислоняется мебель…
А через год после Бэллы умерла Ирина Вульф, одиночество стало бесповоротным, а собственная квартира превратилась в настоящий склеп. Знаете, я даже перестала запирать двери — пусть входит кто хочет, лишь бы кто-нибудь захотел войти!
Но двери открываются редко. Гости приходят, но иногда мне кажется, что все обо мне забыли, бросили меня. И в такие моменты до дикой боли в сердце мне хочется домой. Как будто где-то на земле есть такое чудо — Мой Дом…
Костыли для тирана
Психолог расставлял на столе фарфоровых кошечек. Леди с зонтиком, Кокетку в кружевной шляпке, Цветочницу с корзинкой фиалок… Кошечек было много, на любой вкус.
— Опять ты кошачий тест делал? — спросил Бес, для разнообразия входя в дверь, а не возникая в кресле. Он считал, что иногда нужно отказываться от эффектов, чтобы не утратить элемент неожиданности.
— Делал, — буркнул Психолог, рассматривая кошачью стаю.
— По-моему, собаки были лучше, — заметил Бес, повернул к себе Просто Кошку и щелкнул ее по носу.
Психолог скрипнул зубами. Воспоминания о фарфоровых собачках все еще были болезненными.
— И кого она выбрала? — Бес почесал Просто Кошку за ухом, и Психологу на мгновение показалось, что фарфоровый зверек счастливо прижмурился.
— Вот эту, — Психолог поставил перед Бесом Калеку.
— Худо дело! — присвистнул Бес. — Хотя следовало этого ожидать.
— Да, следовало, — согласился Психолог. — Вот такой она себя видит…
— Малоаппетитно, но для недолюбленного ребенка естественно, — сказал Бес. — Послушай, а кофе нет?
— Тебе бы только кофе, — возмутился Психолог. — Я тут голову ломаю, а ты хочешь, чтобы я по магазинам бегал, твой любимый сорт искал.
— Да чего тут ломать еще? Диагноз есть, все понятно. Вечно тебя что-то не устраивает! — обиженный Бес развалился в кресле, поскреб копытцами по полу. — Да выкладывай уже, что там у тебя в голове тикает. Очередная бомба?
— Ну, бомба или нет, еще не знаю, — задумчиво буркнул Психолог. — Но у нее противоречие в поведении. То она ведет себя высокомерно, то напротив — униженно, будто чувствует себя гадким утенком, которому не суждено стать лебедем. Понимаешь, когда она сказала про то, что любит делать подарки, меня как ударило.
— Наверное, я туго соображаю без кофе, — сказал Бес. — Чему тут ударять? У нее — отсутствие защищенности, она страстно желает, чтобы ее любили, поэтому пытается хотя бы купить любовь, если уж не получается, чтобы любили просто так. Ты же читал воспоминания ее эрзац-внука? «Хорошевка была для Раневской домом, где жили люди, которым ей всегда хотелось помочь, где она чувствовала себя чуть-чуть триумфатором, волшебником, приносящим сюрпризы, подарки, неожиданности».
— Да, к этой же категории относятся ее подарки в театре, раздача денег и прочее, особенно тем людям, которые ей неприятны, — согласился Психолог. — Это обычная попытка задобрить потенциальных врагов, предложение капитуляции и дружбы.
— Все складывается, не понимаю, над чем еще тут голову ломать? Бомба-то где? Что там у тебя тикало?
— А вот смотри… История с Татьяной Тэсс, — Психолог запустил пальцы в прическу, несильно дернул, будто хотел стимулировать таким образом мыслительный процесс. — Раневская обижается на Тэсс из-за того, что та отказывается одолжить ей денег. При этом и Раневская, и Тэсс прекрасно знают, что долг возвращен не будет. И если в первом случае мы имеем дело с поведением гадкого утенка, то тут уже — высокомерный творец. Два разных комплекса! Причем поведенческие особенности у этих комплексов противоположные!
— Ты еще поройся, так найдешь и третий, — пообещал Бес.
— Мне кажется, что хватит и того, что уже нашлось, — поморщился Психолог. — Я бы сказал, что в данном случае мы имеем дело с довольно сложным комплексом — раболепствующий тиран.
— Это еще что за зверь? — Бес вздернул брови, пятачок его удивленно задвигался вверх-вниз. — Нет ли здесь противоречия? Тиран не может быть раболепствующим.
— Еще как может, — вздохнул Психолог. — У тебя за спиной стоит книга. Посмотри сам. Только не рви страницы, эта книга мне еще пригодится.
— Ты об этой, что ли? — Бес, не глядя, протянул руку, и в его ладонь ткнулся корешок. — «Если хочешь быть счастливым», М.Е. Литвак? Оно?
— Именно, — Психолог в очередной раз удивился ловкости Беса. То ли мысли он читал, то ли сверхчувствительным нюхом своим улавливал какие-то невербальные сигналы, недоступные человеку, но всегда угадывал книгу, фильм или в какой руке монетка. А уж кофейную банку за спиной чуял за километры.
Бес покрутил книгу в руках, погладил обложку.
— Ты в самом деле это читаешь? — с подозрением спросил.
— И представь, даже получаю от этого удовольствие, — улыбнулся Психолог. — Да ты посмотри, посмотри, не чеши обложку, внутрь загляни. Там как раз очень хорошо про раболепствующего тирана написано.
— Как скажешь, — вздохнул Бес и открыл книгу. Психолог заметил, что и страницей он не промахнулся. — Тут написано, что это — нестабильный личностный комплекс… Слу-ушай, а я вот тут совсем интересное нашел: «Мои потребности определяют три инстинкта: пищевой, оборонительный и сексуальный. Они перечислены по степени важности для организма. Если я голоден, не нахожусь в безопасности, мне не до секса». Может, именно поэтому у твоей подопечной были проблемы с личной жизнью? Просто все ее силы уходили на зарабатывание денег и обеспечение безопасности. А?
— Не совсем так. Она не была настолько голодной или настолько в опасности, чтобы стало не до секса, но тщательно всю жизнь убеждала себя в этом, — Психолог потер виски пальцами и подумал, что придется выпить аспирин. Голова опять разболелась. — Ты не там смотришь. Если хочешь читать с самого начала, то я не против. Но, пожалуйста, без меня. Пойдешь вот отдыхать на диван, можешь прихватить книгу с собой. А пока давай про раболепствующего тирана.
— Да я уж посмотрел… Прямо шерсть дыбом, даже на хвосте! — признался Бес. — Например вот, частое мнение носителей данного комплекса: «Моя жизнь кончилась, я доживаю». Да в любой книге цитат Раневской можно найти эти слова! А вот еще: «…раболепствующие тираны не получали образования, соответствующего их способностям, у них просто на это не хватало сил. Среди них было много лиц с незаконченным высшим образованием, обычно незащищенной кандидатской или докторской диссертацией. На даче они никак не могли завершить строительство дома, а в квартире — ремонт. Их книги оставались недописанными…» И вот то, во что ты меня пытаешься ткнуть носом, — Бес подмигнул приятелю. — «Поведение таких клиентов и больных отличается противоречивостью. То они робки и застенчивы… то заносчивы и высокомерны. Кроме того, в одних и тех же ситуациях они могут вести себя по-разному: то тихо и незаметно, то претенциозно и конфликтно».
— Вот именно, — кивнул Психолог и поморщился. Любое движение головы вызывало боль. — Нестабильный комплекс, перескакивающий из одного положения в другое. То она ставит на пьедестал других, то себя… Ну и все остальное так же. То театр — единственное счастье в жизни, то — жуткая клоака и поэтому на памятнике нужно написать «Умерла от отвращения»…
— И при этом она считает, что с ней что-то сильно не в порядке, — добавил Бес. — То есть ее «Я» чаще всего находится в позиции «минус». Ну, это я сужу по тому, какую кошку она выбрала.
— Между прочим, у меня есть подозрение, что именно это и способствовало ее успеху, — сказал Психолог к удивлению Беса. — Понимаешь, у раболепствующих тиранов обычно «Я» находится в плюсовой позиции и изредка переключается в минусовую. А тут — прямо наоборот. Переключения, к огорчению окружающих, не так уж редки, но тем не менее основная позиция по отношению к собственной личности — отрицательная. Как она говорила: «Успех — глупо мне, умной, ему радоваться. Я не знала успеха у себя самой…»
— А при отрицательной позиции «Я» труд становится в положительную! — обрадовался Бес. — И она все силы свои вкладывает в роли. А при ее таланте не удивительно, что это дает такой потрясающий результат! Знаешь, миллионы зрителей выиграли от наличия у нее этого комплекса.
— Как сказать, — задумался Психолог. — Мы ведь не знаем, что потеряли. А если бы у нее такого комплекса не было, если бы она не делала все, чтобы избавиться от многих ролей — бессознательно, конечно! — то, может, нам, как зрителям, было бы лучше? Ты подумай, ведь она сыграла совсем немного, совсем… Пару-тройку десятков ролей, что в кино, что в театре, и по большей части это эпизоды. Она сама о себе говорила: «Я — кладбище несыгранных ролей». Считала, что способна на гораздо, гораздо большее. И это ведь чистая правда! С ее талантом — и такой мизерный результат… Да, мы радуемся, потому что получили хоть что-то, когда могли не получить вообще ничего. Но, может быть, мы радуемся рассыпанным крошкам, а каравай даже и не видели.
— Могу предложить тебе другой вариант, — фыркнул Бес. — Нет комплекса, и вообще нет актрисы Фаины Раневской. Вообще! Так что лучше: радоваться крошкам или сетовать из-за отсутствия каравая, который то ли есть, то ли нет?
— Ну да, ну да, синица в руках, журавль в небе, а мы должны есть манную кашу с комками, потому что другой у нас нет, — засмеялся Психолог и тут же сморщился — смех отдавался в голове неприятной болью. — Вообще-то ты прав. Но знаешь в чем беда? Мне все равно ее жалко…
Старая мебель
— За окном дождь и слякоть, и осенние листья, мокнущие, как мои воспоминания. Сейчас бы хорошо устроиться где-нибудь около огня. Около камина, но сгодится даже обычная печка-буржуйка. Лишь бы только шли волны тепла. Я уже говорила вам, молодой человек, что у вас тут очень удобный диван? Не продавлен, никаких выпирающих пружин. Моя-то тахта совсем уже… состарилась, как и я сама. И так же пытается рассыпаться на части. Вот держится, пока еще нужна мне. А умру — и от нее даже щепки не останется, труха и пыль.
Вас интересует моя старая мебель? Точнее — почему она старая? А если я скажу, что все дело в ужасающей нищете, вы отстанете от меня с этим вопросом? Я так и думала, что нет…
Ну, отсутствие денег, конечно, тоже играет свою роль. Я ведь, знаете ли, ужасающе непрактична. Деньги у меня не задерживаются, а кроме всего прочего, я вечно кому-то что-то должна. Долги виснут на шее, как мельничные жернова, вызывают мысли о смерти. Да-да, хочется умереть, чтобы только избавиться от долгов. Я даже как-то высказалась на эту тему. Может, и не раз. Просто больное место. Должна друзьям, а отдавать не из чего. Казалось бы — хорошая зарплата, но она всегда утекает, как вода между пальцев, оставляя лишь мокрые пятна. Мне должны кругом и всюду, но напоминать об этом не могу. Ведь если не отдают, значит, нечем! Ну не буду же я забирать последнее…
Чтобы заработать, я даже как-то согласилась написать мемуары. И взяла часть гонорара вперед. Думала — куплю зимнее пальто. Да только ничего не вышло с этой затеей. Деньги потратились, а мемуары я так и не написала. В результате осталась еще должна и издательству. Странно, что вы не смеетесь. Многих это смешит.
А мемуары я начинала писать несколько раз. Бралась и бросала. Но однажды все-таки написала до конца. Три года потратила на писанину! А потом прочла… порвала все и выбросила. Пусть кто-то другой пишет мемуары. Пусть даже пишет о том, как был знаком со мной. Хотите, можете и вы написать мемуары. Мне уже будет все равно, а вам, возможно, приятно.
Всем интересно — почему это я уничтожила свои воспоминания. Особенно тогда, когда уже взяла задаток у издательства. Я ведь тогда действительно хотела написать. А почему бы и нет? Все пишут, а я ничем не хуже остальных. Тем более, что мне есть что вспомнить. С какими людьми я была знакома! Сейчас это идолы современной культуры. И я могла бы написать многое. Да и гонорар за книгу — не последнее дело. Долги уже давно стали моей хронической болезнью. Но поймите, нужно или писать все, или ничего. Я думала, что можно что-то обойти. Но когда начала писать, то поняла — так не получится. Все считают, что я не захотела писать нечто этакое о своих друзьях. Я не разубеждаю. На самом деле я не захотела писать о себе.
Вы думаете, я такая вся из себя уверенная? Точно знаю, что нужно делать? И всегда во всем права? Да у меня полно воспоминаний, о которых я сама могу думать только глубокой ночью, в полной темноте, с головой накрывшись одеялом и зажмурив глаза — чтобы случайно не увидеть собственной физиономии. Мне стыдно! Мне хочется плакать, вспоминая, какой я была дурой.
Многое я просто не хочу помнить. Когда некоторые моменты всплывают в памяти, я стараюсь немедленно отвлечься, начинаю думать о другом, чтобы только не вспоминать. Забыть. Затолкать эти воспоминания в дальний шкаф, закрыть дверь, потерять ключ, а для верности еще и замуровать этот шкаф в какую-нибудь стену и забыть, где она находится.
Вот Ромм… Он снял фильм «Обыкновенный фашизм» [24]— и это убивало его. Он взял с меня слово, что я никогда не буду смотреть этот фильм. Там ведь — настоящая хроника из немецких киноархивов, там использовался личный фотоархив Гитлера, снимки эсэсовцев… И все это ужасно. Все, кто видел материалы для фильма, мучились потом всю жизнь. Ромм отобрал те, которые хоть как-то можно смотреть, и то считал, что для меня и это будет слишком… Ромма убивали воспоминания. Пусть даже и не свои, но жуткие воспоминания, в которых ему пришлось копаться.
А я за долгую свою жизнь поняла, что кровавость — это еще не самое страшное. Могут убить и совершенно безобидные на первый взгляд воспоминания.
Воспоминания о собственной глупости — что может быть хуже? А их не избежать, когда начинаешь писать о своей жизни или даже о жизни своих друзей. Потому что то, что ты пишешь о друзьях, всегда связано с тобой. А, значит, и с твоей глупостью. С тем самым, что должно быть закрыто и замуровано.
Лучше уж громко пукнуть в общественном месте. Тут по крайней мере можно сделать вид, что это не ты. А от собственной глупости никуда не спрячешься, и сделать вид, что она не твоя, не получится.
А вот обрывки и огрызки — это хорошо. Это вырванные кусочки из глупости. И они выглядят умными. Значительными. Главное — не думать, откуда они были вырваны. Не вспоминать.
Да, так это я отвлеклась. Мы же говорили о старой мебели.
Вы правы — отсутствие денег вовсе не главная причина тому, что я держу старую, разваленную мебель. Такую, которую другие уже давно выбросили бы на свалку. Но… Я просто не могу!
Представьте, что у вас есть собака. Она всю жизнь рядом с вами. Когда-то она была молодой и резвой, но состарилась. Неужто вы выбросите ее из дому только потому, что она уже не может бегать и прыгать, как раньше? Потому, что у нее облезла шерсть? Вы сможете выбросить собаку, изуродованную старостью, и взять вместо нее молодую, породистую и красивую?
Вот поэтому я не могу выбросить старую мебель. Она для меня — все равно что собака, прослужившая верой и правдой всю жизнь. Как же я могу отправить ее на свалку? Нет уж, мы будем доживать вместе.
Я и домработницам своим никогда не могла сказать резкого слова. Упрекнуть в воровстве — а воровали они все беззастенчиво. Но я их могу понять. Что я платила домработницам? Тридцать рублей в месяц. А сама получала триста пятьдесят. К тому же мне, старухе, нужно совсем не много. А они молодые, денег не хватает…
Но поймите, сказать живому человеку в глаза, что он — вор! Сказать только потому, что ему хочется бананов или буженины, которые есть у меня. Или просто конфет! Одно дело, когда ворует зажравшийся хам, жопа которого уже вываливается из начальственного кресла. Другое — деревенская девчонка, ошалевшая от вида городских прилавков и не имеющая возможности что-либо купить.
И потом, что я буду делать без домработницы? Я ведь всегда не ладила с бытом. Прогнать-то легко, а вот найти сложно. Домработницы в наше время исчезли, как микробы в хлорном больничном растворе. Иногда, приходя в театр, я думаю, что все домработницы ушли в актрисы…
Но мне без домработницы остается только разводить тараканов. Кстати, однажды я это делала. Не смейтесь! Дело в том, что гораздо проще говорить, что разводишь тараканов как домашних любимцев, как лекарство от одиночества, чем признаться в собственном бытовом идиотизме.
А еще меня останавливает призрак Розы Скороход. Когда она выгнала Ганку, той совершенно некуда было пойти, она попросту оказалась на улице. Может, и моей домработнице некуда будет пойти, если я ее выгоню? И, уже собравшись обвинить в воровстве и растяпстве, я каждый раз закрываю рот. Мне представляется Роза Скороход, я думаю о бродячих несчастных собаках и — не могу!
Знаете, в детстве я мечтала совершить подвиг. Любой! Спасти кого-нибудь при пожаре, наводнении, урагане. От взбесившейся собаки. Вытащить из-под извозчичьей пролетки. И при этом умереть. Я воображала, как буду лежать, красиво раскинув руки, вся в интересной бледности, и ресницы картинно выделяются полукружьями, и бледный — обязательно бледный! — высокий лоб, и завитки волос… Я прямо видела это со стороны. Этакая носатая Офелия. И спасенного человека, который, стоя рядом на коленях, оплакивает мою безвременную кончину. И речи, которые будут произносить над моим гробом, я тоже воображала. В этих речах обязательно говорилось, что жестокая смерть вырвала у общества яркую индивидуальность, расцветающий могучий талант, удивительную красавицу и так далее… Господи, каких только глупостей не воображают дети!
Не подумайте, умирать-то я как раз и не хотела. Даже ради всех этих замечательных речей. Но мне представлялось, что я вот так полежу некоторое время, послушаю, а потом каким-то чудом воскресну. Потом, когда я узнала, что просто так воскреснуть не получится, что умирают насовсем, я охладела к мысли о героической смерти.
Но о подвиге продолжала мечтать все равно. Особенно хотелось получить медаль — зримое доказательство совершенного подвига. У нашего дворника была медаль, и я воображала, что это за какие-то героические заслуги.
Только знаете, что я узнала, прожив долгую жизнь? Подвиги никому не нужны. Точнее даже не так. Они нужны. Как и герои. Но только пока подвиг не совершен. А когда уже все сделано — милости просим на выход, вам тут больше делать нечего. Вы смотрели фильм «Осторожно, бабушка!»? Наверняка смотрели. Вы ведь готовились к этим беседам, а там у меня практически главная роль.
Да-да, именно тот фильм, где я играю этакую бывшую героиню-революционерку, которая теперь занимается выращиванием элитных кур на птицеферме с тем же энтузиазмом, с которым когда-то в молодости делала революцию. У нее внучка, которая работает директором местного дома культуры. Недостроенного. И вот он, главный конфликт фильма — дом культуры нужно достроить. Это то самое общественное дело, которое должно быть превыше всех личных. Из-за этого герои фильма отказываются от любви, дружбы… В общем, ведут себя так, как положено идеальным молодым людям советской эпохи, которых хоть сию секунду на любой плакат, рекламирующий здоровый образ жизни.
И никогда в жизни этот дом культуры не был бы достроен, и сидела бы молодежь по медвежьим углам, если бы не бабушка и ее команда стариков. Именно эти давно бывшие, давно пенсионеры, выбивают материалы, сами строят… Молодежь же спохватывается, что можно было бы и руки приложить, только когда видит работающих стариков. Да…
Но для меня самым главным был финал фильма. Когда дом культуры уже построен, все любовные истории пришли к благополучному завершению и вот-вот состоится первый концерт на свежепостроенной сцене. Вы помните, что тогда происходит? Да, всех стариков с почетом провожают к выходу! Моя героиня говорит: «Ну вот, теперь можно и уходить», — и все уходят! Да, с цветами. Да, с наилучшими пожеланиями. Да, с уверениями, что эти старики — самые-самые и лучше них нет никого. Но — они уходят, а молодежь остается в новеньком доме культуры. Героям же там нет места. Мавр сделал свое дело, мавра просят выйти вон и не загромождать сцену.
А что же остается старикам? Такой, понимаете ли, оптимистичный финал… Но загляните чуть дальше. За те двери, которые закрылись за героями. И вы увидите, как они сидят в одиночестве в холодных темных комнатах и вспоминают совершенные ими подвиги. Но эти подвиги не зажигают свет, не наполняют дома теплом и уютом. Там — одиночество.
Так кому он нужен, этот героизм, если потом все равно приходится сидеть в темноте и одиночестве? А кто-то слушает концерт, кто-то веселится в доме культуры, который ты построил. Но тебе там нет места.
Вы хотите сказать, что для моей героини в этом фильме все закончилось иначе? Что она не осталась одна? У нее ведь есть внучка, обожающая бабушку. Помилуйте! У внучки ведь любовь! Она нашла там себе молодого человека, и дело уже сильно пахло свадьбой. Значит, героическая бабушка ей уже не нужна. Так что никакого «иначе». Темнота и одиночество.
Включить свет? А зачем? Кому он нужен? Что осветит включенная лампочка? Пыльную старую мебель? Продавленный диван? Кресло с облупленной обивкой? Разлохматившуюся бахрому у скатерти на столе? Какой смысл на все это смотреть? Другое дело, если бы можно было посмотреть в чьи-то глаза. Но их-то как раз и нет! Поэтому лучше свет не включать. В темноте по крайней мере можно вообразить себе хоть царские палаты. А на свету сразу видно все убожество одиночества.
Одиночество всегда убого, вы не замечали? Вы можете нарядить его в шелк и бархат, украсить бриллиантами, но никогда не сможете спрятать взгляд потерявшегося, много битого щенка — первый признак одиночества. И можно задирать нос, говоря, что тебе никто не нужен, что одному быть гораздо лучше, что именно одиночество дает необходимую свободу, особенно творческому человеку, но взгляд выдает сразу. Мгновенно. Поэтому темные очки — это изобретение одиноких людей. Скрывшись за темными очками, можно рассуждать о комфорте одиночества.
Когда я умру, моя старая мебель будет ужасающе одинока. И к ней никто не придет в гости, как приходили ко мне. Придут только мусорщики, чтобы вынести все на свалку и сжечь. Что-то будет с моей последней домработницей?
Ключ к изменениям
— Ты обратил внимание, что она все время возвращается к воспоминаниям детства? — спросил Психолог. — Будто ищет там какой-то ключ, тот момент, который изменил всю ее жизнь, явился причиной того, что она прожила долгие годы именно так, как прожила, а не как-то иначе. Она оправдывает это старостью. Мол, в старости всегда хочется вспоминать о молодости. Но на самом деле просто не хочет видеть своих ошибок, а напротив — убеждает себя, что была права во всем и по-другому никак жизнь сложиться не могла.
— Но при этом говорит, что если бы писала книгу воспоминаний, то это была бы жалобная книга, — заметил Бес. — То есть ее не удовлетворяет собственная жизнь.
— Еще бы она ее удовлетворяла! Жить с сознанием того, что ты — урод, который не нужен собственным родителям… Да такие травмы не проходят никогда! — воскликнул Психолог. — А к старой мебели она относится как к себе самой. Переносит на нее свои переживания. Ставит себя на место старой тахты. И все время приходит к одному выводу: она никому не нужна.