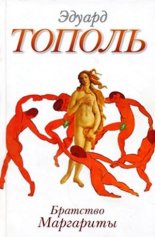У самого синего моря. Итальянский дневник Осис Наталья

Ну что, брат Пушкин?
Путешествия. Провинциальные ярмарки. Флоренция, Венеция и Турин
Есть у меня странная привязанность к писателям, не попавшим в разряд великих. Это не значит, что я не люблю великих. Я их как раз очень люблю, но любовь к ним, по-моему, подразумевает некую почтительную дистанцию. К величию Толстого мое самое искреннее и глубокое благоговение ничего не прибавит и не убавит. К бесконечно большому числу можно прибавлять или убавлять какие угодно величины – бесконечно большое останется бесконечно большим. С писателями, не попавшими в хрестоматии, совсем другое дело. Во-первых, как знать, не будет ли моя любовь сопоставима с их даром? Они мне – свой талант, я им – мое читательское восхищение, и вот уже готова иллюзия взаимности. Не то чтобы «брат Пушкин» или «дружище Ивлин Во», но на приятельские отношения ведь можно претендовать? Завораживающей мощи демиургов должно быть противопоставлено простенькое удовольствие похихикать в кулак вместе со старым приятелем. Чем ироничнее и умнее приятель, тем веселее хихикать. В какой-нибудь сумасшедший день, когда за утренней чашкой кофе пришлось прослушать подробный отчет о футбольном матче, в очереди в кассу – анализ экономического кризиса, а на детской площадке – детальный рассказ о том, кто и что будет готовить сегодня на ужин, нет ничего приятнее, чем открыть вечерком Ирвина Шоу или Сомерсета Моэма.
Так однажды, вечером тяжелого дня, я случайно наткнулась в записных книжках Моэма на один пассаж, показавшийся мне очень верным, хотя и не лестным для моего новоявленного, едва начавшегося развиваться здесь, за границей, патриотизма. Моэм удивлялся тому, что сама любовь к Родине у русских носит плохо ему понятный, очень расплывчатый характер, анализируя попутно свою собственную любовь к Англии. «Для меня, – пишет он, – много значат сами очертания Англии на карте, они вызывают в моей памяти множество впечатлений – белые скалы Дувра и изжелта-рыжее море, прелестные извилистые тропки на холмах Кента и Сассекса, собор Святого Павла, Темзу ниже Лондонского моста…» и так далее. «Допускаю, что Россия велика для сокровенных чувств, – заключает он, – и воображению не под силу охватить всю ее историю и культуру в едином порыве чувства». Насчет культуры и истории можно поспорить (вот она, прелесть авторов, оставляющих простор для полемики!), но как быть с географической картой, которая должна была бы вызывать множество впечатлений? Я, кажется, гордилась когда-то, что хорошо знаю русскую провинцию. Что-то вспоминала о поездках в Крым, жизни в Воронеже, путешествиях автостопом на музыкальные фестивали под открытым небом в Белгороде и Старом Осколе. Могла даже похвастаться тем, что жила целую неделю в деревне на самой границе с Украиной. Ну и что? А если взять и заштриховать, как в школе, контурную карту, обозначив места моей необъятной Родины, которые я видела своими глазами? Для начала надо будет как следует отточить карандаш, потому что вместо крупной штриховки придется рисовать тонюсенькие черточки. А Крым – единственное место, где можно было бы смело штриховать от души, на новых картах будет уже за пределами России. Сможем ли мы, не отговариваясь масштабом расстояний, ответить, почему мы так мало путешествуем по своей стране? Почему электрички из Москвы не выплескивают по субботам и воскресеньям потоки семей с детьми во Владимир, Орехово-Зуево или Павловский Посад? А куда я в Москве возила Петьку на выходные? На дачу к друзьям, на шашлыки, на детские утренники в «Пироги» и на джазовый бранч в «Би-2». Я брала его с собой в театр, водила в музеи, в зоопарк и так далее, но мне не приходило в голову повозить его по Золотому кольцу. Да и сама я, без Петьки, никогда по Золотому кольцу не ездила. В Петербург на каникулы – это понятно. А кроме Питера? Вот то-то и оно.
Итальянцы ориентируются в своей географии отлично. Потому что школьные занятия по географии активно подкрепляют практикой.
Каждую субботу на все вокзалы страны ловко и слаженно высаживаются многочисленные десанты семей с младенцами, колясками, рюкзаками, чтобы полумертвыми от усталости вернуться на те же вокзалы в воскресенье вечером, усадив старших детей в малышковые коляски, а малышей – к себе на плечи. В сети придорожных кафе Autogrill по выходным перекусывают бок о бок южане и северяне, буржуа и безработные, клерки и фрилансеры. Из самых разных машин появляются самые неожиданные комбинации попутчиков – из роскошной спортивной «ламборгини» может высыпаться несколько побитых молью старушек в сопровождении рослого красавца средних лет, из семейного рыдвана «фиат уно» вдруг выпорхнет стайка юных прелестниц в бальных платьях, а солидный трехсотый «мерседес» привезет сосредоточенную пожилую пару эквадорцев. Мотоциклы с промерзшими девушками и притороченными по бокам баулами, громоздкие камперы, машины представительского класса с велосипедами на крыше, экскурсионные автобусы и миниатюрные двухместные городские машинки – все куда-то едет, все пребывает в движении.
Зимой и летом в этом движении можно уловить определенные закономерности. Летом жители приморских городов стремятся в горы – к прохладе, а жители гор и равнин соответственно – к морю. Зимой все при первой возможности несутся на горнолыжные трассы. А весна и осень отведены под познавательные экскурсии по стране. Познание может иметь любой характер. Например, гастрономический – маленькие провинциальные городки проводят ежегодные праздники-ярмарки, посвященные ai prodotti tipici: меду, каштанам, колбасе, сырам, винограду, яблокам, белым грибам и чему угодно. Есть специальные праздники пирогов, паштетов, лепешек и даже оладий. Называются такие праздники sagra – от латинского sacrum – сакральный; впрочем, и слово «праздник», festa, оттуда же – от латинского festum – ежегодный священный праздник. Кстати, «Весна священная» Стравинского по-французски называлась Le Sacre du printemps, то есть буквально — «Священный обряд весны», и по-итальянски приводит все к той же сагре – Sagra della primavera.
Именно такие праздники под названием sagra в Италии мне нравятся больше всего. Приедешь в какой-нибудь малюсенький городочек, обойдешь его весь за полчаса, распробуешь продукт, в честь которого устроен праздник, во всех видах, посмотришь на костюмированное шествие, а потом усядешься за длинный деревянный стол вместе с местными жителями – и ешь, пей, веселись, сдвигай деревянные кружки в такт незнакомой песне. Evviva la sagra! Есть во всем этом какой-то очень простой и глубокий смысл: праздник как заслуженный отдых после долгой работы. Щедрость подлинного веселья, которого хватает на всех – и даже на случайных гостей.
Провинциальным гостеприимством можно насладиться в полной мере, даже будучи за рулем – итальянская дорожная служба, к счастью, относится вполне снисходительно к паре стаканов вина, выпитых за обедом. В первую очередь потому, что это вино сопровождает еду, а не наоборот, и, конечно же, потому, что обильная итальянская еда действительно нуждается в том, чтобы ее запивали – и запивали именно вином. Формально допустимые нормы содержания алкоголя в крови в Италии такие же, как и везде, но, чтобы не отбирать права у половины страны, водителей на предмет количества выпитого проверяют крайне редко. Я, во всяком случае, ни разу еще не слышала «я не могу, я за рулем». Но, по-моему, это правильно. Итальянское винопитие не имеет ничего общего с алкоголизмом. Я много раз видела итальянцев «слегка навеселе», но ни разу не наблюдала итальянца, который не может встать на ноги, потому что он пьян.
Что же касается знаменитых итальянских городов, куда я так стремилась поначалу, то к таким поездкам я со временем остыла. Итальянское экскурсионное движение, увы, совпадает по времени с общемировым экскурсионным движением. Каждую секунду, проведенную во Флоренции, любой путешественник запечатлевается как минимум на десятке фотоснимков, на которых его никому не нужное лицо вместе с сотней других лиц останется жить в веках (или сколько лет жизни нужно отводить современной цифровой фотографии?) в Японии, Америке, Австралии, Исландии или в Китае. Не знаю, как вас, а меня такая перспектива почему-то пугает. И вообще, с тех пор, как я ребенком поучаствовала в первомайских демонстрациях, меня настораживают бесконечные колонны людей, от края до края заполняющие улицы, даже если эти люди охвачены возвышенной жаждой прекрасного. Наш друг Валерио, родившийся и выросший во Флоренции, судя по всему, примерно так же думает, хоть ему и не приходилось никогда участвовать в первомайских демонстрациях. Недаром он из своего легендарного города сбежал в средневековую деревушку Поппьяно. Сидит себе у камина долгими зимними вечерами, листает Данте, а если одолеет жажда прекрасного, идет со стаканом в сад – любоваться знаменитым тосканским пейзажем в оригинале. И каждый раз, еле выбравшись из флорентийской туристической толпы, я плюхаюсь рядом с ним и думаю: а может, он не так уж и не прав? Тем более что на полке у камина у него стоят прекрасные альбомы с репродукциями из галереи Уффици – только здесь, в тиши у камелька, и получается рассмотреть как следует все то, что было невозможно разглядеть в толпе.
Иногда я с ужасом думаю, а не Хлестаков ли это маячит на задворках сознания, которому хочется во что бы то ни стало быть запанибрата с великими? Знаменитый бард Джорджо Габер еще в 2001 году говорил, что он «боится не Берлускони как такового, а Берлускони в себе», может, и мне стоит опасаться Хлестакова в себе? Или нет ничего плохого в желании шаг за шагом создавать с культурой и искусством отношения чуть более близкие, чем благоговение?
Только вот Флоренция, к сожалению, отношений хоть сколько-нибудь близких не допускает вовсе. Венеция – другое дело. Благодаря своей двойной транспортной системе она позволяет настойчивому путешественнику подобраться ближе к своей сути. Ходьба по туристическим маршрутам там так же малоприятна, как во Флоренции или в Риме. Но если залучить в гиды коренного венецианца с собственной лодочкой, то окажется совсем другое дело. Венецию действительно нужно смотреть с воды, не спеша переплывая из канала в канал, с острова на остров, высаживаясь где бог на душу положит, чтобы отдохнуть, сидя на парапете, съесть мороженое или искупаться в лагуне. Бутафорские гондолы с горластыми гондольерами для этой цели плохо подходят – хотя бы потому, что шереметьевские шакалы-таксисты просто дети по сравнению с венецианскими гондольерами. Кроме того, в кафе и ресторанах Венеции действует тройная шкала цен – для иностранцев, для итальянцев и для венецианцев. То, что с иностранцев сдирают три шкуры, я думаю, не надо объяснять. Итальянцам, родившимся за пределами Венеции, дают почувствовать при помощи цен, что разумнее им было бы сидеть у себя дома, а своему брату венецианцу отпускают все самое лучшее по номинальной стоимости. Наш друг, возивший нас на своей лодочке по самым интересным местам, входя в любое заведение, первым делом громко здоровался на венецианском диалекте, хозяин отвечал, пару минут они беседовали о чем-то, нам совершенно непонятном, а потом уже хозяин снисходил к нам и советовал – уже на итальянском, – что съесть и что выпить самого свежего и самого вкусного. Оплачивая счет, оставалось только удивляться, насколько прямо может отражаться на кошельке знание языка. Боюсь даже думать, сколько литров белого игристого просекко я выпила за несколько дней в Венеции. Но как было не пить, если благодаря нашему гиду мое самое любимое вино мне предлагали как vino di casa.
Наш друг, слегка поморщившись, свозил нас по нашей просьбе на площадь Святого Марка, подождал, пока Петька распугает всех голубей, и грустно сказал, что прямо здесь, за углом, он родился и вырос, и… можно, мы уже теперь куда-нибудь еще поедем? «Куда-нибудь еще» было просто восхитительным – и лагуна, и остров Бурано, где наш друг жил в маленьком беленом домике, и остров Мурано, где производят знаменитое венецианское стекло, да и сама Венеция, где все, что мы раньше мельком видели из недр марширующей толпы, предстало как бы совсем в другом измерении.
В другом измерении я вдруг увидела и саму жизнь в городе, где нет и не может быть машин. А что делать, когда от усталости валишься с ног и только и мечтаешь, что поймать такси и быстрее добраться домой? Гондолу нанимать? Если не жалко ста евро, то пожалуйста. Катер-такси, кстати, не дешевле. А как переезжать из одной квартиры в другую? А как… миллион вопросов крутилось у меня в голове, когда я случайно увидела здание городской больницы с огромным причалом вместо подъезда и десятком катеров «скорой помощи» у этого причала. Неужели все и вся надо перевозить по воде? Даже больных с острым приступом аппендицита? «Не понимаю, чему ты удивляешься, – несколько холодно сказал наш друг, – а как же еще больных перевозить, если не на катерах?» Действительно, как же еще?
Наверное, в Венеции нам просто повезло, ведь мы там были не совсем туристами: наш папа работал в Венеции больше месяца, а мы просто приехали его проведать и заодно посмотреть на праздник Redentore. Любопытный, кстати, праздник – не какой-нибудь там невнятный День города, а почти что второй акт пушкинского «Пира во время чумы»: каждое лето в третье воскресенье июля празднуется избавление города от чумы 1575–1577 годов, которая унесла больше трети жителей города. И пока патриарх Венеции (таков, в силу исторических причин, официальный титул венецианского кардинала) благословляет праздник и приносит благодарности за спасение у церкви Реденторе, что как раз и значит Спаситель, венецианцы не спеша расставляют вина и закуски, а потом несколько часов подряд пьют и танцуют на набережной острова Джудекка, где церковь расположена, освещаемые многочисленными фонариками. Многие выпивают и танцуют прямо в лодках. А отдельные счастливчики могут принести и установить согласно специальной разметке стол прямо на набережной, смотреть на салют, пардон, пиротехнический спектакль со всем комфортом.
Сандро был приглашен своими венецианскими коллегами разделить с ними стол в двадцати метрах от ступенек церкви Реденторе, что, как я понимаю, очень круто. Собственно, Сандро нас и зазвал в Венецию именно потому, что получил это приглашение. Праздник оправдал наши ожидания, пиротехнический спектакль был не только зрелищным, но и очень долгим, так что стулья, вино и закуски оказались совсем не лишними. А когда Пете надоели разговоры про театр, мы с ним спокойно прогулялись по набережным. Туристы уже спешили обратно в свои гостиницы и штурмовали понтонный мост, специально наведенный для праздника через Канале делла Джудекка, а мы шли и шли сначала вдоль канала, потом вышли к лагуне и все время по дороге видели ровные ряды разномастных столов и стульев, гирлянды огней, свечки в стеклянных стаканчиках и итальянцев – таких, какими они, наверное, были до того, как туристический бизнес принял размах природной катастрофы: веселых, пьющих вино, поющих песни, танцующих вместе с детьми на каменной мостовой, обнимающих смеющихся женщин в широких юбках… Не знаю, что я из этого увидела на самом деле, а что мне только привиделось. Но это как раз было не важно, важно было то, что после этого праздника совсем несложно было поверить, что кроме Венеции сувенирной, Венеции бутафорской, Венеции туристической есть Венеция настоящая, и мы уже примерно знали, с какой стороны к ней можно подступиться.
Сандро часто говорит, что меня подводят мои ожидания и предвкушения. Наверное, это правда, я сама не люблю оказываться в положении, когда нужно оправдывать чьи-то ожидания. Но можно ли ехать впервые в Рим, в Венецию или в Лондон и начинать знакомство с ними с чистого листа, без ожиданий и предвкушений? Я бы и рада, только откуда взять этот чистый лист, если он давно уже вдоль и поперек исписан? Впрочем, с одним городом мне в этом смысле повезло – с Турином.
В Турин мы собрались очень неожиданно, вышли однажды из дома, не могли решить, в какую сторону идти гулять, пошли на вокзал – и уже через два часа гуляли по Турину. Я аккуратно несла свое огромное брюхо с Машкой, Сандро вел и подталкивал Петьку, поминутно отлепляя его то от витрин, то от канализационных решеток, мы фотографировались втроем в кабинках мгновенных фотографий, требовали соленых огурцов в самом элегантном кафе и мало думали о культуре. Что-то нам папа рассказывал про театры, в которых он работал, что-то нам рассказывал Петька о занимавших его тогда сверхновых и черных дырах – словом, шли мы куда глаза глядят и болтали по дороге. И только через несколько часов я осознала, что город, по которому мы гуляем, мне нравится, и еще как нравится – столько было достоинства в его спокойном величии. «Странный город, – подумала я вслух, – похож на покинутую имперскую столицу». – «Так он и был имперской столицей», – удивился моему невежеству Сандро. И прочитал нам с Петрухой небольшую лекцию об итальянском Рисорджименто. Было мне ужасно стыдно. Жить в Генуе, откуда Гарибальди отправился на Сицилию со своей знаменитой Тысячей, раскрашивать красные гарибальдийские рубашки в Петькиных домашних заданиях, а в Турине не сложить два плюс два… Но я действительно совсем не помнила, что первой столицей объединенной Италии был именно Турин! Достаточно было подумать хоть чуть-чуть, и можно было бы догадаться. А я без единой мысли ходила по незнакомому городу – как плохой актер в новых декорациях. Значит, и вправду где-то во мне обретается некий Хлестаков со своим мелким хвастовством, глубоким невежеством и жаждой панибратства. Вот тебе и брат Пушкин! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день…
В оправдание себе могу лишь сказать, что вся нежность и даже интимность моих нынешних отношений с Турином (куда я теперь приезжаю достаточно часто) никак не мешает почтительному благоговению. А мое невежество, мне кажется, Турин мне простил, ибо ни в одном другом городе Италии я не чувствую себя так хорошо, как в нем. Если не считать Генуи, конечно.
Больяско,
где мне открылась вся красота мира
И было нам счастье, то есть немного свободного времени, немного солнца, немного хлеба, сыра и груш, были с нами дети, получившие наконец возможность трогать, ковырять и пробовать на зуб все, что им попадется, и вокруг нас не было никого – только море и теплые, шершавые скалы. Бухта, желтые, красные, оранжевые дома, пальмы, сиреневые цветы, море, горы, небо, солнце. Пейзаж на самом деле самый заурядный для Лигурии; езды – полчаса от Генуи (то есть ближе, чем из центра Москвы в Новые Черемушки); местечко рыбацкое, ничем не примечательное, называется Больяско. Я, правда, всегда говорю: Больяско-где-мне-открылась-вся-красота-мира. Генуэзцы надо мной смеются. Сами они, когда у них выдается свободная минута, отправляются на променад в Нерви, знаменитый своими садами и живописной изогнутой прогулочной дорожкой вдоль моря. Рейсовые пароходики и круизные корабли везут пассажиров к главной для лигурийской Ривьеры точке паломничества – городку Портофино. Туристы-знатоки, охочие до местного колорита, обычно ездят в Чинкве-Терре – Пять Земель – пять малюсеньких очень красивых городков, втиснутых между скалами и морем вплотную друг к другу. Один из этих городков – Монте-Россо – я однажды с удивлением опознала в пазле, который собирал целый месяц наш дачный сосед. Картинка так ему понравилась, что, собрав пазл, он аккуратно закрепил его на картонном листе, соорудил рамочку и повесил у себя на веранде. И только здесь, среди зыбкой тени яблоневых веток, старомодных обоев и довоенной мебели, я вдруг поняла, что и Монте-Россо хорош, жаль только, что я его уже не могу увидеть глазами нашего дачного соседа или, на худой конец, в подзорную трубу из открытого моря. И что даже теперь, глядя на такую милую картинку, я уже не могу представить себе это прелестное местечко без бледноногих американских туристов, длинных рядов палаток, в которых продаются одни и те же китайские шлепанцы и парео, оберток от мороженого «Альгида» на мостовой и стандартных открыток с теми самыми видами, что на давешнем соседском пазле, – на каждом углу.
Пейзажи в Лигурии хороши почти везде. И везде в них проступают типичные черты – суровые скалы над морем, мрачноватые долины, больше похожие на расщелины, узкие полоски террасного земледелия среди темной зелени гор, и – как солнечные зайчики – маленькие клочки прибрежной земли, утыканные разноцветными домиками. Между горами и морем петляет древняя римская дорога Аурелия. Иногда она становится современной дорогой с асфальтом и светофорами, иногда превращается в узкий боковой переулок, иногда – в мощенную крупными замшелыми камнями пешеходную тропу, увенчанную горбатым римским мостом.
Каждый клочок земли в этих краях отвоеван у гор с определенной целью. Ни один квадратный сантиметр не достался даром предкам лигурийцев – суровым лигурам, решившим осваивать местные неприступные берега. Каждую пядь земли они использовали по назначению. Строгая красота и совершенная гармония их поселений продиктована простым здравым смыслом – рисунком скал, изгибами моря, сутью их жизни и работы.
Но когда вместо рыбацких таверн появляются рестораны со звездами Мишлен, когда разноцветные домишки, вместо того чтобы переходить из поколения в поколение со всем скарбом и утварью, продаются по астрономическим ценам в качестве загородных дач, пустующих большую часть года, когда в узкую бухту тяжеловесно втискивается круизный лайнер, от некогда стройной композиции не остается и следа. Аутентичные камни, стены и башни кажутся плохо продуманными декорациями, не рассчитанными на такую большую массовку. Форма, не соответствующая содержанию, начинает казаться фальшивой.
Мне нравится Больяско тем, что там до сих пор идет потихоньку своя, сложившаяся за долгие годы жизнь, тем, что там мало яхт и много лодок. Тем, что там так трогательно гордятся своим небольшим, ни от кого не зависимым благосостоянием.
И в конце концов еще и тем, что именно здесь мне открылась вся красота мира. Жаль только, что я об этом рассказала. Потому что теперь вам придется искать какое-нибудь свое, отдельное Больяско. Ибо в поисках красоты мира засчитываются только сугубо личные открытия.
Часть 3
Необратимые изменения
Энигма салата с помидорами
Побочные эффекты космополитизма
Сегодня исполнилось пять лет нашей совместной жизни с Сандро и заодно нашей с Петькой жизни в Италии. Я бы не вспомнила и не заметила, конечно, если бы мне не напомнил муж. Пять лет… За это время я успела родить Машку, отправить Петю в первый раз в первый класс и, не успев умилиться и уронить слезу над быстротечностью времени, начать страстно ненавидеть школьные собрания и прочие родительские комитеты, сменить профессию театрального организатора на профессию университетского преподавателя, полюбить своих студентов и разлюбить театр – по крайней мере, в его итальянской версии. И при этом – выпустить в качестве переводчика и составителя сборник современных итальянских пьес. Первая в моей жизни книжка, между прочим. Я даже научилась попадать из пункта А в пункт Б в этом самом волшебном городе на свете…
Может, надо перестать говорить всем, что мой способ жизни – это совсем не ПМЖ? Нет, все-таки меня эта аббревиатура – ПМЖ – все равно очень пугает. И потом, что значит постоянное место жительства? Я так считаю, что у меня их два – постоянных. И вообще мне больше всего нравятся люди, у которых постоянных мест жительства два, три и даже больше. Как-то я с ними сразу нахожу общий язык. Мне кажется, что у них взгляд на жизнь незашоренный, и это очень приятно. Приятно легко подтрунить над итальянцами, вскользь обсудить достоинства и преимущества больших городов, обменяться опытом воспитания двуязычных детей. Вот только последнее время я стала задумываться, а только ли это нас объединяет? Не скрываем ли мы под нашей легкой иронией, широким кругозором, легкостью восприятия нового запоздалое сожаление о необратимости произошедших с нами изменений? Не стали ли мы вечными агасферами? Осталось ли у нас хоть какое-нибудь местечко на земле, где мы безусловно принимаем все правила бытия? Почему мы тащим за собой старые привычки и привкус легкого сожаления о том, что в новых условиях привычные вещи бывают лишены своего изначального, неподдельного вкуса? Сандро называет это энигмой салата с помидорами – в том смысле, что хорошо бы к итальянским помидорам да русской сметаны. То, что в Италии не сыщешь правильной сметаны, а в России не бывает таких помидоров, как в Италии, – это понятно. «Но как это я раньше не думал о сметане, когда ел помидоры?» – вопрошает патетически мой муж. Ну, он итальянец, понятно, что большая часть его метафор и парадоксов сводится либо к еде, либо к футболу.
Вот, кстати, еще одно из моих необратимых изменений: я даже полюбила эти нисходящие метафоры. Стоит мне восхититься худенькой и бледненькой актрисой, как он немедленно отвечает: Questa? Sessuale come un sedano! («Эта? Сексуальна, как сельдерей!») Что, видимо, должно означать: плоская, худая и зеленая. Да, и вкус сразу вспоминаешь, такой… действительно совсем не сексуальный. Такие-то шутки любой жене будут приятны. Но кроме шуток, если бы речь шла только о помидорах со сметаной, все было бы слишком просто…
Например, Сандро любит говорить о том, что мы еще пожалеем о советских порядках – то ли в шутку, то ли всерьез. Я предпочитала считать это шуткой – вроде той, про сельдерей. А живя в буржуинстве уже который год, нет-нет да и сама подумаю: эх, нет на вас советской власти. Подумаю и ужаснусь – я ли это? Или приеду в Россию и давай объяснять хорошим людям, как им салат готовить, или в море купаться, или еще что-нибудь из области итальянских смертных грехов, как-то: о взаимоисключаемости носков и сандалий или о неприемлемости аперитивов до пяти вечера. Потом прихожу в себя, опять же думаю, куда это меня понесло. Живут люди, как привыкли, живут хорошо, зачем бы им менять свои привычки? Оказывается, это мои привычки изменились, а я никак не хочу это признавать.
Каждый раз, когда я собираюсь быстренько проглотить кофе летом – а лето мы всегда проводим в России, – я вспоминаю сценку, подсмотренную в баре одного из московских отелей. Группа итальянцев рано поутру просила барышню сделать им кофе, она кивала головой в знак того, что поняла, и широко поводила рукой в сторону столиков, говоря: «Да вы присаживайтесь», на что итальянцы отвечали: «Да нет, нам только кофе», а она отвечала: «Да вы присаживайтесь», а они: «Нет, нам только кофе», а она: «Да вы присаживайтесь». За те пять минут, что я за ними наблюдала, ни гора, ни Магомет не сдвинулись. Было совершенно очевидно, что итальянцы думают, что барышня в баре – идиотка, а она думает, что все иностранцы кретины, но эти – просто что-то из рук вон выходящее. А все было очень просто: они не знали, что русские пьют кофе сидя, а она не знала, что итальянцы пьют кофе стоя. Но я-то все знаю! Так почему в воронежском бистро «Робин Бобин» – единственном месте, где можно в этом городе добыть рано утром кофе, – я демонстративно пью его стоя? И кстати, не первый год уже мы с официантками «Робин Бобина» танцуем один и тот же балет. Я прошу кофе, мне его ставят на поднос, я пытаюсь выпить его, не отходя от кассы, барышня выбегает из-за стойки и несет мне поднос к свободному столику, я иду к столику и пью кофе стоя, барышня летит обратно и спрашивает, что я еще буду заказывать. Что мне стоит уважить официанточек и выпить уже этот кофе так, как его пьют в России? Вроде бы ничего, а я не могу – привыкла.
Причем в Москве я этого не делаю. А сажусь себе за те же столики в тех же кафе, что и пять, десять лет назад. Видимо, московская привычка пока что сильнее. Или просто в Москве я заказываю полноценный завтрак? Да, но почему в той же Москве я удивляюсь, когда в дорогом ресторане на моих детей смотрят с опаской? И даже в недорогом. В какой-то средней руки забегаловке около Литинститута меня пытались выставить вон, потому что очень опасались трехмесячной Машки. Тут уж никакая московская привычка не помогла – я вызвала менеджера и подробно объяснила ему что почем. Видимо, за кратчайший срок жизни в Италии просто поверила, что носить с собой везде грудных детей – это правильно, полезно, морально и все что хотите, а главное, что никаких других вариантов нет и быть не может.
Я привыкла заходить в парикмахерскую по дороге, только чтобы вымыть голову. Привыкла есть по часам (и до сих пор не верю, что это случилось со мной), привыкла не покупать ветчину к завтраку, чтобы не травмировать папу, привыкла ждать хорошей погоды, чтобы запустить стиральную машину (нельзя же сушить белье в доме – оно потом плохо пахнет!), привыкла к тому, что после дружеского ужина по кругу пускают косячок и никого это не удивляет (и ничего из этого не следует!), привыкла путешествовать по выходным, здороваться с продавцами, улыбаться любому прохожему, с которым случайно встречаешься взглядом, привыкла к миллиону разных итальянских штучек и уже не замечаю, как делаю так же… Неужели правда бытие определяет сознание?
Но что еще хуже – то, к чему я так и не привыкла, перестало казаться мне забавным, а стало раздражать ужасно. Так, у меня определились некоторые темы, на которые я стараюсь не разговаривать со своими итальянскими друзьями – я сама себе не нравлюсь во время таких разговоров, вместо легкого юмора из меня прет черный сарказм, того и гляди, начну громить с трибуны ужасы системы. Так и в прокурора Вышинского превратиться недолго. А ругать в разговорах с русскими милых, добрых и приветливых итальянцев, которые меня ни словом, ни взглядом никогда не обидели, тоже как-то некрасиво. Теперь только и остается, что вести дневник. Здравствуй, гордое одиночество юности! Впрочем, психоанализ делает чудеса – может, я как-нибудь и разберусь со всеми внутренними противоречиями?
Только вот можно ли считать самоанализ психоанализом?
Рай под зонтиками
Светская жизнь на пляже
Когда я была совсем маленькая, я очень боялась есть рыбу – именно боялась, даже гипотетическая возможность соприкосновения языка с маленькими и гибкими рыбьими косточками повергала меня в ужас. Кстати сказать, я думаю, что зря детей перестали пугать бабаем и букой. Если их не пугать специально, они сами себе находят какие-нибудь страхи и фобии – от стандартной боязни собак до экстравагантного ужаса перед пуговицами (есть у нас одна знакомая девочка, которая до судорог пугается пуговиц). Мой папа, выросший в портовом городе Венспилсе, не находил ни одного оправдания моей нелюбви к рыбе. Тем более что я вряд ли могла внятно объяснить, что именно меня так пугало. А мой строгий дед, капитан первого ранга в отставке, как ни странно, относился к моей боязни очень спокойно. «Ничего страшного, Наташенька, – неизменно говорил он мне, – вот будешь жить у моря, тогда и оценишь вкус рыбы».
Откуда дедушка мог знать, что однажды я действительно буду жить у моря? Наверное, ему, старому морскому волку, казалось, что жизнь, прожитая вдали от моря, – это жизнь, потраченная зря. Так или иначе, но теперь я действительно живу у моря, и… поразительно, как мало чувствуется в каждодневной жизни наличие моря в двадцати шагах от дома.
Наверно, если бы мы были моряками или торговцами рыбой, то все было бы по-другому. Но если ты не моряк и не рыбак, то твоя жизнь завязана не на море, а на графике выходных и каникул. Можно, конечно, жить не в центре, где линия горизонта перечеркнута волнорезом и вместо моря старинный порт, полный чего угодно, но только не моря. Да, можно было бы жить в пригороде, где море плещется у самого подножия твоего дома, но такой способ жизни не сильно отличается от решения наслаждаться свежим воздухом и собственным садом за пределами МКАД – в довесок ко всем прелестям жизни за городом полагается вырезать целый кусок жизни, потратив его на многочасовые стояния в пробках. Тут каждый должен решить за себя. Для меня возможность совсем отказаться от машины и ходить везде пешком (пять минут сюда и десять минут туда) после московских расстояний казалась подарком судьбы. На море Сандро возил меня на скутере – в то самое Больяско, где мне открылась вся красота мира. Там мы лежали на скалах, ласточкой сигали в воду и были счастливы, как никогда.
А когда мы привезли Петьку, бабушка подарила нам золотой ключик от другого райского местечка – частного пляжа Сан-Надзаро. Сандро шипел и плевался, в том смысле, что ноги его не будет в этом Элизиуме для престарелых буржуа, а я, хоть и вздохнула пару раз с сожалением о дикой красоте прибрежных скал, согласилась с бабушкой в том, что организованный и расчищенный пляж с зонтиками, лежаками, душами, бассейном и рестораном не в пример удобнее. С нашей стороны италийского сапожка море очень глубоко, берег почти везде скалистый, крутой, а иногда почти отвесный, натуральных пляжей очень мало. В окрестностях Генуи почти все пляжи искусственные – узкие площадки, вырезанные в горной породе, слегка засыпанные привезенным серо-черным песком и намытой угловатой галькой. Но какие бы ни были, детей-то приучать купаться в море надо там, где они сами могут хотя бы зайти в воду. Мы обзавелись главным детским атрибутом для купания – резиновыми босоножками со смешным названием «трилья» (на самом деле так зовется маленькая, очень вкусная и необычайно колючая рыбешка – барабулька, или средиземноморская султанка) и начали потихонечку запускать Петьку в воду, параллельно знакомясь с целым миром пляжной генуэзской жизни.
Знакомиться было интересно. Ездить на пляж – не очень. Генуя – город совсем не подходящий для велосипедов и категорически неудобный для машин: запарковать машину практически невозможно почти нигде, ближайшая платная парковка, кстати, самая дорогая в Италии, всегда оказывается гораздо дальше от нужного места, чем автобусная остановка. Кроме того, для автобусов выделена отдельная полоса движения, и там, где машины стоят в пробках, автобусы гордо проносятся мимо на крейсерской скорости. Так что, взвесив все за и против, пришлось согласиться, что автобус гораздо удобнее личного автомобиля – и мы в этом убеждались буквально каждый день. Только точил меня маленький червячок сомнения: уж не советский ли это подход к решению транспортной проблемы в большом городе? Был у нас в запасе и нью-йоркский подход – взять такси и быстро доехать. Но и здесь итальянцы организовываются как-то по-другому. Почему-то «поймать» такси почти невозможно, его надо заказывать по телефону или… идти на стоянку такси, которая неизменно располагается бок о бок с автобусной остановкой. Вот и получается, что доехать на автобусе всегда быстрее, проще и дешевле.
Так или иначе, доехав до пляжа – десять минут на такси или шесть остановок на удобном автобусе с кондиционированным воздухом, – мы попадали в отдельный мир, где жизнь текла по своим законам. И, честно сказать, поначалу мне все в этом мире казалось удивительно разумно устроенным. Ежегодный «пляжный контракт» стоит немало – от тысячи до полутора тысяч евро, но предполагает массу различных удобств. Главное из которых – это собственная кабинка, к которой приписывается целая семья и в которой можно хранить полотенца, тапочки, купальники, игрушки и все прочее. Там же можно и переодеться. То есть в отличие от «советской» модели транспортной системы частные пляжи представляют собой идеальную «капиталистическую» модель. Максимум удобств для занятого работой (и готового платить за эти удобства) человека. Достаточно иметь при себе ключик от кабинки и клубную карточку, и в любой момент можно заскочить на часок искупаться. В хорошо проветриваемой кабинке занятого человека будут ждать купальные костюмы, в ресторане – вкусная еда, зонтик будет заботливо раскрыт, а шезлонг – разложен при твоем появлении специальным служителем, спасатель со своей вышки проследит за безопасностью, а если вода в море покажется недостаточно чистой, то искупаться можно в бассейне. Кроме того, разумеется, там же будут и детская игровая площадка, и бассейн для малышей, и медицинский кабинет, и бильярд, теннис и прочие развлечения, до которых никто из уставших на работе взрослых не доходит. Каждый лежит под своим личным пляжным зонтом, на своем личном шезлонге, закрыв глаза и мечтая пролежать здесь, не двигаясь, до окончания лета, а работа – пусть она горит синим пламенем.
Формально все городские пляжи такого типа называются публичными, и каждый желающий может прийти сюда, чтобы искупаться, заплатив за вход. Но на самом деле внутри местного общества существует строжайшая иерархия. Пляжные зонтики в «партере» записаны за членами клуба с тысяча девятьсот какого-то года – точнее не знаю, могу только сказать, что наша бабушка продлевает свой абонемент уже больше тридцати лет. Она же поехала вместе с нами, чтобы торжественно представить нас своим соседям по зонтику. Формальности представления не помешали даже пляжные костюмы – я чувствовала себя как дебютантка на первом балу в большом свете. Теперь я так же представляю пляжным соседям своих друзей и знакомых, чтобы им не пришлось ютиться с жалкими полотенцами под палящим солнцем где-нибудь на пляжной галерке – вдали от удобств, предусмотренных для «чистой публики». К одной из моих подружек соседи по зонтику настолько привыкли, что предлагали ей устраиваться под нашим зонтиком даже в наше отсутствие. При других обстоятельствах занять чей-нибудь личный шезлонг и зонтик решительно недопустимо. Не знаю, что делают с нарушителями – втихушку линчуют, наверное, – иначе я никак не могу объяснить, почему итальянцы, в целом легкомысленно относящиеся к разным правилам, так неукоснительно блюдут право на место под зонтиком. Ведь это же не пресловутое место под солнцем, а как раз наоборот. Впрочем, раскрытым зонтиком обозначается лишь факт присутствия его владельца, а от места под солнцем никто не отказывается. По-моему, когда итальянцам рассказывают о раке кожи и вреде прямых солнечных лучей, они просто-напросто не верят. Мода на густой темно-коричневый загар здесь не проходит и еще долго не пройдет.
Ровный бронзовый загар наших соседей по зонтику – нескольких трогательных пожилых пар коренных генуэзцев – для меня загадка. Когда мы в первый раз приезжаем на пляж в начале мая, торжественно открывая сезон водружением полосатого зонта, наши соседи уже сидят там бронзовые, как щиты ахейцев, непоколебимые, как спартанцы при Фермопилах, невозмутимые, как олимпийцы. Именно они, эти завсегдатаи пляжного партера, вызывают такой панический ужас у Сандро. Я думаю, что, глядя на них, он немедленно представляет себе такой свою спокойную старость – и только и думает, как бы улизнуть на дикие скалы в Больяско. Я-то знаю, что его пугает не перспектива старости как таковой, а предопределенность жизни на закате дней. «Италия становится страной стариков, – говорит он в сердцах, – я, когда выйду на пенсию, поселюсь на даче, буду себе свою печку топить». – «А как же электричество?» – подначиваю я его. «Куплю генератор, – сварливым голосом отвечает он, – и вообще, у меня керосиновая лампа есть». Не знаю, чем ему не угодила идея спокойной итальянской старости… Я-то как раз с удовольствием думаю о маленьком домике у самого синего моря… Но это действительно когда-нибудь потом, надеюсь, еще не скоро.
А пока мы все меньше бываем на море. Летом торчим до последнего на русской даче, пользуясь тем, что в Италии школа начинается только в середине сентября, прихватываем немножко бабьего лета, грибов, прогулок по рыжему осеннему лесу, и никакими обещаниями моря и лета уже не удается уговорить детей не расстраиваться по поводу отъезда. Даже наших русских гостей я уже начала отговаривать ездить на пляж – попадетесь, говорю, в ловушку, будете ездить туда каждый день как на работу, никакой свободы. Не верят мне. Ну и слава богу. Это мы, видимо, вместо того чтобы цивилизовываться, дичаем все больше с каждым годом от дачной жизни. Дети не хотят одеваться – да пусть бегают в трусах, мы же на даче. Мы и сами можем запросто выйти к завтраку в пижамах, сесть за сосновый стол под яблоней, съесть каши, выпить чаю. Правда, вот мама купила гигантский зонтик на дачу, очень, говорит, не люблю солнце в глаза. Ну что делать, пусть будет зонтик. Наш дачный элизиум, я думаю, от этого не пострадает.
Libert, galit, fraternit
Моя печальная история отношений с прислугой
Начала я этот год с того, что уволила домработницу. Я пыталась привыкнуть три с половиной года и вот наконец решила, что хватит.
На помощицу по хозяйству я целилась давно, особенно тогда, когда в Москве совсем пропадала на работе, и даже кого-то мне сватали, но как-то так ни разу не срослось. Зато я о ней мечтала: после долгого рабочего дня войти домой, скинуть каблуки и воскликнуть: что за диво, все так чисто и красиво! В общем, я и сейчас мечтаю, только чтобы без побочных эффектов.
Но обо всем по порядку. Почти у всех моих итальянских знакомых есть домработницы – приходящие каждый день или раз в неделю, иногда даже раз в месяц, но все-таки есть. Как правило, это тетки из Южной Америки, и, как правило, именно эти тетки содержат своих южноамериканских или – как вариант – марокканских мужей, потому что рынок труда для теток просто необъятен. Не скажу, что спрос превышает предложение, но в любом случае найти подобную работу не сложно. Немаловажно и то, что эквадорки, которых в Генуе видимо-невидимо, невероятно, неправдоподобно даже некрасивы. Хозяйке дома, я думаю, это должно быть приятно – одной заботой меньше: за верность мужа можно не беспокоиться хотя бы в собственном доме. И цены вполне приемлемые. Коли только за русский газ платишь по счету 170 евро, 20 евро за капитальную уборку начинает казаться очень скромной ценой.
Когда родилась Машка и наша бабушка в очередной раз повела атаку на то, чтобы разрешить ей присылать к нам свою домработницу хотя бы раз в неделю, я согласилась – и немедленно обнаружила, что весь мой опыт рабочих отношений не годится ни к черту. Я-то думала, что мы все давно уже выработали профессиональный подход к своему делу и к отношениям в рамках этого дела. Товары и услуги, сотрудничество и взаимодействие – схемы, по которым я привыкла жить, казались мне простыми и ясными. Но, обзаведясь домработницей, я вдруг обнаружила, что вступила в круг отношений совершенно патриархальных, где двадцать первым веком даже и не пахнет. На деле мои отношения с домработницей были скорее похожи на что-то такое до 1861 года: я в качестве барыни-крепостницы, а полуграмотная Александра из совсем дикой, затерянной где-то в горах провинции Эквадора в качестве крепостной девки. Еще бы какого-нибудь глухонемого Герасима, но, видать, их уж нет таких, остались только Александры.
Сначала я решила, в своей бесконечной наивности, что заботу о чистоте дома можно полностью доверить Александре, выдала ей некоторую сумму на покупку орудий труда (вдруг ей удобнее работать каким-нибудь специальным типом швабры? Пусть он у нее будет, главное, чтобы у меня был результат) и предложила ей самой следить за количеством чистящих средств дома и тратить постепенно деньги из выданной суммы на докупку необходимого. Может, вам уже смешно, но мне все казалось очень логичным. Деньги закончились немедленно. Чистящие средства тоже. Чеков у Александры не было, сколько и на что она потратила, она не помнила. Я снова выдала ей денег, записала в календаре сумму и попросила Александру сохранять чеки. Через две недели деньги снова все вышли, чеки потерялись, чистящие средства закончились. Вот тут-то мне надо было бросить все свои дела и поругать ее. Но я, на мое несчастье, ужасно не люблю ругаться. Как-то я преодолеваю эту нелюбовь ради блага своих детей. Когда нужно, собираюсь с силами, становлюсь в позу и произношу необходимый текст с суровым выражением лица. С выражением у меня особенно плохо, каждый раз я очень некстати вспоминаю «сидит милый на крыльце с выраженьем на лице», понимаю, что это про меня, и стараюсь не расхохотаться. В общем, не получается у меня ничего.
Ну и хрен с ними, с деньгами, подумала я, себе дороже. Пришлось, правда, держать в голове информацию о том, что и в каком количестве у нас есть и сколько примерно это может стоить, чтобы в нужный момент посылать Александру в магазин, давая ей деньги на строго определенную вещь. Далее последовала битва за хлор. То есть Александра боролась за хлор – ей с ним быстрее и удобнее работать, а я от него задыхалась. Параллельно наш папа боролся за то, чтобы запретить Алексендре чистить духовку каким-то очень вонючим средством против жира – после него любое блюдо, приготовленное в духовке, приобретало вкус данного средства. Обе битвы мы выиграли, но понеся тяжкие потери: Александра избавилась от необходимости следить за своими орудиями труда, а у нас стало одной заботой больше.
Следующие две баталии мы проиграли: Александре нравилось перестилать постели (а мне нравилось, что каждый член нашей семьи это делал самостоятельно и сам оставлял под подушкой то, что ему хотелось – трусы, книжку или плюшевого мишку) и не нравилось мыть полы под кроватями. Для того чтобы было по-моему, надо было проверять работу за полчаса до ухода Александры, опять же ругать ее, если она делала неправильно, и заставлять ее переделывать то, что было сделано плохо. Но я-то мечтала вернуться домой и воскликнуть: что за диво, все так чисто и красиво, – а красиво чтобы сделалось без моего участия, иначе какой смысл? Ну и ладно, подумала я. Научим детей работать «свиффер дастером» (это, в общем, такая усовершенствованная швабра). Им полезно иметь какие-то домашние обязанности.
Далее последовали более серьезные вопросы подарков к Рождеству и Новому году, тринадцатой зарплаты и бюллетеня. Суровый юмор анекдота «нету ножек – нету мультиков» Александра не оценила. Напрасно я рассказывала ей, что мне в университете тоже не платят за пропущенные по болезни часы. У меня есть определенное количество лекций, которые я должна прочитать по контракту. И если никто не может меня заменить, я обязана наверстать пропущенные часы в конце года. «Так что, как видишь, – говорила я ей, – у нас с тобой одинаковая ситуация». Александра недоверчиво смотрела на меня исподлобья и молчала. Теперь уже я вспоминала левинских крестьян из «Анны Карениной». Решение вопроса нашла сама Александра, причем очень оригинальное. Когда у нее был какой-нибудь особо сильный грипп, она приходила с красным и опухшим носом, пару раз чихала в тарелки моих детей, немедленно получала разрешение идти домой, но не уходила, пока не получала денег. Вот она, борьба пролетариата за свои права! Я так понимаю, что мне надо было договориться все-таки о компенсациях за пропущенные по болезни рабочие дни.
Идея подарков меня сначала удивила, но потом я случайно взялась перечитывать Аверченко и, наткнувшись на рассказ о пасхальных подарках домашним и прислуге, вспомнила, что и бабушкиной Мане (сначала няне, а потом домработнице) что-то дарили к праздникам, и прабабушка рассказывала, как еще в Петербурге у них в доме дарили женской прислуге колечки и брошечки, надоевшие барышням, и именно на Рождество и на Пасху. Видимо, так надо, решила я и добавила еще пару дел к обязательному списку семейных забот. Через некоторое время нонна добавила к этому списку такие важные события, как первое причастие сына Александры, свадьба Александры, окончание сыном Александры начальной школы, долгожданную поездку Александры к маме на историческую родину и т.д.
Сверяясь с русской классической литературой, я каждый раз понимала, что расширение круга моих обязанностей неизбежно, и все больше чувствовала себя в ловушке. Мне ведь не нравится думать даже о том, что купить на ужин, – только кто еще, кроме меня, будет помнить, есть у нас подсолнечное масло или оно еще позавчера закончилось. Ну хорошо, хорошо, уговаривала я себя. Вот так вот мы и взрослеем, у нас прибавляется обязанностей. Пометок в календаре становилось все больше и больше: по вторникам – физкультурную форму Пете, по четвергам – Маше, по средам и пятницам Петьке в рюкзак положить форму для айкидо, по понедельникам – для студентов нужны диски с песнями и мультфильмами, по вторникам – грамматика, по четвергам – тексты. К выходным нужно подготовиться заранее. К праздникам тоже, составив предварительный список обязательных подарков. За курсы английского, айкидо и танцев нужно вспомнить заплатить до определенного числа (для каждых курсов – разного)… по-моему, нет ничего удивительного, что я не помню ни одного дня рождения.
Но я думаю, что я бы со всем этим справилась, если бы моя домработница не разговаривала. Мы много раз переносили ее часы работы с утра – на вторую половину дня, и наоборот, но со временем я убедилась, что совсем не пересекаться с Александрой невозможно: когда я работала дома или когда в дождливый день вела детей сразу после школы домой, на нас немедленно обрушивался поток сведений о бедствиях Александры и ее семьи. За работой я слушала ее монологи о нехватке денег, за укладыванием Маши – о проблемах Брайана в школе, за Петькиными уроками – о менструациях и гинекологах, а за едой – о глистах и ленточных червях. Когда ей не хватало внимания аудитории, она бежала мне наперерез к звонившему телефону, чтобы прокричать в трубку: «Тебе кого? Наташу? Наташа дома! Я сейчас Наташу тебе позову!» На то, что звонивший спрашивал не Наташу, а професорессу Осис и мог оказаться известным драматургом или уважаемым профессором, так же как и на то, что к ней обращались на «вы», ей было глубоко наплевать. Она ведь приехала жить в демократическую страну и практикует исключительно демократические отношения.
Ситуация вырисовывалась более чем ясная: надо было воспитывать. Только как? Александра, в моем присутствии изволь заткнуться? Или: не смей разговаривать со мной, если я ни о чем тебя не спрашиваю? Или: изволь, разговаривая по телефону, называть меня синьорой? Патриархальные отношения предполагают предельную ясность требований. Никакие «если тебе несложно…» или «не могла бы ты…» не действуют.
Когда я начала сочувствовать махровым крепостникам, я поняла, что хватит. И даже при расставании у меня не хватило духу сказать: «Ты дура, Александра, и сил моих больше нету». Меня выручил кризис. «Мы все теперь оказались в сложных финансовых условиях, придется нам теперь обходиться без тебя» – так я по своей душевной слабости сформулировала итог наших трехлетних отношений. И ведь даже нельзя сказать, что причиной всему хорошее воспитание, ведь как-то наши прабабушки совмещали ведение дома, полного прислуги, со своим воспитанием? Спокойно, но твердо объясняли очевидные вещи, повторяли по двадцать раз сказанное, проверяли результаты работы, поправляли ошибки и постепенно приучали делать все как следует – другими словами, воспитывали как детей. Только мне кажется, что для того, чтобы это все проделывать, надо полностью отказаться от идеи равенства и братства, то есть допустить, что не все люди изначально равны, что отношения свободных профессионалов не всегда достижимы, не удивляться незнанию элементарных правил и понимать, что нельзя сложить с себя даже части ответственности. Но это же отдельная огромная работа! И главное, мне было не совсем понятно, почему это взрослого человека надо учить всему на свете начиная с азов. Ну и хрен с ним, в очередной раз подумала я, мне дай бог со своими детьми справиться, а на дополнительных воспитуемых у меня нет ни сил, ни времени.
Но главную причину я от себя утаила. Я не готова всерьез пересматривать идею всеобщего равенства людей – я с этой идеей выросла, я к ней привыкла, а Александра своим присутствием каждую секунду ставила эту базовую для моего сознания идею под сомнение. Вот и сейчас – написала и внутренне содрогнулась. Нет, проще считать, что я непригодна на роль воспитателя.
Но у этой эпопеи с прислугой оказался совершенно неожиданным побочный результат: мне стало совсем неинтересно мечтать, как я вдруг сказочно разбогатею и мне не придется больше беспокоиться о практической стороне жизни (что скрывать, я всегда этого хотела). Теперь все потенциальные садовники, повара и гувернантки представляются мне разнополыми и разновозрастными александрами. Я понимаю, что согласно теории вероятности такой поразительной дуры, как наша Александра, скорее всего, больше нам не попадется. Но если даже бессловесный автомобиль требует, чтобы в него вовремя заливали масло, антифриз и бензин, то живые люди, призванные облегчить нашу жизнь, приготовив за нас обед, убрав комнаты и проверив уроки у наших детей, наверняка потребуют к себе внимания не меньше, чем те неодушевленные механизмы, которыми мы уже привыкли пользоваться.
Удивительно, но с этой мыслью мне вдруг стало гораздо легче держать в голове список продуктов, необходимых купить к вечеру.
Трусы свободы
Vox populi и способы его выражения
Итальянцы к концепции города-музея относятся, прямо скажем, прохладно. Что вполне понятно – слишком велик риск превратиться в страну-музей, а жить тогда где? Но кое-какие ограничения все-таки ввели. В Венеции, например, отменили вообще мусорные контейнеры – не слишком-то они вписываются в общую декорацию, в культивируемую здесь ауру XVIII века с его треуголками и плащами. Предполагается, что мусор жители центра Венеции будут выставлять прямо за дверь в строго определенные часы. Забирают его действительно в строго определенные часы, а вот выставляют когда как. Когда попадут в эти определенные часы, а когда и не попадут.
С фасадами и историческими памятниками сложнее. Владельцы домов и квартир владеют не только внутренними квадратными метрами, но и внешними стенами своего дома. Из чего следует, что помывка, покраска и ремонт должны осуществляться за счет квартиро– или домовладельцев. Это значит, что их надо собрать, уговорить, и – что гораздо сложнее – снять с них денег. Отобрать у людей деньги даже на самое хорошее дело – задача в принципе не из легких, а часто она осложняется тем, что какой-нибудь из владельцев в доме своем не живет, а где он живет – неизвестно. И пока председатель домового комитета вкупе в мэрией шлют письма по разным адресам этого владельца, дом стоит себе, роняя куски штукатурки и год, и два, и десяток лет.
Зато, раз уж внешние стены наших домов принадлежат нам и за ремонт фасадов тоже платим мы, то мы из своих окон и вывешиваем, что хотим. Бльшую часть времени нам нравится вывешивать из окошек собственное белье. Кстати, я обратила внимание, что наличие стиральных машин и, как следствие, необходимость стирать черное отдельно и белое отдельно вовсе не лишило итальянцев врожденной любви к красочным сочетаниям.
Поперек узеньких улочек, вдоль лепных карнизов, над головами кариатид и атлантов в хорошую погоду полощутся на ветру портки и рубахи самых ярких расцветок. И все это каким-то непостижимым образом еще и контрастирует с окраской самого дома. Если стена оранжевая, то на ней будут болтаться красные, синие и зеленые тряпочки, если голубая – то белые, желтые и фиолетовые, так или иначе, ничего однотонного… как это, интересно, у них такое получается?
Длина шнура, на котором можно просушить на солнышке свое свежепостиранное белье, – это повод к гордости и соревнованию. Однажды у нас отключился телефон, потому что хрупкая и интеллигентная старушка, живущая по соседству, ухитрилась употребить наш телефонный кабель для развешивания своих кружевных панталончиков и вышитых скатертей. А в другой раз я своими глазами видела шнур бельевой веревки, привязанный к свободной руке барельефа Мадонны. Другой рукой Мадонна, как и положено, придерживала младенца.
Больше всего переживает по этому поводу, не поверите, Сильвио Берлускони. Когда он принимал в нашей Генуе-Супербе Большую восьмерку, он отдельно обращался к генуэзцам с призывом не позорить страну и бельишко с веревочек поубирать. На что гордые жители одной из самых могущественных некогда морских республик вывесили на все доступные веревки все свои самые разноцветные трусы.
Напротив Палаццо дожей, в котором встречалась Большая восьмерка, в небольшой комнатке с террасой живет профессор Генуэзского университета. Точно к началу саммита главных глобалистов он аккуратно развесил все, что у него нашлось самого красочного, ровно перед окнами зала заседаний. Разумеется, к нему немедленно послали гвардейцев кардинала, пардон, полицейских с категоричным требованием снять с террасы белье, чтоб не мозолило глаза высоким гостям. Профессор, натурально, ни в какую. Мое, говорит, белье, моя терраса, где такой закон, чтобы мне запретить собственное белье сушить на собственной террасе? После долгих препирательств белье сняли, но его пример другим наука – на следующий день разноцветное белье появилось уже и на тех фасадах, где его отродясь никто не вывешивал на просушку. Ну и в самом деле: сушить чистое – это ведь совсем не то, что стирать грзное на людях!
Возможности использования фасадов для собственного политического самовыражения практически неограниченны. Например, во время американского вторжения в Ирак все несогласные вывесили из своих окон радужные флаги с надписью «Мир» – PACE. Лозунг вполне достойный, видимо, поэтому большинство флагов так до сих пор и висит. Выцвели сильно, конечно, со временем, и непонятно уже, что на них написано, но все равно висят.
Еще мы приучились по команде Гринписа выключать раз в год свет, по команде ЮНИСЕФ – ставить на окна горящие свечки в знак траура или солидарности, по команде ЮНЕСКО… впрочем, по команде ЮНЕСКО приходится только реставрировать за свой счет внезапно открывшуюся во время ремонта квартиры фреску, так что ЮНЕСКО не в счет.
Так или иначе, мы свою сигнальную систему вполне разработали. Надо только дождаться подходящего события, и уж мы всем покажем, что такое vox populi – глас народа.
Свое согласие или несогласие в демократических странах можно выражать сколько влезет – все равно из этого никоим образом ничего не следует. То есть ровным счетом ни-че-го. Накопленный демократический опыт подсказывает, что, разгоняя разные марши протестующих и вообще несогласных, можно только цену набить этим самым несогласным, а так – несогласные ходят-ходят по городу, флаги вешают, свет выключают, но на их vox populi никто не обращает решительно никакого внимания. По крайней мере, из тех, кому, собственно, волеизъявление народа или его отдельных граждан было предназначено. А что? Существенная, наверное, экономия получается в государственном бюджете, если марши не останавливать, демонстрации не разгонять и чужие трусы с веревок не снимать. Глядишь, дождь пойдет, вот владелец свои трусы с веревочки и снимет. Чего за ним бегать-то? А того пуще за его трусами…
Наше Прекрасное Далёко
О старых песнях для нового поколения
Моя Машка очень любит сидеть на ступеньках, как увидит ступенечку – бежит к ней и присаживается. Я похожу, похожу вокруг и тоже присаживаюсь. Сегодня я вот так присела, Машка привалилась к моему боку, подперла кулачком щеку, призадумалась, и внезапно я увидела нас с ней откуда-то издалека, как чужое воспоминание: сидят мама с девочкой, усталые, в неожиданном ореоле нежности, и вдруг к этой картинке добавилась старая песенка: «Ты да я, да мы с тобой, ты да я, да мы с тобой, хорошо, когда на свете есть друзья…»
Такие песенки мы всегда горланили с моей подружкой Маринкой, когда плелись в школу или когда скакали из школы домой. Сначала песенки из мультфильмов, из «Голубого щенка» и из «Мэри Поппинс», а потом «Ничего на свете лучше нету», «Крылатые качели» и «Прекрасное далёко».
А сегодня я для детей постарше – я имею в виду своих студентов – записывала другую старую песенку – «Дорогою добра» из «Маленького Мука». Сплошное повелительное наклонение – как раз то, что нужно по программе. И целый день она теперь в голове крутится: тари-та-та-тарам, тари-та-та-татарам, не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра, но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра…
И в очередной раз думаю: на каких фильмах, песнях и книгах мы выросли! Интересно, это тоска по юности или банальное «сахар был слаще и бабы глаже»? Ведь когда-то мы смеялись, капая мороженым на выходное платье в темном зале кинотеатра на детском сеансе. А теперь я слушаю и плачу.
О чем? О том, что у нас, как у всех юных циников, все-таки были свои иллюзии? Или о том, что нам некого упрекать за то, что они у нас были? Или о том, что в восемьдесят каком-нибудь году иллюзии казались не иллюзиями, а твердым обещанием Прекрасного Далёка? Может быть, наше Далёко еще не наступило? И мы еще будем восторженными и счастливыми старичками держаться за руки в полупустом зале кинотеатра и смеяться, утирая слезы? Или вот такая кто-нибудь из поколения наших внуков напишет о нас хорошую, большую пьесу… С любовью. Но мы же опять будем плакать. Только уже совсем другими слезами.
А пока что я просто невозможно благодарна моей подружке Маринке за то, что у меня до сих пор в голове болтаются разные человечки, которые грустят на оранжевой речке, потому что долго нету нас… И хочется ей написать, ссылочку прислать, что ли, на ютьюб, чтобы она посмотрела вместе со мной, как он славно шагает, этот милый мальчишка, по своей дороге добра, под нашу любимую песенку, только вот у моей Маринки нет электронной почты, или есть, но у меня нет ее адреса, а есть только какой-то пятый по счету номер мобильного и его надо выудить из запасного телефона, который я подключаю только на даче, а в нем надо активировать симку, а где, черт возьми, пин-код от этой симки, я сейчас и не помню, лучше, наверное, позвонить ей вечером домой, слава богу, этот номер я еще помню, и я уже знаю, что вечером я, конечно, не позвоню, потому что вечером на мне дети висят, как обезьяны на пальме, и надо ужин готовить, и уроки проверять, и… Главное, что же я ей скажу вечером? «А ты помнишь?» Глупо, наверное… Или все-таки попробовать?
А может быть, это все не важно – она и так услышит летом, как смешно поет наши наивные школьные песенки маленькая полуитальянская девочка.
Эмансипация
О правах и обязанностях итальянок
Лучший период года для меня – это начало осени. В середине сентября итальянские дети идут в школу, а лекции в университете начинаются только в октябре. И до начала семестра можно со вкусом заниматься самой интересной работой – принимать экзамены у талантливых двоечников и консультировать по вопросам перевода самых старательных отличников. Я вообще люблю начало учебного года, хотя и никогда, кажется, еще не признавалась в этом публично, а вот такое неспешное возвращение в рабочий ритм мне еще больше по душе – слишком уж летняя жизнь расслабляет. Во время каникул сделалось мне лень бегать вперед-назад в университет, точнее, вверх-вниз. Сто пятьдесят ступенек вниз, из нашего дома до улицы Бальби, и с улицы Бальби – в три раза больше уже внутри университета. Если бы не бегом на работу, а так по этим лестницам ходить, присматриваясь, разглядывать, просто глазеть, то можно было бы получить большое удовольствие. Основное здание Генуэзского университета строилось почти сто лет и предназнaчалоcь для Колледжа иезуитов. Но не успели иезуиты освоиться в этом роскошном здании, как их орден был распущен, и вместо Колледжа иезуитов был основан университет – Universit degli Studi di Genova. Мой уже наметанный на генуэзские дворцы взгляд теперь вылавливает типичные черты стандартного палаццо синьориле, то есть попросту дворца, но, когда я не спешу, меня каждый раз поражает величественный каскад лестниц, ниспадающий между мраморных львов, леса стройных колонн, резных цветов на дубовых арках и портиках. А на самом верху – прекрасный сад с прагматичным названием Orto Botanico (что значит «Ботанический огород»). Только, к сожалению, когда я бегу на лекции, то почти всегда спешу – дело мамское такое, никуда не денешься: одному найти тетрадку по английскому, а другой вынь и положь туфельки как у принцессы… Вот ведь интересно, в первые месяцы в Италии я все время думала: как же они тут живут в такой красоте и не поражаются. Потому что я поражалась в буквальном смысле. Застывала на одной ноге и смотрела, как между крыш и куполов неожиданно открывается кусочек моря и полощется на ветру генуэзский флаг на средневековой башне. А когда внутренний голос мне командовал «Отомри!», я удивленно крутила головой и не могла понять, что ж это все вокруг не замерли вместе со мной? Неужели не видят, где живут? Н-да, а теперь сама скачу по лестницам Доменико Пароди и думаю только о том, правду ли говорили в рекламе моего нового дезодоранта или наврали, как всегда.
Вот после целого месяца такой беготни вверх-вниз мне и пришло в голову зазвать студенток из магистратуры к себе домой – и там, на свободе, рассуждать о русской драматургии в совершенно свежей рубашке. Девочки принесли (ласточки!) разных сластей к чаю (у меня очень правильные студентки – они уже вс были в России на стажировках), трогательно вытягивали шеи, боролись с желанием все услышанное законспектировать и старательно пили чай. Но когда я уже вывалила на них все сведения о современных русских драматургах и выдала на руки по два-три текста для перевода – на выборку, как говорила бабушкина няня, – из девочек вдруг посыпались вопросы на самую неожиданную тему: о материнстве. Вопросы, в сущности, сводились к одному: стоит ли заводить ребенка? И самое главное, что надо делать, чтобы, родив ребенка, из гомо сапиенс (они сказали essere umano, «человеческое существо») не превратиться в… как бы это повежливее?.. я обычно говорю – в мамочку, а Толстой радостно обозвал в эпилоге свою поэтическую Наташу «самкой», и я прямо вижу, как он потирал руки, ожидая истерических воплей со стороны лучшей части человечества, уже настроившейся на полную и бесповоротную эмансипацию.
Я тоже боялась, и все мы боялись, как эти девочки, но дело в том, что предмет наших ночных кошмаров совсем не один и тот же. Итальянские девочки даже не представляют себе, как прелестные русские феечки на тоненьких ножках за пару лет декрета превращаются в угрюмых теток. Муж мой, кстати, очень полюбил слово «баба», как только разобрался в том, что это такое, и внес его в свой активный словарь вместе со словами «дача», «спутник» и «матрешка»… Я регулярно предлагаю ввести в наш семейный словарь слово «зануда», но в последнее время мне стало казаться, что Сандро думает, что у него такая же смысловая нагрузка, как, скажем, у обращений «зайчик» или «Масечка», но всему свое время, раз уж мы «баба» прояснили, то и со всем остальным рано или поздно разберемся…
Сначала мне и в голову не приходило оценивать степень эмансипации итальянок, но очень скоро пришлось задуматься о собственной эмансипированности. Началось все с выходных. Я, например, считаю, что воскресенье у работающей мамы должно быть таким же выходным, как и у всех членов семьи. В свой первый год в Италии я все время пыталась вытащить семью на дальнюю прогулку, и каждый раз все заканчивалось тем, что мы оставались без обеда. Сандро пытался мне что-то объяснить – про католическую страну, про святой день воскресенье, про нежелание рестораторов и негоциантов ссориться с католической церковью, про воскресный обед, который мама начинает готовить прямо с утра, чтоб всю семью собрать за праздничной трапезой… Я, правда, никогда до конца не понимаю, серьезно мой муж такие вещи говорит или шутит. Не исключено, что шутит, конечно, только как выйдешь на улицу Бальби в воскресенье (на которой одних только баров, кафе и ресторанов не меньше двух десятков) – так там пустыня Сахара. Все закрыто железными ставнями, из прохожих попадаются только нарядные негры, и ветер по улицам какие-то клоки метет. Справедливости ради надо сказать, что за те пять лет, которые я здесь живу, кое-что изменилось. Походив минут 20–30, теперь уже можно найти, где выпить кофе. Сугубо туристические заведения торгуют разогретой в микроволновке псевдопиццей. Открыли новую сеть супермаркетов, которые работают по утрам в воскресенье, но только до 12:30. Это уже большое достижение, но как насчет выспаться хоть раз в неделю? Впрочем, даже если прибежать в какой-нибудь супермаркет до 12:30, все равно там не найдется гастрономического отдела, в котором можно купить все готовое и скормить семье. Может, Сандро не шутил, и действительно в Италии обед непременно нужно готовить, воскресный семейный обед с пятью переменами блюд, а не покупать разные там суши или котлеты по-киевски? Впрочем, я погорячилась: в нескольких точках города все же есть гастрономические магазины – в принципе можно специально запланировать поездку туда, отстоять получасовую очередь и купить нечто готовое. Заранее. Потому что, во-первых, как уже было сказано, в воскресенье (святой день в католической стране) приличные магазины и заведения закрыты, а во-вторых, концепция совсем другая – там покупают деликатесы, а не готовую еду, которой можно перекусить на скорую руку.
В обычные дни, кстати, супермаркеты работают до 19:30. Мне потребовался год, чтобы привыкнуть к тому, что еду можно купить только в определенное время суток. В своей московской жизни, даже в ее «мамском» варианте, я, по-моему, ни разу не попала в супермаркет до 19:30. Вообще не представляю себе, как это можно сделать, если ты работаешь целый день и если под работой не подразумевается должность конторщицы, которой все до лампочки, или преподавателя на полставки. Но может, это просто жизнь в мегаполисе накладывает на меня свой отпечаток?
Или вот еще. Когда у нас в Генуе идет снег или кому-нибудь в муниципалитете кажется, что может пойти снег, то все школы и детские сады закрываются. В прошлую зиму эту операцию проделывали как минимум пять раз. Магазины открыты, кафе – тоже, в офисах кипит работа, все государственные службы работают, а детские сады – закрыты. И когда я в который раз начинаю вопить «почему?», мамочки мне спокойно объясняют: во-первых, чтобы никто не поскользнулся и вчинил иск муниципалитету, а во-вторых, чтобы разгрузить движение на городских улицах за счет тех родителей, которые вынужденно останутся дома с чадами. При этом мы сидим с этими самыми чадами и мамочками в кафе и пьем горячий шоколад. Все – в полном восторге, и лицо подергивается нервным тиком только у меня. Ну что ты так переживаешь, говорят, ты позвони на работу и скажи, что сегодня не можешь, или с собой ребенка возьми…
Казалось бы, мы же все в одной лодке, проблема у нас одна и та же. Неужели мне одной видится полное неуважение местных властей к работающим матерям? Хорошо, допустим, мои переводы какие-нибудь или лекции для филологов-русистов имеют сравнительно низкую социальную значимость, но если я бы была хирургом и у меня была плановая операция, почему я бы все равно не могла рассчитывать на такую простую услугу, как детский сад? Или мой ребенок должен был бы ошиваться вместе со мной в операционной? Хотя, наверное, те немногочисленные мамы, которые действительно относятся серьезно к своей работе, уже пережили с утра двухчасовой кошмар поисков внепланового бэби-ситтера, видимо, что-то нашли и, видимо, уже оперируют. С легким сердцем, ясной головой и полной концентрацией. Ну да.
Правда, чтобы меня успокоить, один папа однажды пошутил, что в следующий раз, когда найдет школу закрытой, приведет детей в здание мэрии (еще один палаццо синьориле – великолепный дворец Турси) и оставит их на попечение чиновников. Мне эта мысль очень нравится, только я думаю, что, когда я по снегопаду дойду с двумя своими бармалеями в Палаццо Турси, мы как раз с этим самым папой там и встретимся, а ни одной мамы там все равно не будет. Они и без снегопада детей разбирают из детского сада около четырех часов пополудни. Я помню, что, записывая Петю в детский сад, очень удивилась, что вечернее время в детском саду, с 16:30 и далее, называется servizio speciale – специальной услугой, а потом поняла, что ее можно было бы назвать и экстраординарной – из сотни детишек нашего сдержанно буржуазного детского сада после 16:30 оставалось два-три ребенка, и те, по-моему, не были итальянцами.
С точки зрения большинства моих знакомых, все, чем я так активно возмущалась, никоим образом не является ущемлением прав женщин. Всему есть свое объяснение, говорят, во-первых, ты же вот сама уже сказала – страна католическая (многие добавляют – ужас, позор); во-вторых, здоровье детей – ты и сама должна понимать – это важно, а кухня итальянская неслучайно самая знаменитая в мире. Мы к ней все серьезно относимся – и женщины, и мужчины.
Я долго не могла понять, что именно меня так раздражает в этих предлагаемых обстоятельствах, а потом вспомнила: церковь, дети, семья – это ли не Кирхе, Киндер и Кюхе? Получается, что вся структура общества недвусмысленно подталкивает меня к тому, чтобы внимательнее относиться к своим обязанностям матери, жены и хозяйки. Оно, может, и неплохо, а в моем конкретном случае, может быть, это было даже необходимо, но не знаю, как вы, а я вот очень раздражаюсь, когда меня к какому-то решению подталкивают.
Когда я в шестнадцать лет читала о волшебном превращении Наташи Ростовой в… мамочку, мне казалось, что я очень понимаю и разделяю идеи Толстого. Оказавшись здесь, я поняла, что все не так просто, как я думала. Одно дело самостоятельно решать, какое место в жизни отводить семье и детям, а другое – когда уже все решили за тебя.
Внимательно приглядевшись к итальянкам и их образу жизни, я в первый раз подумала, что у советской власти есть свои заслуги перед русским обществом. Как минимум перед русскими женщинами. Мысль меня испугала. Точнее, я очень испугалась, что могла вообще такое подумать. Обычно на это Сандро мне говорит: видишь, как положительно повлияла на вас (русских) советская власть. А я, конечно, доказываю, что это мы, русские, сами на себя повлияли, а советская власть нам при этом только мешала. Но про то, как русским женщинам раздали сразу все права и обязанности, вы и сами все знаете, а вот исследование вопроса женской эмансипации в Италии меня заставило задуматься.
В католической стране, где до 1974 года развод был запрещен, отдельным аспектам семейной жизни была посвящена целая группа прелюбопытнейших законов. Один из них назывался abbandono del tetto coniugale – закон, обязывавший супругов жить под одной крышей, и даже вроде бы некоторым образом защищающий интересы женщин – нерадивого супруга, оставившего семью, можно было по закону вернуть под семейный кров (tetto coniugale, буквально – «супружеская крыша»), а не бегать за ним с исполнительным листом, но действовал закон и в обратном направлении: если сбегала от семейного крова жена, ее тоже можно было вернуть назад. В противном случае предусматривался серьезный штраф или год лишения свободы. Отдельная статья закона была посвящена так называемым «преступлениям чести» (delitto d’onore) и, согласно этому закону, «защита поруганной чести» являлась смягчающим обстоятельством (и более чем!) в случае убийства. Под поруганием чести, разумеется, подразумевались внебрачные сексуальные связи (с отдельной оговоркой про честь сестры и дочери). Чтобы представить себе действие этого закона, достаточно пересмотреть веселую старую комедию «Развод по-итальянски» с Марчелло Мастроянни, где герой прямо-таки толкает свою жену в объятия любовника, чтобы получить возможность от нее избавиться. Только это раньше этот фильм мне казался смешным. Теперь как-то уже и не очень.
Конечно, жизнь не стоит на месте. На общенародном референдуме 1974 года итальянцы проголосовали за разводы и против «права на честь». Только вот вступили в силу решения референдума аж в 1981 году! Я из этого заключаю, что до создания продуманной и хорошо действующей структуры, которая бы обеспечивала работающей женщине возможность спокойно управляться и с покупками, и с детьми, у итальянцев просто еще руки не дошли. Тем более что остаются еще острые и вполне понятные всем вопросы рабочих отношений, декретов, пособий (я, например, как мать двоих детей не получаю ни копейки, пардон, ни чентезимо пособий)… Оказывается, понятные и привычные сложности, даже очень серьезные, вызывают куда меньшее возмущение, чем сложности мелкие, глупые, несерьезные, но непривычные… Впрочем, про привычку еще Пушкин писал, так что стоило ли огород городить, чтобы прийти к давно известной истине?
Может, стоило лучше подумать о том, как женская эмансипация влияет на мужчин?
Дети
Большие и маленькие
Я часто думаю, что все итальянцы – немножко дети. Я за ними уже достаточно долго наблюдаю – и за детьми, и за итальянцами, – и чем больше я наблюдаю, тем больше мне кажется, что именно эта гипотеза могла бы многое объяснить. Вот, например, сначала я удивлялась: ну как это могут взрослые люди, случайно встретившись на улице, остановиться в самом неудобном месте и болтать пятнадцать минут, вынуждая прохожих сходить с тротуара на проезжую часть, чтобы их обойти. Во-первых, взрослому человеку было бы неудобно перед прохожими, а во-вторых, неудобно в самом прямом смысле – стоять с сумками и портфелями посреди уличной толпы, перекрикивая шум уличного движения. Какой смысл? Не проще ли зайти в соседний бар и те же пятнадцать минут провести на удобном диване, попивая что-нибудь вкусное? Удобнее, но не для итальянца. Стоит выйти на улицу и пройти метров двадцать в любом направлении – и вы немедленно увидите двух, трех, четырех человек, стоящих посередине тротуара шириной в два с половиной метра, занятых оживленной беседой и обтекаемых сплошным потоком прохожих. И никто, кстати, не возмущается. Для меня это было сплошной загадкой, пока я не пригляделась к детям. Вы никогда не замечали, как они умеют найти самое неподходящее и, главное, совершенно непредсказуемое место для увлекательной игры? Но стоит предложить им переместиться куда-нибудь и продолжить игру, как игра сразу же становится неинтересной. Может, они и перейдут куда-нибудь в более подходящее место, но играть уже будут во что-нибудь другое – совершенно неподходящее и абсолютно непредсказуемое.
Никак не могу понять, все-таки радуют меня итальянцы или раздражают. Потому что раздражают иногда просто ужасно. Например, тем, что они даже не подозревают о правостороннем движении для пешеходов… о левостороннем, впрочем, тоже. Единственный метод движения на улице – хаотический. Они одержимы очень понятной мне лично страстью к говорению: как только прекрасные итальянские слова начинают разноцветными леденцами попадать им на язык – они, как дети, уже не могут остановиться и расстаться со сладким.
В мои бедные уши постоянно поступает какая-то совершенно ненужная мне информация о том, кто, что, где и когда сегодня делал. Такие удобные конструкции, как «у меня есть дело», «сейчас я занята», «у меня еще две встречи, и после пяти я свободен», здесь не в ходу. Вместо того чтобы услышать одну из таких формул, я обычно узнаю, к кому сегодня приходил сантехник (и сколько взял за работу), кто возил собаку к ветеринару (бедную собаку сегодня тошнило целый день, теперь весь дом воняет), кто делал эпиляцию (за весь месяц ни минуты свободной не было, можешь себе представить, во что я превратилась?), кто наконец-то выбрался с друзьями чтобы вдарить по пивку, впрочем, здесь подробная информация уже не лишняя, потому что в большинстве случаев подразумевается, что можно подтягиваться туда же и ударять по алкогольным напиткам всем вместе. Это все очень приятно, но вот от всех остальных подробностей я бы с удовольствием отказалась. Или бы послушала вечерком, за аперитивами, а не на бегу, не в телефоне и не тогда, когда нужно просто задать вопрос и получить такой же простой ответ.
Зато простота и свобода в отношении собственного тела, которой я сама не обладаю, со временем стала мне казаться очень милой. Кавалер, которому приспичило сгонять в туалет, весело пошутит, что, наверное, это уже простата дает о себе знать, а жаль – могла бы еще десяток лет подождать. Для интимных частей тела в разных районах Италии придуманы самые неожиданные имена, большинство из которых (о чудо!) не являются ругательствами. Из самых смешных и труднообъяснимых – картошечка, воробушка (женск.) или птичка, горошек (мужск.). «Закрой клетку, а то птичка улетит», – всегда говорит Сандро Петьке, когда тот забывает застегнуть молнию на штанах. В сумме этих названий страшное количество. Роберто Бениньи стал национальным героем, когда однажды в прямом эфире выпалил их все подряд, попутно пытаясь залезть под юбку телеведущей и приговаривая: «Ну покажи уже, что у вас там есть такое, что нас всех сводит с ума». Счастливы были все, включая теледиву.
В Италии, как и во всей Европе, активно обсуждается вопрос иммиграции. И вроде бы даже много есть сторонников ее запрета. А еще вроде бы многие не любят иностранцев – по крайней мере, левые при любом случае упрекают за это правых. Но на меня, то есть на эту самую пресловутую иммигрантку, никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не посмотрел косо. Ни разу мне не случилось почувствовать себя незваным гостем в этой стране. Есть у нас сосед карабинер, выгуливающий по утрам гигантского бульдога и очень на своего бульдога похожий. Он как раз любит поговорить «об этих иностранцах», и именно со мной, и каждый раз, когда я напоминала ему, что я-то и есть иностранка, и не просто иностранка, а экстракоммунитария (то есть не из объединенной Европы), он отвечал с широчайшей улыбкой: «Но вы-то, синьора, совсем другое дело!» То же касается и гомосексуальных членов общества. Если завтра устроить референдум по вопросу прав и свобод гомосексуалистов, то еще неизвестно, какой процент жителей Италии выскажется в том смысле, что все мы равны и что у геев должно быть столько же прав на заключение законного брака и воспитание детей, сколько и у остальных. Но если у самых активных противников однополой любви вдруг окажется в соседях приятная и воспитанная гомосексуальная пара, они эту пару немедленно полюбят, будут с ними пить чай, пардон, кофе, болтать на лестнице, в том числе и о том, что хорошо бы запретить во всем мире гомосексуальные браки. А на вопрос соседей-геев «А как же мы?» – они ответят: «Ну вы-то совсем другое дело, синьоры! Сразу видно, как вы друг друга любите, и вон сколько времени вы уже живете вместе, а ведь знаете есть какие? Им бы только по кустам в парке шастать и СПИД разносить!»
Итальянцев в целом вообще не нужно убеждать любить ближнего своего. Они как раз про дальних не очень понимают – как их, дальних, можно любить, если они далеко. А для ближних у них всегда найдется и приветливое слово, и улыбка.
Как лучезарно светятся итальянские улыбки даже самым ранним утром, когда я, например, даже рот открыть еще не в состоянии. La vita non facile, ma fantastica! (Жизнь не легка, но невероятна!) – как бы говорят они мне, когда я мычу у стойки бара что-то очень отдаленно похожее на «кофе». Как терпеливо они помогали мне учить итальянский, угадывая, что мне было от них нужно, аккуратно перестраивая мои корявые фразы и выделяя интонацией правильные слова. А ведь сколько раз могли сказать: ничего не понимаю! И имели бы на это право – свои первые опыты общения на итальянском я проводила, имея в запасе не больше десятка стандартных фраз. Они не могут удержаться от подробного рассказа о своих делах – это да, но зато мне не попадалось еще ни одной мамаши, которая говорила бы, что ее ребенок все ест, всегда слушается и идет спать в полвосьмого без единого писка (на детской площадке у Патриарших прудов таких мамаш было полно, и, что самое ужасное, я им долгое время верила). Итальянская страсть входить в детали во время любого разговора может помочь сэкономить массу времени и сил, потому что о детских капризах, поломках машин, ценах в магазинах и других практических вещах итальянцы вам расскажут очень искренне – ничего не утаивая и не приукрашивая. И, кстати, не без юмора. Чудесный, искристый итальянский юмор скрашивает многие разговоры, которые без этой волшебной приправы могли бы показаться… пресноватыми.
С какой радостью нарушат все старательно выдуманные правила, если для этого найдется весомая причина! Мало ли что написано «туалет только для служащих». Если вы находитесь в Италии и при вас есть ребенок, которому приспичило, – смело идите к первому попавшемуся служащему, и он для вас откроет не только туалет, но душ, если только это зачем-нибудь понадобится ребенку. Мало ли что призы положены только участникам рекламной акции, а если в рекламной акции никто не участвовал? Тогда кассирша в супермаркете будет выдавать премии детям, которые помогают мамам делать покупки. Вообще Италия кажется скроенной и сшитой специально для детей. Детей здесь замечают, с ними считаются, их развлекают, ими занимаются – и не обязательно родители. В поезде с ребенком будут играть и разговаривать соседи по купе, в ресторане – соседи по столику, в парке – случайные прохожие, в баре бармен бросит обслуживать всех взрослых клиентов, чтобы расспросить вашего ребенка о его жизни, сделать ему «кофе» – ячменный, молочный или еще какой-нибудь пригодный для малыша. При этом взрослые клиенты ни в коем случае не будут обижены. Они тоже включатся в разговор – не с вами, конечно, а с ребенком. Не беда, если ребенок еще не умеет разговаривать – оживленной беседе незнакомых взрослых с вашим чадом это никак не помешает.
Однажды в ресторане я наблюдала такую сцену: годовалый малыш во что бы то ни стало хотел колотить инструментами для разделки лобстера по тарелке, а родители хотели ему это запретить. Но, как только у него отбирали шипцы и молоточек, он разевал рот и вопил, как пароходная сирена. Родители объясняли ему, что держать в руках эти инструменты можно, а колотить ими по тарелке – нельзя. Малыш кивал головой, но, получив обратно вожделенные предметы, снова принимался колотить ими по тарелке. Родители отбирали молоток, и малыш снова разражался плачем. Все до одного посетителя ресторана бросились к малышу, чтобы его утешить. Родителям было строго сказано: «Дети есть дети. Он же ничего плохого не делает» – и ребенок был уведен стучать по коллекционному фарфору в другом месте, подальше от злобных родителей. Все, кто был в ресторане, с удовольствием подставляли свои тарелки малышу, советовали постучать еще здесь и там, любовались деятельным мальчиком и умильно улыбались. Хозяин ресторана появился в дверях и подбадривал малыша, приговаривая: «Ты как только здесь закончишь, пойдем на кухню – там еще та-а-акие супницы есть и салатницы!» Тут, понятное дело, мальчик потерял интерес к своим инструментам и пулей умчался осматривать кухню. Все были счастливы, особенно родители, которые смогли спокойно доесть наконец, своего лобстера.
Не знаю, чем можно объяснить замедление демографического роста в Италии. Казалось бы, в стране, где так относятся к детям, рожай – не хочу. Но проблему снижения рождаемости замылили уже и левые, и правые. Причем так, что даже страшно делается. Удивительная, кстати, проблема – не ключ, а отмычка – подходит для вскрытия и обоснования какой угодно политической программы. И быстрое обогащение, обещанное правыми, вроде бы должно сподвигнуть людей на размножение, и развитая социальная структура, обещанная левыми, – тоже. Но мне кажется, что корень проблемы надо искать совсем не там. Скорее всего, дело в том, что средняя европейская юность длится очень долго. В Италии диплом получают лет в двадцать пять, а то и в тридцать, потом едут куда-нибудь в Испанию, как бы на стажировку – еще несколько лет. Потом еще несколько лет ищут работу, точнее, место работы, потому что итальянцы, как правило, ищут именно место работы, а не работу. Потом еще несколько лет на то, чтобы оглядеться, подумать, найти дом и, что еще важнее, просто пожить в свое удовольствие.
Когда-то давно мы шутили с моей подружкой Маргошей, что все, почти все мужчины так или иначе застревают в своем эмоциональном развитии – кто в пятилетнем возрасте, а кто в восьмилетнем. И не дай бог только связаться с мужиком, застрявшем в пубертатном периоде. Шутили, конечно, шутили, и даже не на трезвую голову – нами был изобретен специальный коктейль, подвигающий на выдумывание самых невероятных гипотез. Но шутки шутками, а и правда я стала замечать, что чем больше осталось от вихрастого неугомонного мальчишки во взрослом дядьке, тем с ним веселее и интереснее. С девчонками сложнее, я же сама девочка. Модели легко придумывать для других, и чем меньше их знаешь, тем проще уложить все, что знаешь, в одну модель (вот почему я столько моделей для итальянцев выдумала и ни одной – для русских!). И все же гипотеза вечного детства в применении к итальянцам мне очень нравится. Она и вправду многое объясняет. И то, что итальянцы постоянно оглядываются на взрослых серьезных северных соседей, предпринимая отчаянные и безуспешные попытки обустроить свою жизнь как у больших. И ту легкость, с какой они эти попытки оставляют, как надоевшую игру. «Посмотрите, как в Германии и Швейцарии работают, посмотрите, как они живут, – передразнивает иногда Сандро журналистов. – Посмотрите лучше на их лица!» Очень я люблю своего старшего мальчика, когда он так решительно отказывается быть взрослым. Люблю и соглашаюсь: и что это, действительно, за жизнь с такими лицами? Точнее, какая же это должна быть жизнь, если от нее становятся такие лица? Мне, оказывается, жизнерадостные разгильдяи нравятся гораздо больше, чем благовоспитанные зануды.
В одном только мы с мужем не сходимся: Сандро очень алеет, что дети так быстро растут, а я просто сплю и вижу, как бы наши дети поскорее выросли и начали вести себя как ответственные, взрослые и хорошо воспитанные люди – словом, чтобы не было так уж сразу заметно, что мои дети воспитываются в Италии. Ну или чтобы они хотя бы посередине улицы не застревали, со всем остальным я уже почти смирилась…
Поход в кино
О понятиях «левый», «правый», «мещанский» и «буржуазный»
Поскольку я теперь в состоянии воспринимать фильмы на итальянском языке, Сандро решил наконец-то возобновить свои традиционные походы в кино с друзьями. Вы только не подумайте, что я его в кино с друзьями не пускала, просто я даже не догадывалась, что мой муж привык смотреть почти все новые фильмы на большом экране. Когда я только к нему переехала, ему было не до новых фильмов – ему надо было меня напичкать всей итальянской классикой на языке оригинала. Но вот – ура! – весь Феллини уже выучен наизусть, и Саша решил, что пора меня приобщать к массовому искусству.
Итак, мы отправились в кино. Уже когда вышли и встретились, не меньше часа выбирали фильм. Это, насколько я поняла, такой национальный спорт – обсуждать фильмы до просмотра, а не после. Способ обсуждения был такой: Марко Джорчелли – один из лучших друзей Сандро и по совместительству молодой человек той самой Сильвии, к которой мы ездили на сбор винограда, расписывал прелести концептуального итальянского кино восьмидесятых годов (ну не люблю я 80-е, ну что делать!), Сильвия – новый фильм Альмодовара, Сандро не хотел Альмодовара (потому что там буличи – педики) и не хотел концептуальный фильм (потому что там кинотеатр неудобный), я хотела «Гарри Поттера», где можно на два часа гарантированно отключить мозги. Все это хорошо, но от описательной части надо было переходить к каким-то решениям. Тогда Марко, не глядя на Сильвию, стал бубнить, что он лучше пойдет, куда скажут, потому что ему еще с Сильвией жить да жить (что правда: пошел, куда сказали – впрочем, все фильмы, кроме концептуального, шли в одном и том же «Чинеплексе»), Сильвия слагала оды Альмодовару, а Сандро твердил, что жизнь и переживания буличей его не трогают – можно понять: он только что закончил огромную театральную работу с режиссером-геем, а я пела дифирамбы незамысловатым голливудским фильмам, довела бедного концептуального Марко (он у нас коммунист и высокий интеллектуал) до паранойи. Кончилось тем, что он сказал, что, может, я и права, но десять евро за бездумное развлечение «просто так» ему жалко, на чем и был уличен в буржуазном образе мыслей…
Мне нравится говорить «буржуазный», хотя это тоже неправильный перевод. Правильнее было бы сказать «мещанский». Это слово здесь очень в ходу, и это страшное слово – почти как в довоенном Советском Союзе. Творческие люди, люди, занятые умственной работой, преподаватели, ученые, врачи и инженеры, – словом, все те, кого по-русски мы называем интеллигенцией, традиционно относятся к левому лагерю. А средние и мелкие предприниматели обычно голосуют за правых. С крупными предпринимателями все не так просто.
Живы еще легенды о знаковых фигурах послевоенной Италии – Джанджакомо Фельтринелли – убежденном коммунисте и основателе одного из крупнейших в Италии издательств, носящем его имя, или, скажем, владельце концерна «Фиат» Джанни Аньелли, воевавшем в Сопротивлении и принадлежавшем к лагерю умеренно левых. Энрико Маттеи, основатель итальянской нефтяной компании ENI, также воевал в Сопротивлении и всю свою жизнь посвятил тому, чтобы наладить честный нефтяной бизнес, что, по-видимому, и послужило причиной его смерти. Он погиб в авиакатастрофе, при разборе причин которой выяснилось, что на борту самолета произошел взрыв, причем косвенные данные указывают, что в убийстве Маттеи замешано ЦРУ. Прямых данных, как вы понимаете, в таких случаях не бывает.
Мне пришлось волей-неволей вникать в итальянскую послевоенную историю для того, чтобы лучше понимать своих новых друзей. Поэтика коммунистического движения до сих пор достаточно сильна. Фашисты, опрометчиво поддержанные католической церковью, Вторую мировую войну, как известно, проиграли. А вот участники итальянского Сопротивления из нее вышли победителями. Несложно понять, на чьей стороне были симпатии. Итальянские партизаны-коммунисты, спустившиеся с гор после войны, были настоящей хорошо организованной и вооруженной армией и ждали только сигнала для того, чтобы начать революцию. Дальновидный Тольятти, имевший возможность на практике ознакомиться с устройством коммунистического государства в Советском Союзе, предложил компромисс: амнистию всех военных преступлений, ну и, разумеется, продолжение активной деятельности Итальянской коммунистической партии. «Революция: сегодня – нет, завтра – может быть, а послезавтра – обязательно», – подвел итог с горькой иронией все тот же Джорджо Габер, частенько напоминающий мне Александра Галича, с той только разницей, что Галич обличал коммунистическую систему, а Габер – капиталистическую.
Да, а смотрели мы в результате фильм Альмодовара – чтобы никто не посмел упрекнуть нас в буржуазности.
Коммунисты
Юные ленинисты и большевики. Идея равных прав и возможностей в ее практическом воплощении
Сегодня не удержалась и ввязалась, как маленькая, в дискуссию с юными ленинистами, круглосуточно раздающими листовки у входа в университет. И сегодня вдруг вспомнила, как они меня поражали поначалу. Я даже тогда пару их газет прочла из любопытства, но на тот момент наличие молодых, веселых и обаятельных коммунистов в стране, где мне предстояло жить, я просто занесла в список необъяснимых особенностей Италии… Ну мало ли здесь странного? И поесть нельзя между тремя и семью часами, потому как рестораны закрыты, и знакомые в обморок налаживаются, как только слышат, что горячую еду можно проглатывать и в пять часов дня (с тем же успехом, что и в семь, кстати, только кому это объяснишь), и скауты удивительные с голыми коленками зимой (все походы с палатками – это скауты, а все скауты – это католическая церковь. Почему они тогда «скауты», а не юные крестовопоходцы какие-нибудь – непонятно), ну что еще, я не знаю, дети в детском саду не спят днем, раз в год священник рвется совершенно бесплатно благословить и освятить твой дом, билет в автобусе немыслимо передать, чтобы его закомпостировали (вообще не поймут, что ты от них хочешь, но, если будешь настаивать, положат твой билетик себе в карман и скажут «спасибо»), да, а еще в рабочие дни до семи вечера билетик нельзя купить у водителя, после семи – пожалуйста, а до семи изволь заходить в автобус с билетом… Длинный список в общем, и коммунисты в нем как-то терялись.
Но время идет, ко всему или почти ко всему я либо привыкла, либо притерпелась, а молодые итальянские народовольцы меня поражают по-прежнему. На 7 ноября они вывесили везде плакатики с Лениным и призывами отметить годовщину сами знаете чего… И главное, они такие чистенькие, умненькие, воодушевленные, ветер им волосы треплет, и они так небрежно их с чистого лба отметают, чтоб не застили ясного взора – ну хоть сейчас в социальную рекламу жизни без наркотиков, «все против СПИДа» или еще какую-нибудь «сбережем наших детей от…». Кроме шуток, если бы эти юные народовольцы не были ленинистами и большевиками, я бы всерьез сказала, что мне хочется, чтобы мои дети выросли такими… Вот тебе, блин, и единство и борьба противоположностей.
Да что тут говорить. Еще недавно я наотрез отказывалась подавать документы на итальянское гражданство – только потому, что было бы непонятно, за кого мне голосовать (Италия не требует отказа от первого и основного гражданства, так что более серьезных вопросов передо мной не стояло). Может, кому и смешно, но я-то точно знаю, что мой ответственный муж погонит меня палкой на выборы, едва у него появится такая возможность. А там против какой партии ставить галочку? Католической? Или партии Берлускони? Здесь даже и вариантов нет, все приличные люди голосуют за левых. Непонятно, каким это образом Берлускони который год побеждает на выборах… Но это уже совсем другой вопрос: видимо, некоторые придерживаются левого направления только на словах и только из соображений хорошего тона. Ведь именно левых поддерживает большинство писателей, актеров, деятелей театра и культуры. Именно левые твердят, что политических иммигрантов нельзя отправлять обратно в объятия диктаторов, именно левые ратуют за высокие налоги на большой бизнес, которые позволяли бы поддерживать на должном уровне образование, культуру и искусство. Берлускони, наоборот, говорит, что иностранцев нам тут не надо, бизнес надо всячески развивать и поддерживать, а культура по нынешним временам могла бы и затянуть поясочек, и образование тоже, правильно ли я говорю, дорогие сограждане? Ведь они там, культурные и образованные, поди уж и забыли, чей хлеб едят!
Я так думаю, что, если бы во времена Лоренцо Медичи спросили у тосканских крестьян и торговцев, согласны ли они и дальше горбатиться, чтобы позволить Микеланджело свободно творить, они бы сказали: «Микеланджело? Это хто такой? Ему надо – пусть он и горбатится». Та же история и с образованием: «Что-то их много развелось, этих образованных. Пусть лучше поработают, не все ж им за наш счет учиться…» Сыграть на том, что своя рубашка ближе к телу, совсем не сложно – не понимаю, почему коммунисты так удивляются своим поражениям.
Но и к левым у меня лично накопилось достаточно претензий, и теперь уже не только исторического характера. Видимо, из идеи всеобщего равенства и братства неизбежно вытекает дискриминация по новому признаку. Мне, как всегда, приходят в голову примеры из личного опыта.
В муниципальных и городских яслях Генуи уже сейчас абсолютное большинство детей иммигрантов, причем, разумеется, не из Англии или Голландии, а латиноамериканцев и африканцев. Рядом с нами есть два детских сада, в которых в этом году не было принято ни одного белокожего ребенка, потому что пройти «имущественный ценз» даже с очень скромной зарплатой невозможно: легальная заработная плата всегда «белая», то есть вся до копейки учтенная в декларации о доходах, а иммигранты получают деньги наличными и декларируют только минимум, необходимый для получения вида на жительство. Детский сад, согласно идее равных возможностей, должен предоставляться тем, кому он нужнее, у кого меньше возможностей нанять няню и отказаться от работы на год-другой. Но из этого также следует, что там, где есть нуждающиеся иммигранты, итальянцам ничего не светит.
Следуя идее интеграции, в школах стараются создавать смешанные классы – классы, где учатся вместе итальянцы и дети иммигрантов. Но все чаще получается, что следовать министерской программе обучения у таких классов не выходит, и ученики смешанных классов топчутся на месте и год, и два, пока все не выучат итальянский. Правые хотели было предложить вступительный тест на знание языка – ой, что тут началось! Митинги, демонстрации, петиции. Я попыталась воззвать к здравому смыслу на собрании совета школы – на правах иммигрантки, ибо иммигрантов на собрании не было, впрочем, и никогда не бывает, им за свои права бороться некогда, им надо делом заниматься и семью кормить. Я встала и громко сказала, что я лично первая готова подвергнуть моих русских детей таким тестам. Мне кажется, тут все очень просто – приехал жить в страну, изволь выучить язык. Тут уж я не узнала итальянцев, которых я успела так нежно полюбить, – куда только девалось их врожденное дружелюбие? Все до одного собравшиеся припомнили гетто, заголосили о трюкачестве правых, о том, что средняя школа обязана не учить, а предоставлять равные возможности, на то она и средняя, чтобы усреднять. Но если усреднять, а не учить, то зачем тогда и школа? И как быть с правом коренных итальянцев на образование? Непонятно. В другой раз меня вызывали в школу по очень важному вопросу: ваш, говорят, сын Пьетро мало общается с иностранными детьми – все его друзья итальянцы, а как быть с испаноязычными детьми, может, вы внушаете ему шовинистические настроения? Пришлось напомнить им, что Пьетро – не совсем Пьетро, а Петр Михайлович, русский, экстракоммунитарий, родившийся в Москве. Да и я, собственно, не итальянка. Не помогло. «Да, но вы-то совсем другое дело!» – ответили мне. И действительно, как это я могла забыть, что я – совсем другое дело?
Испаноязычные дети, кстати, совершенно нормальные. После пяти лет дискриминации по расовому признаку самыми отсталыми в Петькином классе сделались итальянцы – не все, конечно, а те, у чьих родителей не хватило терпения, методично затыкали дыры, прорехи и зияющие пропасти школьного образования в течение всех пяти лет начальной школы. Так что с равными правами и возможностями все не так просто. Или мы это и раньше знали?
Вот и получается, что на этом фоне взгляд может отдохнуть только на юношах-ленинистах с ясными глазами, которым хочется вообще весь нынешний строй порушить и свой, и новый мир построить. Строить им, конечно, ничего не дадут (и слава богу! им бы сначала историю как следует почитать), но пока они стоят вот так на ветру со взором горящим, так и хочется поверить, что и вправду можно идти другим путем. Каким? О, этого никто не знает. Но все-таки было бы недурно куда-то двигаться, не правда ли?
Снежная ностальгия
Горнолыжные курорты в Доломитах
Переезжая жить за границу, я твердо обещала себе, что ностальгией мучиться не буду, я так много про нее читала, что пресытилась ею заранее. Впрочем, когда-то я еще обещала себе не страдать от несчастной любви – это тоже мне казалось слишком банально. Когда наступил мой черед, страдать пришлось в два раза больше – не только от несчастной любви как таковой, но и от невыносимой мысли, что приходится страдать так пошло и банально. И все-таки к возможным приступам ностальгии мы как следует подготовились. Серьезнейшим образом разобрали этот вопрос и решили каждое лето проводить на даче в России, а в случае обострений посылать меня на несколько дней в Россию-матушку свежим зимним воздухом подышать. Удивительно, как быстро забылась и московская слякоть под ногами, и воронежские ледяные торосы на улицах, и всеобщие грязные серые сугробы по краям тротуаров. С первым дуновением зимы я действительно начинала отчаянно скучать по снегу. Я злобно щурилась на мокрую, колючую взвесь в воздухе, которая висит здесь почти весь декабрь, и думала: а вот была бы я в России, то был бы это не дождь, а снег. Снег при этом мне представлялся хрестоматийно: легкий морозец, прозрачный воздух, ни ветерка, и все кругом искрится, блестит и переливается. Мороз и солнце, да.
Но, кроме шуток, тяжело переживать мрачный декабрь, если не ждать того волшебного утра, когда, даже не выглядывая в окно, знаешь, что выпал снег, знаешь и все равно бежишь, разглядываешь, смотришь оценивающим взором вниз, на тротуар, чтобы понять, настоящий ли это снег выпал, или просто так – ненадолго крыши побелило… Даже лазурное итальянское небо не радует меня зимой. Я все жду молочно-белого свечения из окна по утрам, лилового предзакатного разлива, когда день идет на убыль. Случайно подняв глаза к небу, каждый раз удивляюсь: куда же девался тот насыщенный фиолетовый цвет, за который я так люблю зимние вечера? В первую нашу итальянскую зиму мы как-то утерпели, никуда не поехали, решив провести рождественские каникулы в итальянском стиле – надо же нам было понять, как проходит главный праздник страны. Во вторую нашу итальянскую зиму мы были заняты рождением Машки, а на третью мы, конечно, уже не усидели и поехали на новогодние каникулы в Россию – за снежком. Уже за месяц до поездки мы начали подробно рассказывать мало что понимающей Машке, сколько всего интересного нас ждет зимой в России – санки, коньки, лыжи, снежки, снежные бабы. Даже наш итальянский папа начал нам завидовать – ведь ему предстояло остаться дома и работать, вместо того чтобы наслаждаться новогодними каникулами. В том, что мы будем наслаждаться, мы не сомневались ни секунды.
Проблемы начались уже на границе: именно в эту поездку мне предстояло узнать, что путешествия с детьми без папы крайне проблематичны, особенно если у детей разные фамилии и разные папы. Меня с пристрастием допрашивали, мои ли это дети, разглядывали чуть ли не с лупой детские свидетельства о рождении, детально изучали разрешения на вывоз ребенка итальянского формата, придирались к каждой запятой и совершенно не интересовались тем фактом, что все до единого документы были заверены в Генеральном консульстве РФ. Казалось бы, достаточно твердо знать, что твои документы в порядке, но когда рискуешь опоздать на свой рейс и застрять в аэропорту с двумя детьми, один из которых еще носит памперс, это знание не утешает. Наоборот, раздражает, и еще как. Забегая вперед, скажу, что после серии скандалов с русскими детьми, живущими в Европе, которых возили туда-сюда то русские мамы, то иностранные папы, а то послы и консулы, провезти собственных детей через границу стало еще сложнее. Повторяю, наличие всех необходимых документов отнюдь не является достаточным условием для спокойного путешествия. В последний наш перелет из Москвы пограничники не имели к нам, как ни странно, никаких претензий, зато начиная с регистрации билетов и вплоть до посадки в самолет над нами вилась, как коршун, тетка, проводившая регистрацию, и твердила, что свидетельство о рождении у нас неправильное и что пограничники недоглядели, а что она вот ходила к начальнику и он точно сказал, что таких свидетельств о рождении не бывает, и что, может, все-таки не отправлять наши чемоданы, пусть они еще постоят у стойки регистрации, где она их оставила на всякий случай. В следующий раз, по логике событий, к нам должны будут приставать уборщицы и грузчики – кому, как не им, разбираться во всех тонкостях международного права?
Да и сами по себе путешествия с двумя маленькими детьми – то еще удовольствие. После того как мы однажды потеряли Петю в аэропорту Мальпенса, для каждой поездки мы обшиваем и обвешиваем детей ярлычками и этикетками. Самое остроумное изобретение нашего папы – пристегнутый к ребенку офисный брелок для ключей, на котором вместо номера комнаты написаны имя-фамилия ребенка и номера телефонов родителей. Я, признаться, всегда с завистью слежу за многодетными скандинавскими парами, смотрю на их послушных детей, на неизменно спокойных родителей, говорю себе, что, если они так могут, значит, и я смогу, но в гигантском пространстве аэропорта не могу чувствовать себя ни на секунду спокойной. Для моих бармалеев поездка – приключение, и они переступают порог аэропорта с твердым намерением оттянуться по максимуму. Может, мне не стоит удивляться, если меня спрашивают, мои ли это дети?
Преодолев все препятствия, отделяющие нас от волшебных новогодних каникул в России, снега мы не застали. По серым улицам мел пыль ледяной ветер. Маша боязливо упрятывала нос в высокий воротник комбинезона, а Петька, побродив пару дней по промерзшему асфальту, устроился перед телевизором, заявив, что пойдет снова гулять, только когда пойдет снег. В разных кафе, куда мы продолжали заглядывать по итальянской привычке, на моих мелких детей посматривали с опаской. Кофе был ниже всякой критики. Мои родители с ужасом обнаружили, что я и дети привыкли теперь есть по часам. А большая часть моих друзей никак не понимала, зачем детей нужно таскать за собой, если можно оставить их бабушкам. Когда же нам пришло время уезжать, все вздохнули с облегчением. И снег, разумеется, выпал на следующий же день после нашего отъезда.
Мне до сих пор странно думать, что «за снегом» быстрее, удобнее и дешевле ездить не в Россию, а в Альпы. Больше скажу, мне такая мысль вообще не могла прийти в голову, несмотря даже на то, что итальянская школа в феврале устраивает недельный перерыв в занятиях, называемый settimana bianca – белая неделя, которую положено посвящать лыжам и снегу. Меня потащила за собой моя подружка Джузи, по совместительству – мама Петькиной одноклассницы, в две секунды доказав, что ничего сложного в такой поездке нет и быть не может. Папа неожиданно обрадовался идее сбагрить нас куда-нибудь на неделю и собственноручно заняться воспитанием Машки, которой уже надоело к тому времени прикидываться ангелом. Мы в один заход купили все необходимое за две с половиной копейки в «Декатлоне» и поехали.
Действительно, оказалось все очень удобно. На основные горнолыжные курорты прямо из Генуи ездят автобусы, можно ехать и поездом – с парой пересадок, что даже приятно, если не тащить с собой лыжи. В любом случае дорога занимает меньше чем полдня, и можно успеть в тот же день записать ребенка в горнолыжную школу, взять напрокат горнолыжное оборудование, купить ски-пасс и потом еще весь вечер, не торопясь, переползать из сауны в бассейн, а из бассейна – в гидромассаж.
В Доломитах никаких проблем со снегом не было. Петя был почти весь день в лыжной школе, где, кстати, выучился кататься не только быстро, но и на удивление прилично. Я обнаружила большой выбор черных трасс, Джузи проводила больше времени в горных приютах, чем на склоне, но никто никому не мешал, и все были довольны. Утром нас будило молочно-белое сияние за окном, после пяти небо наливалось пурпурным и лиловым, и к вечеру, когда мы отстегивали лыжи перед входом в отель, вокруг нас уже сгущались фиолетовые сумерки – все было точно так, как мы хотели. Медленные снегопады, сплошной пеленой закрывающие все вокруг, слепящий глаза снег, переливающийся под солнцем, санки, снежки и даже тройка с бубенцами – все слагаемые ностальгии по классической русской зиме мы неожиданно нашли в Южном Тироле – области Итальянских Альп, в Италии называемой Alto Adige. И там же я неожиданно обнаружила в себе новую разновидность патриотизма – любовь к итальянцам.
Итальянцев в той части Южного Тироля, куда мы поехали кататься на лыжах, было абсолютное меньшинство. Было сколько-то славян, в основном поляков, практически не было англоговорящих туристов, зато был миллион немцев. Может, они были не только немцы, но говорили они все по-немецки, очень громко и очень… неприятно. В горнолыжных приютах в любой час дня пили пиво из гигантских кружек. Пили тоже громко. Еще громче ржали. Ни разу не слышала, кстати, чтобы немцы на горнолыжных курортах смеялись. Тихо, иронично, весело, по-детски, беззаботно, бездумно – как угодно. Но зато повсюду меня преследовали взрывы оглушительного ржания – так, что я вздрагивала. Не спорю, я не понимала и не понимаю ни слова по-немецки, но держу пари на что угодно, что шутка, над которой так смеются, не может быть ни умной, ни тонкой, и сомневаюсь даже, чтобы она могла быть приличной. Но все бы это я пережила спокойно, если бы не баня. Милые мои итальянцы, может быть, и не знали как следует, что можно и что нельзя в бане, но в незнакомых условиях нормальные итальянцы руководствуются своим ярко выраженным эстетическим чутьем. Не принято в банной зоне носить купальные костюмы? Они вспомнят что-нибудь из жизни древних римлян и как-нибудь сообразят, как правильно завернуть (или оголить) собственное тело, чтобы оно гармонично вписывалось в окружающую среду. Устраивая свое тело на полке, любой итальянец инстинктивно сделает так, чтобы оно, то есть тело, не оскорбляло бы ничьего эстетического чувства, и в первую очередь – собственное чувство прекрасного. Практически получается, что нормальный итальянец, руководствуясь принципами разумного эгоизма, неизменно следует чеховской максиме о том, что в человеке все должно быть прекрасно. Теми же принципами разумного эгоизма руководствуются и немцы, но, к сожалению, в основе их эгоизма лежит не чувство прекрасного, а практическое удобство. Удобно старой и морщинистой тетке снять купальник и сесть, раскинув ноги на полке? Значит, она так и сделает. Удобно кошмарному мужлану с гигантским пивным животом пройти к выходу перед сидящей юной барышней? Значит, так он и пройдет, и хорошо, если она успеет вовремя отклониться назад, чтобы он ее по лицу чем-нибудь болтающимся не задел. А если их безобразные тела не нравятся каким-то там итальянам, так это их проблемы.
Может быть, все дело в том, что область Альто-Адидже, она же Южный Тироль, – область до сих пор в некотором роде спорная: она отошла к Италии после Первой мировой войны, и жители Южного Тироля совсем не хотят считаться итальянцами. Они получили максимальную административную и финансовую независимость, но, как я понимаю, одна только мысль, что их могут принять за итальянцев, их очень раздражает – попробуйте однажды назвать шотландца англичанином, и вы сразу поймете, о чем я говорю. В маленьком магазинчике всякой всячины, куда мы зашли однажды, чтобы купить солнцезащитный крем, на самом видном месте висел портрет кайзера Вильгельма, и хозяин магазина все время норовил стать поближе к портрету и молодецки подкрутить точно такие же, как у кайзера, усы. По-итальянски, понятное дело, он принципиально не говорил ни слова. В прелестных горных приютах обходились без кайзера, но перекричать горластых немцев и добиться чашки кофе подчас было непросто – италоговорящих клиентов в них тоже старались не замечать. Не везде, конечно, но гораздо чаще, чем если бы это было простой случайностью.
Однажды, когда Петька, пару раз споткнувшись об вытянутые в проход ноги, вдохнув тяжелый запах перегара, совсем оробел от воплей и ржания за те десять минут, когда нас старательно не замечали, и только усилием воли удерживал навернувшиеся ему на глаза слезы, я не выдержала. Звонко хлопнув его по спине, я громко сказала по-русски: «Не робей, сынку, войну с немцами мы выиграли». Не знаю, из каких глубин подсознания у меня это выскочило, я сама даже удивилась. Но эффект был значительный. Мгновенно воцарилась тишина, ноги, перегораживающие проход, убрались под лавки, и хозяин осторожно спросил нас по-итальянски, не русские ли мы, случайно (то есть слышал, подлец, как мы просили кофе). Я не стала говорить с ним по-итальянски. «Русские, – громко сказала я на своем родном языке, – и хотим кофе и капучино. Ферштейн? – потом, подумав, прибавила: – Битте. Вот так-то, Петруха, теперь тебе все понятно?» Так мы в первый раз выпили кофе в приятной тишине.
Не исключаю, что у себя в неметчине немцы являют собой образец хорошего тона. Может быть, так разнузданно они ведут себя только на отдыхе. Или только в Южном Тироле, но в любом случае благодаря обилию плохо воспитанных немцев на этом райском горнолыжном курорте я вдруг впервые увидела итальянцев как рыцарей без страха и упрека, рядом с которыми не нужно прилагать никаких усилий, чтобы во всей полноте ощущать земную красоту.
Leggende metropolitane
Городской фольклор
Я так много размышляла о национальных стереотипах, что теперь даже посвящаю одну лекцию в году этой теме, и мои студенты неизменно удивляются самой идее «национального итальянского стереотипа». Для них совершенно очевидно, что у туринца и, например, сицилийца нет ничего общего… И паче того – что общего может быть у них, генуэзцев, с калабрийцами, или с пьемонтцами, или с неаполитанцами? А между тем я своими глазами видела, как в итальянском спектакле о путешествиях Марко Поло татар играли русоголовые кудрявые вьюноши с голубыми глазами, и не просто играли, а то и дело пускались вприсядку. Есть у Василия Аксенова очень милый рассказ об американце ирландского происхождения, который рассказывал, как ему во время войны жизнь спас то ли казах, то ли казак, то ли узбек, который, конечно, как и все русские, был татарином. Только вот, когда его самого назвали англичанином, вознегодовал: все, говорит, земляне похожи друг на друга, только мы, ирландцы, очень сильно отличаемся от этих англичан… потому что мы лучше.
Хорошо, что все свои теории про итальянцев я начала придумывать тогда, когда с Италией и ее обитателями была знакома без году неделю. Сейчас, перечитывая написанное, я понимаю, что ни слова из сказанного мною на основе наблюдений за генуэзцами не подходит, например, к жителям Милана. Милан – это нормальный, вполне космополитичный мегаполис, и я, кстати, в последнее время все чаще думаю, что работать мне надо в Милане. Но жить – жить, конечно, только в Генуе. Это значит, что и я заболела главной итальянской болезнью под названием «кампанилизм», любовь к своей колокольне-кампаниле, – то есть обычным местечковым патриотизмом. Я так и не научилась еще как следует различать акценты, но существенную разницу быта, образа мыслей, поведения и характеров в разных провинциях Италии я вижу теперь без труда. И особенно меня, как можно догадаться, занимает то, что говорят про генуэзцев, и то, что они сами про себя рассказывают. В сумме это называется здесь leggende metropolitane – буквально: городские легенды, или городской фольклор.
Вообще я заметила, что со временем стала все меньше интересоваться фактами и источниками – ох, зря на меня тратили свой пыл преподаватели истории. Я перестала хватать буклеты в музеях, палаццо и монастырях, потому что всегда там найдется какая-нибудь заноза, какой-нибудь лишний факт, противоречащий не только тому, что мне старожилы об этом месте рассказывали, но самому духу этого места. До сих пор жалею, например, что зачем-то полезла за информацией о Паганини и местах его обитания в Генуе. Жил бы лучше в моем сознании Дом Паганини, и жил бы очень гармонично, а теперь все время у меня каким-то острым краем страшно неудобно в мозгу поворачивается информация о церкви, перестроенной под концертный зал. Такая красивая картинка была, пока я не обременила ее ненужными фактами: справа церковь Санта-Мария дель Кастелло, при ней – музей, при музее – бывший церковный дворик, convitto, в котором устраиваются разные детские праздники, за церковью на горе – пустырь с благородными руинами (они мне всегда напоминают последние кадры из фильма «Сказка странствий»), а по другую руку возвышается строгий фасад Дома Паганини. Сразу за ним – средневековая темная арка, под ней – полукруглая длинная лестница, ведущая вниз, а дальше уже целая путаница лестниц, расходящихся во всех направлениях среди башен, домов, перестроенных из старых крепостных стен, террас, садов и площадей. Но я, кажется, отвлеклась.
Итак, про моих любимых генуэзцев обычно говорят, что они ужасно замкнуты, неприветливы и скупы. И в некотором роде это правда. Действительно, если сравнивать жителей, скажем, Рима с жителями Генуи, то на фоне римлян генуэзцы действительно покажутся, мягко говоря, необщительными. Только вот фокус в том, что генуэзская общительность – для них самих уже граница допустимого. Даже и не граница, а нейтральная полоса с цветами, то есть за границы допустимого мы уже вышли, а дальше идти будет прямым самоубийством. А такому неврастенику, как я, остается только благодарить Бога за то, что хоть мне и попался в мужья итальянец, – он живет в Генуе, вместе с полумиллионом страшно замкнутых и необщительных, на взгляд остальных итальянцев, генуэзцев.
Но если генуэзская необщительность – величина относительная, то есть может быть признана таковой только в сравнении с общительностью других жителей Апеннинского полуострова, то генуэзская скупость могла бы стать мировым эталоном. Она – не относительна, она абсолютна, самодостаточна и совершенна. Генуэзцы своей бережливостью очень гордятся и сами о ней с удовольствием рассказывают. Вот, например, анекдот о знаменитом соусе песто. Его делают из листиков специального, генуэзского зеленого базилика с добавлением кедровых орешков, сыра пармезан, твердого овечьего сыра, чеснока и оливкового масла. Но все-таки главный ингредиент – очень нежный базилик с маленькими ярко-зелеными листиками, который растет только в Лигурии. Настоящие генуэзцы стараются поэтому на балконе выращивать не цветы, а базилик. Ведь лучше, чем свой, не может быть, верно? Так вот, одна генуэзская старушка рассказывала мне, в чем секрет соуса по-генуэзски, а то взяли, говорит, моду каких-то шеф-поваров по телевизору показывать, а что они понимают в нашей национальной кухне? А я вот вам расскажу, как еще наши бабушки делали. Сначала, говорит эта синьора, надо взять все ингредиенты, кроме базилика, да и начать все растирать в ступке (забыла сказать, нельзя растирать все в кухонном комбайне – или по крайней мере нельзя в этом признаваться! – надо иметь специальную мраморную ступку и в ней толочь все пестиком). Так вот, толчет себе настоящая генуэзская женщина кедровые орешки с сыром в ступке, толчет и все поглядывает на базилик на балконе. Пока все растолчется, глядишь, у базилика листики и подрастут чуток. Ну хоть на полмиллиметра, да побольше съедим.
Другая замечательная исторая – наша фамильная. У нашей бабушки, когда она только переехала в Геную из Милана, появилась подружка-соседка, которая время от времени заходила поболтать. Она заходила, оставалась в небольшой темной прихожей, отказывалась проходить дальше, наша бабушка зажигала свет, но через пару секунд истинная генуэзка говорила: «Синьора, что же это мы свет понапрасну расходуем, может, выключим?»
Наша нонна, с присущим ей спокойствием, отвечала: «Нет, ну что вы, мы же ничего не будем видеть». Соседка еще пару минут пыталась болтать, потом решительно выключала свет в прихожей своей новой соседки, говоря: «Ну, мы друг друга уже увидели, верно?»
И продолжала болтать в темноте.
По правде говоря, даже про моего замечательного мужа первым делом мне насплетничали знакомые барышни (родом из Специи, а не из Генуи), что «бумажник у него на резиночке». Я даже переспросила: что-что? В каком это смысле – portafoglio al elastico? Слова были мне понятны, но смысл сказанного как-то совсем не вязался с Сандро. «Да, он, конечно, хороший парень, – поспешила оправдаться сплетница, – но бумажник у него на резиночке, как и у всех генуэзцев. Он его только потянет наружу, а бумажник – тонг! – и скрывается обратно в кармане. Не иначе как на резинке привязан». Я решила промолчать. Может, эта барышня на моего мужа, пардон, на тот момент еще жениха, какие виды имела, тогда, наверное, нетактично было рассказывать, что он, уходя даже на час по делам, обязательно оставляет мне свою кредитную карту, несмотря на самые мои энергичные протесты. Зачем ее расстраивать, подумала я. Но со временем поняла, что в концепцию генуэзской скупости очень органично укладывается идея долгосрочных капиталовложений.
Жители Генуи искренне считают, что покупка маек «Ла Кост» и «Фред Перри» – это серьезная экономия семейного бюджета. Знаете почему? Потому что майки эти вечные – не линяют, на вытягиваются и не рвутся, так мне объяснял модный тридцатилетний интеллектуал, одетый в рубашку-поло, купленную ему на шестнадцатилетие.
Да что я все про мелочи какие-то говорю. Это же они, генуэзцы, снаряжали Крестовые походы и экспедиции по исследованию новых земель, они устроили у себя первые в мире банки в современном понимании этого слова, а потом еще и продавали – и очень выгодно – новейшие банковские технологии англичанам. Интересно еще и то, что обретенный в Крестовых походах флаг святого Георгия (касный крест на белом поле) они сумели использовать по максимуму: сначала назвали именем святого Георгия все самое важное у себя дома – первый банк, например, Палаццо Сан-Джорджо до сих пор стоит между Старым портом и Банковской площадью, потом отправились расширять границы республики под флагом святого Георгия, а потом еще и очень удачно сам флаг святого Георгия продали все тем же англичанам.
Последнее я услышала от англичанина и сначала даже проверять боялась, а ну как, думаю, врет легенда… ан нет, все так и было: в 1190 году Англия официально испросила у дожа Генуэзской республики для своих судов право ходить под генуэзским флагом – уж больно в Средиземном и Черном морях корсары шалили. А вот генуэзцев корсары не трогали – ушлые генуэзцы сумели и с пиратами договориться. По легенде, рассказанной мне англичанином, генуэзцев английский король, конечно, не о флаге просил, а просил свести как-то с пиратами, помочь договориться. Но генуэзцы решили, что им свои контакты сдавать невыгодно, и предложили англичанам ходить под своим флагом «за определенный годовой взнос». Другими словами, зачем платить пиратам, ходите под нашим флагом, платите нам за «крышу», то есть за флаг. Английский король поскрипел, конечно, зубами, но согласился. Заодно и Англия обрела свой флаг. Генуэзский.
И в Крыму генуэзцы так прочно обосновались когда-то именно благодаря своему умению договариваться. Пока их вечные соперники венецианцы махали саблями и мечами, генуэзцы договорились с татарами о долгосрочной аренде побережья. Татары вообще-то не очень понимали, зачем нужно море – вода в нем соленая, кони такую воду пить не могут… но если уж кому охота оплатить на пару сотен лет вперед аренду ключевых точек Черноморского побережья – пусть платят, что мы, дураки, что ли, отказываться… Так что умение вовремя вложить капитал в прибыльное дело никак не противоречит идее сбережения и приумножения денег.
В разных мелочах это проявляется и сегодня – я, например, обожаю генуэзскую традицию к аперитивам в барах бесплатно выставлять закуски. В больших количествах причем. С точки зрения коммерции это очень выгодно. Вот в других регионах Италии выпьют люди по стаканчику, кинут в рот пригоршню сиротливых орешков и побегут ужинать. А у Генуе, да под закусочку, да с фокаччей, да с маслинами, да с бутербродиками, да с соусами, да с овощами и фруктами – как сядут за аперитивы в семь вечера, еще по одной, да еще по одной – так до одиннадцати и не встают. Вот и угадайте, какой бар больше заработает – тот, что выставил клиентам миниатюрную чашечку с арахисом, или тот, который невостребованную утром фокаччу красиво нарезал и подал вечерним клиентам? Тем более что и бежать генуэзцам некуда, да и неохота. Денег они своих еще пятьсот лет назад заработали, за покупками им тоже не надо – их свитерки или маечки, купленные двадцать лет назад, до сих пор имеют достойный вид. Так почему бы и не посидеть в свое удовольствие с друзьями, не выпить вина теплым вечером с друзьями? А если сегодня они заплатят за друзей, значит, завтра друзья заплатят за них.
Инвестиции моего мужа тоже оказались вполне долговременными (он обычно говорит, что еще и удачными, но тут уж не мне судить). Живу я себе среди необщительных скупердяев уже который год и даже не представляю, как это я раньше без них жила. Даже экономить научилась. По-генуэзски. Базилик – тот даже на дачу привезла. Теперь у меня заодно и мама будет учиться толочь в ступке дополнительные ингредиенты и поглядывать, насколько миллиметров подрастут листочки.
Развесистая клюква
Об экспорте национальной культуры
Почему-то получилось так, что все время я писала о практической стороне жизни в Италии, как бы о материальной культуре, хотя самым значительным моим открытием была культура нематериальная – и в первую очередь музыкальная. Я как-то раньше себе представляла итальянскую современную музыку как один гигантский, размазанный по всему Апеннинскому полуострову фестиваль Сан-Ремо, и то, что доносилось до меня по радио, неизменно это представление подтверждало. Видимо, мало кто силен в экспорте своей музыки – кроме англосаксов, разумеется. И то сказать, даже если мы вдруг учредим еще один национальный проект по экспорту какого-нибудь национального музыкального достояния, чего мы сможем добиться? А ничего, потому что все песни, в которых есть хоть какой-нибудь смысл, нуждаются в переводе. Марина Влади уже сколько лет работает с наследием своего гениального мужа – и очень, кстати, хорошо работает. В Италии вышел диск под названием Il Volo di Volodya («Полет Володи») – просто замечательный альбом. Для его создания она пригласила лучших музыкантов и исполнителей, некоторые включили потом песни Высоцкого в свои альбомы и концерты. И переводы, что немаловажно, были сделаны прекрасно, и вообще все получилось отлично. Ну и что? Много ли итальянцев теперь знают Высоцкого? Нет, конечно. И очень жаль.
С оперой – ровно наоборот. Я бы сейчас многое отдала, чтобы понимать текст великих итальянских опер в той мере, в какой они излагаются в либретто. Но теперь все эти глупые, фальшивые, помпезные тексты просто ввинчиваются в мои мозги, совершенно отравляя удовольствие от музыки Беллини, Россини и Верди. Н-да, во многая знания многая печали.
Зато в моей жизни появились песни Васко Росси, Джорджо Габера, Паоло Конте, Ивано Фоссати и конечно же и особенно – Фабрицио Де Андре. Писать о них бессмысленно, их надо слушать и понимать, и с того момента, как я начала понимать, вы не поверите, мне даже как-то страшно стало, что могла бы и всю жизнь прожить и думать, что итальянская музыка – это бесконечная череда разных Тото Кутуньо.
С литературой еще драматичнее. Я ведь серьезно рисковала никогда не познакомиться с книгами Итало Кальвино. В Италии это абсолютный must, что я выяснила очень быстро, и тут же обнаружила, что Кальвино переведен и издан в России, но тем не менее я на него никогда раньше не попадала. Итальянисты, конечно, мне попеняли за дикость, но как-то так снисходительно, с оттенком понимания. Тогда, чтобы окончательно уяснить, насколько важное место занимает Кальвино в итальянской литературе, я бросилась спрашивать об этом итальянцев. И немедленно убедилась, что очень важное. Но насколько, насколько? «Вот, например, Умберто Эко и Итало Кальвино – величины сопоставимые?» – наконец-то додумалась я до точки отсчета. Постановка вопроса была явно некорректной, тем более что мучила я своими вопросами не филологов, а рядовых читателей. Про то, что филологи думают, можно и в учебнике по литературе прочитать, а мне было интересно, какую градацию выстраивает для себя обычная читающая публика. Общий смысл их ответов можно было свести к одному: «Ну, когда Умберто Эко не станет (дай Бог, ему, конечно, долгой жизни), то, может, и действительно он станет сравним с Кальвино».
Чтобы убедительно проиллюстрировать мою мысль, нужны какие-нибудь статистические данные. У меня их нет, и я понимаю, что ссылки на знакомых и друзей несерьезны, но тем не менее у меня есть четкое ощущение, что культурные вехи при переносе с одной почвы на другую перестают быть вехами и не могут более служить четкими ориентирами на зыбком поле культуры и искусства.
Вполне понятно, что и свое погружение в итальянское кино я начала, ступая на твердую и хорошо знакомую мне почву знаменитого итальянского неореализма – можно ли было устоять против искушения пересмотреть фильмы-легенды в оригинале? Как и следовало ожидать, я обнаружила целый кладезь информации для лингвиста-неофита. Ни в коем случае я не могу пожаловаться на переводы, нет-нет. Но в оригинальном звучании эти фильмы дают такой богатый спектр диалектальных оттенков и полутонов, что я очень надолго закопалась в фильмы Феллини, Висконти и Пазолини. Дальше пошли всенародно любимые итальянские фильмы, которые здесь называют «классикой» (хотя правильнее было бы сказать «культовые», или cult), от которых я получила огромное удовольствие. «Новый кинотеатр Парадизо» Джузеппе Торнаторе, «Ночь святого Лоренцо» братьев Тавиани, «Marrakech express» Габриэля Сальватореса и много, много других – более чем достойных, которые помимо чистой радости принесли мне и легкое сожаление о том, что наша «классика» – подчас даже смешные в своей наивности, но все-таки очень важные для нас советские фильмы, так и останутся совершенно неизвестными для западной публики. Главный русский режиссер, которого все знают, – это, конечно, самый русский из всех русских Никита Михалков – отчасти потому, что в его фильме «Очи черные» снимался Марчелло Мастроянни. Но как бы мне хотелось, чтобы помимо михалковской версии загадочной русской души за пределы России просачивались и другие версии. Да в конце концов и бог с ней, с душой, но вот что интересно: почему в процессе международного обмена между высоким искусством и развесистой клюквой всегда зияет такая гигантская дыра? Наверняка и даже совершенно точно в России люди, занимающиеся кино, знают Сальватореса и Торнаторе, так же как и здесь знают… ну, допустим, Серебренникова и Звягинцева.
На другом полюсе будет какой-нибудь удивительный «Волкодав» и… или итальянская кинематографическая клюква не доходит до русского кинопроката? Ну, может, оно и к лучшему. Я имела в виду дешевый интертеймент. Так или иначе, но он тоже прокатывается широкой волной по городам и странам. А нечто среднее – не по качеству, а по жанру – то есть все, что стоит между высокоинтеллектуальным фестивальным кино и блокбастерами, оказывается вне оборота? Впрочем, что я спрашиваю, я же все знаю про формат и неформат. Но сколько было радости у моих студентов, когда они нашли на ютьюбе нарезанный на мелкие кусочки и снабженный английскими субтитрами фильм «Москва слезам не верит»! Прыгали вокруг меня, как дети, и требовали еще. Всю ночь, говорят, смеялись и плакали и снова будем смотреть.
Ну что ж, ежели вместо сакраментальных «доколе?», «что делать?» и «кто виноват?» можно просто сказать спасибо мастерам-умельцам из ютьюба – уже хорошо. Вот кому надо давать гранты и премии от государства за пропаганду русской культуры за рубежом. Впрочем, как только начнут распределять гранты, боюсь, снова попрет такая клюква, с таким Михалковым, что даже всетерпящему ютьюбу жарко станет. Нет, уж лучше без премий, на чистом энтузиазме, но зато от чистой души.
Жена Ансельма
Об одной из песен Фабрицио Де Андре
У Фабрицио Де Андре есть песня под названием «Дольченера» (буквально: «сладкая черная», а вообще переводов и определений по нашему запросу не найдено). Песня с его последнего альбома, в котором, как и во многих последних альбомах, весомость сказанного, как говорят математики, стремится к бесконечности. В песенке – незамысловатая по сюжету история о вышедшей из берегов реке (она и есть дольче и нера – почему нера, понятно, а дольче – потому что пресная вода называется «дольче» в противовес к «салата», то есть соленой) и жене Ансельма, которая зашла погостить на часок, и…
- …e l’amore ha l’amore come solo argomento
- e il tumulto del cielo ha sbagliato momento.
- … у любви всего один довод – любовь,
- а смятение неба лишь ошиблось моментом.
Жена Ансельма – это тебе не жена Лота, например. Жена Ансельма – это просто чужая жена, какого-то никому не нужного и неинтересного Ансельма, у которого, видимо, кроме имени (и жены) ничего и нет. Но ведь поди ж ты… ведь большая часть мира заселена такими вот ансельмами, а у нас у всех есть свои жены ансельмов. Больше того, они даже и не наши, а, как было указано с самого начала, Ансельмовы. И вся функция Ансельмовых жен сводится к тому, чтобы мы их хотели. Хотели так, как только в детстве можно хотеть луну с неба или петушка на палочке. Чтобы вынь и положь. И чтобы немедленно. И никакого после обеда или завтра, а уж тем более на Новый год. Это что-то такое, что надо хотеть как в первый или в последний раз в жизни, чтобы свет мерк и дыхание останавливалось. И в тот момент, когда мы это получаем… вот тут-то и наступает знакомое больше по литературе, чем по личному опыту, мгновение, когда можно смело сказать Небу о том, что оно ошиблось, что его, Небесные, планы ни в какие ворота не лезут, потому что у меня здесь и сейчас наконец-то есть Ансельмова жена, и плевал я не только на эту самую заповедь про чужих жен, но даже и на то, что ты, Небо, сейчас можешь рухнуть, потому что это и есть моя луна с неба, мое «остановись, мгновенье, ты прекрасно» и «меня выпьет Грей, когда будет в раю», и…
Но вот что интересно, кажется мне теперь – или меня божественный Де Андре навел на эту мысль? – дело-то не в том, чтобы получить заветный леденец на палочке, а в том, чтобы дожить до того дня, когда можно обратить лицо к Небу и сказать: ты ошиблось. Я точно знаю, что я делаю, и что это совсем не момент Всемирного потопа, как ты думаешь, плевал я на твой Всемирный потоп, потому что у меня есть жена Ансельма, ибо к чему вообще все, если оно не приводит тебя к диалогу с Небом?
В общем, практически все я про жизнь теперь поняла, кроме того, как же тогда живут атеисты и агностики, если им не надо ничего доказывать Небу?
И что такого должно быть в Ансельмовых женах (если вы понимаете меня), чтобы в одну секунду с легким сердцем противопоставить правоту земную правоте небесной?
И снова – Тоскана
Вдали от туристических троп
Основная тема последних лет – это неожиданные открытия. Например, недавно я окончательно поняла, что всякий туризм бессмыслен и что с первого раза разглядеть ничего нельзя. С первого раза вообще что-либо распробовать сложно. До сих пор помню, как я некультурно выплюнула первую в жизни оливку – так возмутительно не соответствовал ее вкус ожиданиям, которые рождала эта восхитительная округлость и сочная синева. Мне было пять лет, но я хорошо помню.
С Тосканой все проще. Она настолько хрестоматийна, что сразу знаешь, чего от нее ожидать, еще Бунин писал, как ему надоел Данте в своем бабьем шлыке и русские провинциальные баре, разглагольствующие про Кватроченто. Возрождение, Медичи, Макиавелли, Леонардо, апогей международного туризма во Флоренции и просто богатые англичане, наводнившие ее окрестности. Все кишит как муравейник. Какое-то непрерывное броуновское движение, отдающееся звоном в ушах и зудом в конечностях. А мы, бедные, ездим в эту самую Тоскану довольно часто – раза два-три в год, практически как культурные люди на дачу в какой-нибудь средней полосе. В шезлонге покачаться, по окрестностям пройтись, закатом полюбоваться, нарезать букет одичавших цветов, проредить заросли мяты около туалета (пригодится для мохито) – и домой, к работе и цивилизации.
А в этот раз просто чудо случилось, никак иначе не объяснишь. То ли гул сам собой стих, то ли мы к нему наконец-то притерпелись, то ли попросту догадались к Флоренции даже близко не подъезжать. Все с самого начала разворачивалось как скатерть-самобранка для не верящего в чудеса младшего научного сотрудника: начало осени, прозрачное небо, солнце, краски, листья, ветер, путешествие… Простые вещи, предстающие в своем истинном обличье.
Как в хорошем полузабытом фильме: смотришь и не узнаешь. Сначала сквозь горы наши лигурийские, выныривая из тоннеля, только чтобы жадно вобрать в себя, как воздух, ослепительную солнечную картинку и снова нырнуть в глубь следующей горы… Потом горы отступили влево, бесстрашно показывая свое вывороченное нутро в окрестностях Каррары, и долго еще после Каррары вдоль автотрассы виднелись ровные ряды одинаковых кубиков каррарского мрамора, сложенные вокруг игрушечных подъемных кранов и коробочек складских помещений. Промелькнула и пропала из виду деревушка Винчи – поразительно, даже съезда с автострады в этом месте нет, только аккуратная синяя табличка. Ну и в конце концов Тоскана – страна сказок. Холмы, пинии, замки, виноградники, оливковые рощи. Оливы даже в солнечном свете блистают совершенно серебряными листьями, интересно, какие же они тогда в лунном свете – может быть, золотые?
Наш друг Валерио (в конце письма поставить Vale – так его мой муж и зовет: Вале) живет в двухэтажном средневековом доме, вокруг – десяток таких же домишек, непрезентабельных снаружи, но удобных и поместительных внутри, теснящихся вокруг замка Поппьяно. Группка домов и единственная улочка длиной в тридцать метров тоже называется Поппьяно. На соседнем холме – еще один замок, Монтеспертоли, от Монтеспертоли направо – еще один замок, потом еще… Я так и вижу какого-нибудь средневекового рыцаря, не спеша переезжающего с холма на холм на своей благородной кляче. Погостит в одном замке с неделю, откормится, отоспится, отработает славными рассказами о походах и сражениях, побряцает струной, оседлает снова свою благородную клячу – и дальше, к следующему замку – благо недалеко ехать.
Сандро шутит, что греки две тысячи лет назад сделали практически все возможное для современной цивилизации, а потом застыли – вот так (демонстрируется поза знаменитого дискобола) еще на две тысячи лет. Тоскана застыла, взрастив на своих холмах Ринашименто, ездить по ней на машине бессмысленно, намозолившие глаза замки мелькают, как верстовые столбы, оживление вокруг супермаркета (единственного на двадцать верст) кажется нездоровым, и только у камелька в здоровенной кухне-столовой с видом на сад, озеро и очередной замок вдали успокаиваешься и перестаешь думать о тщете всего сущего. Какая уж тут тщета, когда местный пейзаж тебя практически приобщает к бессмертию. Ни суеты, ни спешки, ни времени нет, а значит, и смерти тоже нет. Есть только солнце, краски, холмы, пинии, кипарисы и ты со стаканом кьянти в руке и куском пресного хлеба, застрявшего на зубах, уподобленный точке в пространстве на равных правах с улиткой, ползущей по ножке стола.
100 дней счастья
От перемены мест слагаемых…
Наш дом похож на небольшой кораблик. Все в нем миниатюрно и компактно. Окна, самых разных форм и размеров, смотрят на четыре стороны света. Летом его продувает всеми ветрами, а зимой, прозрачной итальянской зимой, мы прячемся за этими окнами от резких ударов трамонтаны и задергиваем шторы, чтобы пронзительная синева неба за окнами не резала нам глаза. Иногда нас заливает сплошными потоками воды, и тогда уж иллюзия корабля оказывается полной. А мы все себе плывем, плывем куда-то…