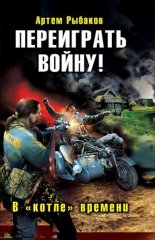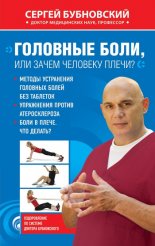Прокляты и убиты Астафьев Виктор
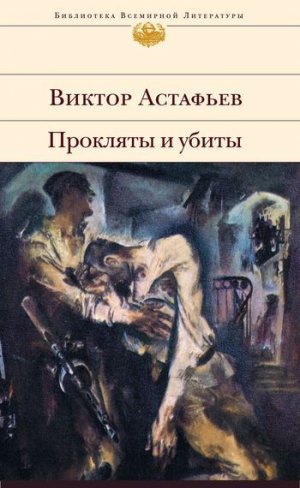
– Где жа я те курево-то возьму, Олеха?
– Не мое дело! Ты – командир. Обеспечь! Пользуясь замешательством, возникшим на ближней огневой точке противника, ручей перебежало несколько человек. Треск и скрип слышно было – вроде бы как крутилась связистская катушка. Человек бухнулся в нишу к майору.
– Мансуров?
– Я. Жив. Все живы. Вы, товарищ майор, как? – увидев, что майор поднят повыше, лежит в норе на полынной подстилке и в сухой шинели, Мансуров удовлетворенно произнес: – Добро! Вот это добро! – Сам же, повозившись на земле, по-деловому уже доложил: – Товарищ майор, связь с командиром полка установлена. Пехота дала конец. И еще я прикрытие привел, небольшое, правда…
– Да! – вскинулся майор Зарубин, забыв, что он в норе, и ударившись об осыпающийся потолок, толкнулся боком во что-то твердое, от боли все померкнуло у него в глазах.
Мансуров, стоя с протянутой трубкой, нашарил майора в норке.
– Да лежите вы, лежите. Полковник ждет. Майор принял холодными, дрожащими пальцами железную трубку с деревянной ручкой и на лету, на ходу уяснил: старый трофейный аппарат, – и, прежде чем нажать на клапан, прокашлялся и с неловкой мужицкой хрипотцой начал:
– Ну, Мансуров! Ну, дорогой Иван, если выживем…
– Да что там? – отмахнулся Мансуров, – скорее говорите.
Полковник Бескапустин, как выяснилось, был от ручья не так уж и далеко, и от немцев близко – метрах в двухстах всего. Сплошной линии обороны нет, да в этих оврагах ее и не будет. Сперва немцы забрасывали штаб гранатами. Комполка с остатками штаба устроился на глиняном уступе – и Бог миловал – ни одной гранаты на уступ не залетело, все скатываются на дно оврага, там и рвутся. Но по оврагам валом валит переплавляющееся войско, немцы боятся застрять на берегу, остаться в тылу, отходят – к утру будет легче.
– Словом, медведя поймали. Надо бы шкуру делить, да он не пускает, – мрачно пошутил комполка Бескапустин.
Майор Зарубин доложил о себе. Оказалось, что находится он с артиллеристами и подсоединившимися к ним пехотинцами, если смотреть от реки, – на самом краю правого фланга плацдарма и, вероятно, его-то правый фланг в первую очередь и шуранут немцы – чтобы не дать расширяться плацдарму за речку Черевинку. Пехоту же, просачивающуюся по оврагам, немцы всерьез не принимают, знают, что с боеприпасами там жидко, и вообще, немцы, кажется, собою довольны – считают переправу сорванной и скинуть в воду жиденькие соединения русских собираются, как только отдохнут-передохнут.
– А нам бы баркас, барка-ас к берегу просунуть! – простонал Бескапустин. – В нем наше спасение. Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно.
– Ваш сержант Бога молит о тумане, коммунист, между прочим, и потому его молитва действенна.
– Ой, майор, майор, шуточки твои… Как бы тебя на ту сторону отправить?
– Это исключено. У меня в полку нет заместителя, я сам заместитель. Да и плыть не на чем. Говорите наметки на карте. Сигналы ракет те же? Я должен знать, где сейчас наши.
Бескапустин передал данные, в заключение фукнул носом:
– Как это не на чем плыть? У вас же лодка!
– О, Господи! Лодка! Посмотрели бы на нее…
– А, между прочим, почти все наши славяне о ней знают – это такая им моральная поддержка.
– Ладно, полковник. Как Щусь? Как его группа?
– Там все в порядке. Там задача выполняется четко. В это время в том месте, откуда говорил полковник Бескапустин, поднялась пальба, сыпучая, автоматная. Но щелкали и из пистолета, ахнул карабин.
– Стоп! Не стрелять! Что за банда? – забыв отпустить клапан трубки телефона, заорал Бескапустин, – фашистов тешите? Темно! Темно! А нам светло?! Докладывайте!
Телефон замолк. Не отпуская трубки от уха, майор попросил развернуть ему карту и посветить фонариком. И хотя свет фонарика только мелькнул, тут же на берег с шипением и воем прилетело несколько мелких мин, часть из них разорвалась в воде, пара, по-поросячьи взвизгнув, жахнула на камнях, и какому-то стрелку до крови рассекло лицо каменной крошкой, работать-то все равно надо было.
– Осторожнее с огнем, робяты! – предупредил Финифатьев. – Не сердите уж его, окаянного. Он и без того злобнее крысы…
Неловко ворочаясь в щели, тыча пляшущим циркулем в намокшую карту, майор производил расчеты. Мансуров с тревогой наблюдал, как подсыхает, вроде бы меньше делается лицо майора, под глазами, над верхней губой и у ноздрей, на лице уже и земля выступает.
«Пропадает Александр Васильевич… пропадет, если застрянем здесь…»
Набросав цифры расчетов на розовенькой, тоже мокрой бумажке, майор бессильно отвалился на земляную стену щекой.
– Вызывай наших, Мансуров. Я пока отдышусь маленько.
Но, удивительное дело, как только майор заговорил с начальником штаба полка Понайотовым, начал передавать координаты, делать наметки переднего края, голос его окреп, все команды были кратки, деловиты, веками отработанные артиллерией, и после, когда Зарубин говорил с командирами батарей своего полка и с командирами девятой бригады, заказывая артналет на утро, чтобы под прикрытием его утащить с отмели баркас, то и вовсе не угадать было, что он едва живой. Но комбриг девятой хорошо знал Зарубина и, когда кончился официальный разговор, спросил:
– Тяжело тебе, Александр Васильевич?
Майор Зарубин насупился, запокашливал:
– Всем здесь тяжело. Извините, мне срочно с хозяином надо связаться. Чего-то у них там стряслось…
– Все мы тут не спим, все переживаем за вас.
Командир девятой бригады не был сентиментальным человеком, на нежности вообще не гораздый, и если уж повело его на такое…
– Спасибо, спасибо! – перебил комбрига Зарубин. – Всем спасибо! Если бы не артиллерия… – майор знал, что во всех дивизионах, на всех батареях сейчас телефонисты сняли трубки с голов, нажали на клапаны: все бойцы и командиры бригады слушали с плацдарма тихий голос заместителя командира артполка, радуясь, что он жив, что живы хоть и не все, артиллеристы-управленцы исправно ведут свое дело, держатся за клочок родной земли за рекой, с которого, может быть, и начнется окончательный разгром врага. Если он тут не удержится, то негде ему зацепиться, до самой до Польши, до реки Вислы не будет больше таких могучих водных преград.
– Слушай! – возбужденно закричал Бескапустин Зарубину. – Все ты, в общем, правильно наметил, остальное уточним утром. Сейчас главное – не бродить и по своим не стрелять. Твои художники-пушкари напали тут на нас! И чуть не перестреляли…
– Какие пушкари?
– Да твои. Они, брат, навоевались досыта, у немцев в тылу были, все тебя искали. Во, нюх! Один из них как узнал, где ты и что ранен, чуть было не зарыдал…
Ох и не любил майор Зарубин весельчаков и говорунов, да еще когда не к разу и не к месту. Происходя из володимирских богомазов, обожал все вокруг тихое, сосредоточенное, благостное и оттого не совсем вежливо оборвал полковника:
– Дайте, пожалуйста, старшего.
– Даю, даю. Вон руку тянет, дрожмя дрожит, художник. Больше фашиста тебя боится.
«Да что это с ним? – снова поморщился майор Зарубин, слушая трескотню комполка, – отчего это он взвинчен так? Уж не беду ли чует?»
– Товарищ майор! – ликующим голосом, твердо напирая на «щ», закричал лейтенант Боровиков – командир взвода управления артполка, правая рука майора. – А мы думали…
– Меня мало интересует, что вы там думали, – сухо заметил Зарубин, – немедленно явиться сюда! Вычислитель жив?
– Жив, жив! А мы, понимаешь, ищем, ищем…
– Прекратить болтовню, берегом к устью речки! Бегом! Слышите – бегом! И не палите – здесь везде народ.
– Есть! Есть, товарищ майор!
«Ишь, восторженный беглец! – усмехнулся майор, и внутри у него потеплело. – Так радехонек, что и строгости не чует…» – Навстречу артиллеристам был выслан все тот же неизносимый, верткий и башковитый вояка Мансуров. – «Чего доброго, попадут не под немецкий, так под наш пулемет…»
– Искать штаб полка надо с берега. Заходите в устье каждого оврага. Далеко от берега штаб уйти не должен – времени не было, да и на немцев в оврагах немудрено нарваться.
«Резонно!» – хотел поддержать майора Мансуров. Майор, видать, забыл, что сержант побывал уже у Бескапустина. Но когда тут разбираться. Втроем они побежали, заныряли от взрывов по берегу, густо и бестолково населенному, – переправлялись все новые и новые подразделения, толкались, искали друг друга, падали под пулями. Артиллерийские снаряды со стороны немцев на берег почти не попадали, большей частью рвались в воде, оплюхивая берег холодными ворохами, грязью и каменьями. Но минометы клали мины сплошь по цели – в людскую гущу.
– Уходите из-под огня в овраги. В овраги уходите! – не выдержав, закричал Мансуров, зверьком скользя под самым навесом яра. И по берегу эхом повторилось: в овраги, в овраги – суда! Суда! – звали верные помощники Мансурова, с ночи к нему прилепившиеся, – вояки они были уже тертые, кричали вновь переправившимся бойцам наметом проходить густо простреливаемые, широкозевые, дымящиеся устья оврагов, в расщелье одного, совсем и неглубокого овражка запали: – суда, суда, товарищ сержант! – позвали и передали из рук в руки телефонный провод. – «Может, немецкий?» – не веря в удачу, засомневался Мансуров.
– Щас узнаем, – прошептал один и, чуть посунувшись, громче позвал: – Эй, постовой! Есть ты тута?
– Е-э-эсь! Да не стреляйте! Не стреляйте! Что это за беда? Со всех сторон все палят. Кто такие?
– Бескапустинцы!
– Тогда валяйте сюда. Да не стреляйте, говорю, перемать вашу! – ворчал в углублении оврага дежурный. – Головы поднять не дают, кроют и кроют… – И дальше, куда-то в притемненный закоулок оврага доложил; – Товарищ полковник, тут снова наши причапали!
День второй
На утре, пока еще не взошло солнце, бескапустинцы волокли по мелкой протоке, можно сказать, по жидкой грязце, продырявленный, щепой ощерившийся баркас. Немцы вслепую били по протоке и по острову из минометов. На острове все еще чадно, удушливо дымилась земля, тлели в золе корешки и кучами желтели треснувшие от огня, изорванные трупы людей.
«О, Господи, Господи!» – занес Финифатьев руку для крестного знамения и не донес, опять вспомнил, что партия не велит ему креститься ни при каких обстоятельствах.
– И экое вот люди с людями утворяют? – угрюмо молвил пожилой солдат Ероха. Он не успел кончить фразу: и баркас, и бригаду солдат-бурлаков накрыло минами из закрепившегося ночью за бугром высоты Сто пламя изрыгнувшего шестиствольного миномета. Бурлаки-солдаты попадали в грязь, под борт баркаса, дождались, пока перестанет шлепаться сверху поднятая в воздух жижа и почти по воздуху понесли полуразбитую посудину, из которой в пробоины лилась мутная вода. В грязи осталось трое только что убитых солдат. Один солдат, катаясь в грязи, пытался звать: «Братцы! Братцы…»
Задернули баркас под яр, передохнули. Допотопной, ослизлой тварью из протоки на берег лез раненый. На камнях сморился. Подтащили его в затень, засунули в пустую земляную ячейку – может, какие санитары подберут. Да что-то не видно санитаров на плацдарме и не слышно никакой медицины. Ни политруков, ни агитаторов, никакой шелупени не видно и не слышно. Бойцы взняли на горбы по ящику с патронами и гранатами, мокрый мешок с хлебом, оставив постового возле баркаса, поволоклись к месторасположению штаба полка. Комполка Авдей Кондратьевич Бескапустин недавно прикорнул, но его разбудили. Узнав о баркасе, обрадовался.
– Скорее, скорее перетаскивать груз, иначе разнюхают, навалятся и все добро растащат. Всякие тут художники отираются. Часть боеприпасов и немного хлеба напрямки к Зарубину.
– А где напарник раненого Ерохи? Родионом, кажись, зовут?
Родька, с разбитым, черно провалившимся ртом, со слипшимися от крови губами, немо откликнулся. Ему обсказали о друге его, Ерохе, и он увязался с командой носить боеприпасы. Вынул Ерофея из норы. Солдат уже начал остывать. Родион обмыл и вытер тряпицей лицо погибшего напарника, руками прикопал его в раскрошенных взрывами комках глины. Почуяв на берегу возню и шлепанье, немцы все плотнее и плотнее к навесу яра пускали мины и, не переставая, лупили в протоку, в мертвый остров. Одной, совсем уж шалой миной взрыхлило и откинуло сухую глину на прикопанном солдате, обнажило грязное, мокрое туловище Ерохи. Родька покачал головой, взвалил на горб угластый ящик с патронами и двинулся следом за удаляющейся командой.
По берегу, где кучно, где вразброс, валялись сотни трупов, иные разорваны в клочья, иные вроде бы прикорнули меж камешков, в щетине осоки. Что тут мог значить один упокоенный солдатик? Он-то уже не знает – похоронен, прибран ли – ничего не чувствует, не ведает, не боится.
x x x
На восходе солнца из тумана выплыла тихая лодка. В ней были две девки: одна на корме с веслом, другая на лопашнах. Лодка пристала в устье речки Черевинки, девки представились; Неля и Фая, приплыли за ранеными. Могут взять пятерых. Велено в первую очередь погрузить майора Зарубина. Приказ самого генерала Лахонина.
– Где он есть, этот Зарубин?
Фая и Неля очень боялись, что из медпункта, развернутого на противоположном берегу, славяне все разворуют, да приказ есть приказ – велено раненого взять, значит, надо брать.
– Здесь я, здесь, – отозвался майор из ниши. – Грузите раненых, девушки, самых тяжелых берите. А я еще ничего, да и замениться некем. Я подожду.
– Ну, как знаете, – сказала Нелька, сидя на корточках под яром, покуривая толсто скрученную цигарку.
У лодки распоряжалась Фая – прибранная, черноглазая девушка в побитых, но все равно красиво облегающих икры сапожках. Возле нее уже хлопотал, помогал не помогал, но балаболил: «У бар бороды не бывает», – Леха Булдаков, однако скоро убедился, что не будет ему здесь успеху, подсел к Нельке:
– Дала бы ты мне закурить, подруга, а то так жрать хочется, аж ночевать негде… – Нелька, наблюдая одним глазом за тем, что делается возле лодки, другим прошлась по Лехе – наглая, широкоротая рожа, нос картофелиной рос да ножкой гриба подосиновика оборотился, еще и молотили на этой роже чего-то, скорее всего бобы. Но что-то есть в этом ухаре и привлекательное, располагающее, да разбираться недосуг. Нелька сунула пластмассовую немецкую коробку с махоркой Булдакову: «Отсыпь», – и объявила, что может взять еще одного человека, если он управится на гребях и заменит ее. Гребцов нашлось более, чем надо, – брели, ползли, ковыляли.
– Нужен мужик покрепче! – властно сказала Нелька и, сдернув с себя плащ-палатку, укрыла ею раненых. Сделалось видно теплую безрукавку, из-под которой торчали погоны с двумя звездочками и кончик побелевшей кожаной кобуры.
«Лейтенант!» – отметил Леха Булдаков и с сожалением вспомнил, что лейтенанта еще никогда в жизни не пробовал и попробует ли, на этом плацдарме положительно не решишь.
– Так, значит, не поплывете, товарищ майор? – занеся ногу над бортом лодки, переспросила Нелька и, услышав что-то неразборчивое, мимоходно бросила: – Ну, как знаете! – и под нос себе: – герой, едрена мать. А ну, кавалер, толкни! – приказала она Булдакову.
«Во, баба! Во, бомбандир!… Ну нету время поближе познакомиться» – наваливаясь на лодку, мотал головой Булдаков.
Как только тяжело груженная лодка зашорохтела по камешнику, из поймы ручья ударил пулемет, да, слава Богу, выше и дальше. Ни Фая на корме, ни Нелька, державшая на коленях раненного в голову лейтенанта, из тех еще, что переправились далеким-далеким днем со взводом, – даже не шевельнулись, не поклонились визгнувшим над ними пулям. Эти девицы видали виды, пережили кое-что и похлеще пулеметного огня.
– Не чеши муде-то, не чеши, – проворчал из-под земли Финифатьев, – девкам плавать да плавать, пулемет мешат. Што как заденет?
– Де-эд, я один на фронте? Хер с им, с тем пулеметом!
– Хер с им, хер с им! А сам перед ей хвост распустил: «У бар бороды не бывает, у бар бороды не бывает…».
– И не зря! Табачком вот разжился! Она б тут на часок обопнулась, дак и ишшо че-нить выпросил бы.
– Ox, ox! Так уж бы вот и выпросил?! Вопше-то про тебя, видать, сказано, хоть ты и беспартейнай: «Нет таких крепостей, каки бы большевики не взяли!» Давай суды табак, в кисет ссыплю. А то выжрешь весь и станешь бычки по берегу собирать.
– Насобираешь тута! Де-эд, в кишках вой – жрать охота.
– А поди, поди по речке, рыбки пособирай, яблочков, пулемет-то попутно и засечешь.
– Де-эд, а убьют.
– Ково-о-о? Тебя? Не смеши-ко ты ие, она и так смешна.
– Де-эд, ково ие-то, поясни.
– Я те, маньдюку, поясню, я те поясню. Рыбки насбираш, сварим, пока туман, у меня сольца припрятана.
– Э-эх, де-эд, дед, никакого в тебе сочувствия. Сплотатор ты, хоть и коммунист. – С этими словами Булдаков, закинув винтовку на плечо, проворно юркнул за выступ яра. Оказавшись в речке Черевинке, зорко огляделся, еще бросок сделал – и никто бы сейчас не узнал в этом, еще минуту назад ваньку валявшем, оболтусе, лениво препиравшемся со своим напарником, того парня, что вроде бы и в росте убавился и кошачьи-гибок, стремителен сделался.
Через полчаса он вернулся, бросил вещмешок к ногам Финифатьева, упал спиной к осыпи, выпустил дух: «У-уффф! Ну, война…»
В мешке Финифатьев обнаружил все ту же падалицу груш и яблок, что реденько выкатывала Черевинка к устью, и сразу тогда бросалось несколько человек за теми яблочками, и не одного человека уж убило. В кармашке рюкзака пригоршни две малявок и усачей было, красноперый голавлик тут выглядел великаном. Среди падалицы обнаружилось даже несколько картофелин, Финифатьев возликовал:
– Олех! А картошки-те где взял? Бог послал, аль по огородам лазал?
– Бог, Бог… Он пошлет!… Ручей этот вершиной задевает край деревни. Бомбами из огородов закинуло плоды. Я подобрал. А пулемет не нашел. Молчит, падлюка! Нажрался и спит, небось. А тут голодный воюй и промышляй, лодка приплывет – палить начнет. Ты вот командир боевой, нет, чтобы шумнуть тута, немца потревожить, залез в землю и бздишь горохом.
– Хорошо бы горохом-то – фриц бы сразу отступил. Финифатьев гоношился под яром, огонек разводил, препирался с Булгаковым – добытчик будь здоров – этакого на всем фронте поискать! Но уж богохульник, но уж грубиян!… «Дак че с ево возьмешь? Он с детства без догляду, родом аж из самой-самой холоднющей Сибири, из Покровки какой-то, где, судя по всему, одни только каторжанцы и арканники живут. Арканники – это самые-самые страшенные смертоубивцы, оне веревку-аркан на человека набросят, на лед, в темь его уволокут, разденут догола и в прорубь спустят… Спаси и помилуй, Господи! Что и за земля, что и за народ? Вот опять Бога всуе помянул. Часто Он тут вспоминается. А эть коммунист, коммунист, будь я проклятой. Ну, да Мусенка поблизости нету, и все вон потихоньку крестятся да шопчут божецкое. Ночью, на воде кого звали-кликали? Мусенка? Партия, спаси! А-а! То-то и оно-то…»
Как только была дана связь из передового батальона, к речке пришел полковник Бескапустин, за ночь покрывшийся колкой щетиной, не отчистившийся еще от грязи, с глазами, провалившимися в черно темнеющие глазницы, толстые губы доброго человека у него обметало красной сыпью.
– Чего же не уплыл-то? – упрекнул комполка Зарубина, тот слабо отмахнулся, ровно сказав: – «Что же вы-то не уплыли? Вам же в госпиталь пора – давно уж созрели».
Уточнили месторасположение батальона Щуся, данные разведки соседних полков и сникли горестно командиры. Выходило: завоевали они, отбили у противника около пяти километров берега в ширину и до километра в глубину. Группа Щуся не в счет, она пока и знаку не должна подавать, где и сколько ее есть. На сие территориальное завоевание потратили доблестные войска десятки тысяч тонн боеприпасов, горючего, не считая урона в людях, – их привыкли и в сводках числить в последнюю очередь – народу в России еще много, сори, мори, истребляй его – все шевелится. А ведь и на левом берегу от бомбежек, артиллерийских снарядов и минометов потери есть, и немалые. По грубым подсчетам, потеряли при переправе тысяч двадцать убитыми, утонувшими, ранеными. Потери и предполагались большие, но не такие все же ошеломляющие.
– И это первый плацдарм на Великой реке. Какова же цена других будет? – выдохнул Авдей Кондратьевич, потянув выгоревшую трубку. Она пусто посипывала. Тут как тут возник Финифатьев, дал командиру полка махорки набить трубку, принес котелок и две ложки. В похлебайке из рыбной мелочи белели картошинки.
– Вот те на! – удивился полковник, – и в самом деле солдат наш суп из топора спроворил! Ты поешь, поешь горяченького, Алексан Васильевич, поешь да и отправляйся в укрытие. Я ел, ел, не беспокойся. И непременно эвакуируйся, непременно. Я думаю, днем нам тут дадут жару!…
– Сегодня не жар, сегодня пар будет, жар с завтрашнего дня начнется, – уверенно объявил Зарубин, здоровым боком припав к котелку, и боясь показаться жадным, все равно частил ложкой, черпал горяченькое от полынного дыма горьковатое варево, впрочем, весьма и весьма наваристое и вкусное.
Лешка Шестаков выкатился из норки, справил нужду под насыпью яра, пригреб за собою песком, вздумал умыться, притащился к воде и заметил, что вся осока глядится розовеньким гребешком, в корнях буро-грязная, осклизлая. Не сразу, но догадался: обсохла закровенелая вода. «Ах ты, ах ты!» – выдохнул Лешка и пригоршнями побросал на лицо воды, колкой от холода, утираясь подолом заголенной рубахи, оглядывал изгиб берега, до островка, сделавшегося совсем плоским, низким: все на нем сшиблено, все выгорело.
Призраками бродили, наклонялись, что-то собирая по урезу воды солдатики – рыбу, щепки? Скорей всего и то, и другое. Снова померещилось что-то знакомое в облике, фигуре ли близко бродившего солдата.
– Феликс? Боярчик?
Солдат приостановился, вглядываясь в окликнувшего его человека.
– Я. А вы кто?
Спустя небольшое время соседи-штрафники, Феликс Боярчик и Тимофей Назарович Сабельников, были гостями войска, занявшего удобную оборону в устье речки Черевинки.
Тимофей Назарович, приговаривая обычное, докторское: «Ну-с, ну-с, молодой человек, посмотрим, что тут у нас?» – перевязывал раненых, вызнавших по солдатскому телеграфу, что именно сюда, к устью речки, приходила санитарная лодка и, может быть, еще придет – вот и скопились здесь.
Осмотрев майора Зарубина и сказав, что опасного пока ничего нет, однако и тянуть нельзя – в полости скапливается жидкость, – Сабельников перевязал его свежими бинтами, не выбросив, однако, и окровавленные, и солдатам не велел выбрасывать – если, мол, бинты прополоскать в холодной воде – пригодятся.
Видя, что в устье Черевинки копошится уж многовато народишку, старший тут на сегодня майор Зарубин велел здоровым солдатам брать лопаты и закапываться, раненых укрывать, потому как только сойдет с реки туман, непременно налетит «рама», все тут высмотрит и вызовет самолеты.
Солдаты не очень споро орудовали лопатами, по звяку лопат о камень заключил майор. Из побережного кустарника бил и бил неугомонный пулемет. Леха Булдаков, работавший в паре со своими ребятами, Шестаковым и Боярчиком, точнее делавший вид, что он работает, говорил сержанту Финифатьеву, что, если тот не засечет фрицевского пулемета, он его окончательно презреет, и добавлял, пугая напарника, – «у бар бороды не бывает», и все жаловался на слабость, на головокружение из-за отсутствия жратвы. Что ему тот супец из малявок? Он на Енисее, когда на «Марии Ульяновой» работал, после загрузки дров тайменя на пуд за раз уписывал, стерляди, да еще чуток подкопченной, да ежели под водочку – так целую связку за один присест.
– Мели, Емеля – твоя неделя! – отмахивался от него Финифатьев.
– Н-ну, Боярчик! Н-ну, Феликс! В штрафной? – все время удивлялся Булдаков на гостя. – Ето, бля, нарошно не придумать! Ето, бля, цельный анекдот. И не охраняют, а?
– А что нас охранять? Зачем? Охрана осталась на левом берегу. Там безопасней.
– Начит, и не охраняют, и не кормют? Так воюй! Во блядство! – Булдаков в который уж раз требовал, чтоб Феликс рассказал, как это он исхитрился загреметь в штрафняк?
– Потом, потом, – мелко моргая и беспрестанно кивая головой, отмахивался Боярчик и, словно удивляясь себе, озадачивая напарников по работе, выдыхал: – Под колесо я попал.
– Под какое колесо?
Шорохов имел свой интерес, прилип к старому человеку с вопросом:
– Скажи, доктор, умная голова, вот дрочить вредно или нет?
– Н-ну, если хочется и есть сила в руках…
– Держи лапу! – Шорохов от всего сердца пожал Сабельникову руку. – А то все везде: кар-кар-кар, кар-кар-кар, вредно и постыдно, вредно и постыдно! А где ж школьнику, солдату и зэку удовлетворение добыть, коли у них для утехи во всей необъятной стране одна шмара – Дунька Кулакова.
– Поразительно! – хмыкнул Сабельников. – Здесь, на плацдарме, этакая странная озабоченность, если только этот тип не придуривается, мы и в самом деле народ непобедимый.
– Он, этот шалопай, я думаю, хотел вас подразнить и публику распотешить, – сказал Боярчик.
– Да уж весельчак… Феликс, вы с женщиной успели полюбиться?
– А? С женщиной? Я с Соней – жена это моя. А-а, почему вы спросили?…
– Да вот видишь, солдат озабочен вопросами секса, все другие – поесть да поспать бы, а он, видите… разнообразия в жизни ищет…
– Этот человек без особых претензий к миру – водка, баба, конвой помилосердней. У меня же одна забота: скорее бы умереть.
– Грех это, юноша, очень большой грех – желать себе смерти.
– А жить во грехе? В содоме? В сраме? Среди иуд?
– Чем же это, юноша, вас так подшибло? Что с вами произошло?
– Почему только со мной? А с вами? А с тысячами. этих вон, – Феликс кивнул на шевелящихся вдоль берега, во взбитой пене мертвецов.
– Ах, юноша, юноша! Зачем вы углубляетесь в такие вопросы? Это губительно для рассудка. Что, если бы мы, доктора, да еще к тому же фронтовые хирурги, сутками роющиеся в человеческом мясе, начали задумываться, анализировать.
– А вы не устали?
– Я не имею права уставать.
– А я вот сломался, разом и навсегда.
– И хочется забыться разом и навсегда?
– Так, именно так.
Сабельников выдохнул протяжно, молчал, не шевелясь.
– Бог и природа предоставили человеку одну-единственную возможность явиться к жизни, и со дня сотворения мира способ его рождения не изменялся. А вот сам человек устремленным своим разумом придумал тысячи способов уничтожить жизнь и достиг в этом такого разнообразия и совершенства! Неужели вам не хочется попробовать обмануть смерть, обойти ее, сделаться хитрее?… Право слово, жизнь стоит того, чтобы за нее побороться.
– За такую вот?
– И за эту. За эпизод жизни, после чего повысится цена и усилится красота настоящей жизни.
– А она есть, настоящая-то?
– Как понимать настоящее. Есть, конечно.
В это время артиллерийский разведчик, понаблюдавший в стереотрубу за надоедливым немецким пулеметом, доложил Зарубину, что в пойме ручья, за поворотом, – не один пулемет, там хорошо и хитро оборудованное гнездо из трех, почти беспрерывно работающих пулеметов. И вообще по Черевинке идет подозрительное оживление. В пойме ее накапливается противник, копает, оборудуется. С тревогой глянув на реку, по которой пулеметы почти беспрестанно выстрачивали длинные швы, Зарубин, сложив карту на песке, прилег на бок. Топограф достал изпод яра планшет – и началась работа, непонятная пехоте, вызывающая у них недоверчивое почтение: чего тут мерять циркулем? Чего чертить? Прицелься из пушки и лупи.
– Ага, лучше всего через дуло, – насмехались высокомерные артиллеристы. – Глянул в дыру и дуй!
Финифатьев, допущенный в ячейку наблюдателей – глянуть хоть разок в «ентот прибор», взвизгивал:
– Все как есть, знатко! Ну все как есть! – И, сраженно утихая, шепотом произнес: фри-ы-ыц! Живой! – и торопливо зачастил: – Олех, Олех, Булдаков! Фриц стоит, курва така, руки в боки и на меня смотрит.
– Н-ну, дед, ну и жопа же ты! – втыкая в землю лопату, заругался Булдаков. – Это тебе работать неохота, навык в парторгах придуриваться. – Но, глянув в стереотрубу, Леха, все на свете видавший, все знавший, тоже сраженно сказал:
– Правда, фриц! Он че, офонарел? Я ж его… Винтовку мне, дед, винтовку…
Но в это время ударили за рекой орудия – и пойму ручья начало месить взрывами, вырывать из нее кусты, ронять ветлы, осыпать остатки грушек и яблочек с кривых деревьев. И в это же время из редеющего тумана приплыла лодка. На корме с веслом сидела Нелька, лопашнами гребли два солдатика, и еще трое военных, держась за борта лодки, опасливо смотрели на приближающийся берег. Четверо бойцов, перепутавших берега во тьме, счастливо не попавших под огонь заградотряда, возвращались в свою часть. Пятым оказался командир огневого взвода десятой батареи, лейтенант Бабинцев – его послали заменить майора Зарубина.
– Старше и умнее никого не нашлось? – раздраженно проворчал Зарубин и торопил Нельку: – Побыстрее, побыстрее, товарищ военфельдшер, загружайтесь, и теперь уж до ночи. Вот-вот налетят самолеты. Бабинцев, остаетесь здесь. Идите к наблюдателям. Окапывайтесь.
Нелька, вместе с бойцами приплавившая два мешка хлеба, полную противогазную сумку махорки и ящик с гранатами, ядовито заметила, так, чтобы слышно было по берегу:
– Старшие все, товарищ майор, очень заняты. Агитируют, постановляют, заседают, планируют, сюда им плыть некогда. – И пошла к лодке в обнимку с раненным в ногу командиром пулеметного взвода. Он мог управляться на лопашнах. Устраивая на беседку раненого, Нелька обернулась и добавила: – Я вас, товарищ майор, следующим рейсом уплавлю. Силком. Неча тыловых пердунов тешить.
Майор Зарубин поморщился: этакое выражение, да еще для женщины, да еще такой симпатичной, пусть и войной подношенной, он воспринимал с удручением.
– Ладно, ладно, видно будет…
Леха же Булдаков, опять ко времени и разу, оказался у лодки, опять навалился на нее, с грохотом и скрипом столкнул, и на этот раз уже жалобно произнес;
– Эй, подруга! Приплавь обутку сорок седьмого размера. Видишь, каков я, – и показал на стоптанные задники ботинок, снятых с убитого солдата. Наполовину всунув ступню в обутки, этот бухтило, как про себя нарекла его Нелька, ковылял по берегу. Говорили, что во время переправы лишился казенной обуви и на первых порах воевал вообще босиком. О том, что сдал под расписку старшине Бикбулатову свои редкостные обутки, Булдаков, на всякий случай, не распространялся – украдут, на такую вещь кто угодно обзарится.
Снаряды непрерывно шелестели над головой, падали в дымом наполнившийся распадок Черевинки. Пулеметы не работали, и, праздно положив кормовое весло на колени, Нелька какое-то время не гребла, сплывая по течению.
– Ладно, земеля, – отчетливо молвила она. – Добуду я тебе прохаря по лапе.
– И выпить, и пожрать!
– Поплыла я, поплыла, а то еще чего-нибудь попросишь! – засмеялась Нелька, разворачивая лодку носом на течение.
Среди возвращенных с левого берега бойцов, вялых, молчаливых, подавленных, один оказался из отделения связи щусевского батальона. Звали его Пашей. Родион ему обрадовался и сказал, что это напарник его, старший телефонист, и пущай им разрешат сходить к острову, похоронить как следует Ерофея.
Но налетели самолеты, пошли на круг, через реку, выставив лапищи, так вот вроде и готовые тебя сцапать за шкирку, поднять кверху, тряхнуть и бросить. Небо, едва просвеченное солнцем, продирающимся сквозь полог копоти и пыли, наполнилось гулом моторов, трещаньем пулеметов и аханьем зениток. Бомбежка была пробная, скоротечная и малоубойная. Ни одного самолета зенитки не сбили, и народ ругался повсюду: столько боеприпасов без толку сожгли! На берег бомб упало совсем мало, но в реку и в глубь берега валилось бомб изрядно. Несколько штук угодило гостинцем к немцам – фрицы обиженно защелкали красными ракетами, обозначая свое местонахождение.
Майор Зарубин подумал: со временем немцы сообразят бомбить плацдарм, заходя не с реки, а пикируя вдоль берега, вот тогда начнется страшное дело – обваливающимся яром будет давить людей, будто мышат в норках.
Трупы на берегу, которые зарыло, которые грязью и водой заплескало, иные воздушной волной откатило в реку, одежонку, какая была, поснимали с мертвых живые. Мертвые, кто в кальсонах, кто в драной рубахе, кто и нагишом валялись по земле, полоскались в воде. С лица Ерофея снесло платочек, в глазницы и в приоткрытый рот насыпалось ему земного праху. Раздеть его донага не успели или не захотели – грязен больно, ботинки, однако, сняли. Что ж делать-то? Полно народу на плацдарме разутого, раздетого, надо как-то прибирать себя, утепляться. По фронту ходила, точнее кралась тайно, жуткая песня:
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Нам еще наступать предстоит…
Щель выкопали неглубокую, но зато нарвали травы и устелили ее дно. Родион в комках глины нашел лоскуток, которым пользовался как носовым платком, снова закрыл им лицо товарища, с которым они за ночь пережили несколько смертей. И вот: один живет дальше, или существует, другой успокоился. И, пожалуй, ладно сделал. Не больно ему теперь, не страшно, ни перед кем не виноват.
Родион и Ерофей сошлись, как и большинство солдат сходилось, – в паре на котелок. Еще в призывной команде сошлись и определены были в учебной роте во взвод связи. Так назначено было старшими, сами-то они ничего не выбирали, ничем и никем не распоряжались. Подходил командир, тыкал пальцем в грудь; ты – туда, ты – сюда – вся недолга. Ерофей был из смоленских, почти уж белорусских мест, мешался у него говор. Его беззлобно передразнивали: «Бульба дробна, а дурак большой». Родион из вятских, мастеровых, и его тоже передразнивали: «Ложку-те, едрена-те, взял ли драчону-те хлебать?!» Родион двадцать пятого года рождения, призывался к сроку. Ерофей был гораздо старше, но по животу его браковали – кровью марается. Потратив кадровую армию, перевели правители по России всякий народ, и вот пришла нужда гнилобрюхих, хромых, косых и даже припадочных загребать в боевые ряды. Ерофей на судьбу не роптал, подержится за живот, поохает маленько и дальше служит – голова у него сметливая, память хорошая, руки на любое дело годные. Родион, безоговорочно приняв старшинство напарника, во всем ему подчинялся, перенимал от него все полезное для жизни и работы.
На берег реки они прибыли с пополнением, угодили в стрелковый полк, которым командовал полковник Бескапустин, и оттуда уже были назначены в боевую группу капитана Щуся, который влил их или соединил со своим отделением связи, поставив короткую, но точную задачу: «Связь должна быть на другом берегу!»
Для этого, для связи или катушек, телефонных аппаратов и прочей трахамудрии, был им выделен отдельный плотик – два бруса, связанные проводами, обмотками, бечевкой. Ерофей, помнится, поглядел на это сооружение, на другой берег взгляд перенес и вздохнул:
– Легко сказка сказывается, да вот как дело-то сделается…
Поначалу все шло как надо, планово. Они забрели в воду. Ерофей, Родион, Паша, командир отделения Еранцев и приблатненный мужик Шорохов, который еще на берегу предупредил: «Кто полезет на салик – прирежу!…»
Таким вот боевым связистским составом и плыли чуть позади людской, в воде кипящей каши, поталкивали свои драгоценные брусья, огрузшие под катушками со связью, под оружием и всяким барахлом. Шли, шли, доставая вытянутыми пальцами дно, и разом всплыли, погреблись руками, наперебой успокаивая друг друга: «Ниче, ниче, уж недалече…» Сверху осветили – и началось! На плотик насела орущая куча людей, опрокинула его вниз грузом, разметала связистов. Хватаясь друг за друга, люди уходили под воду, бурлили, толкались. Издали доносились властные крики: «… р-р-ре-од! р-ре-од, р-рре-о-од!» – связисты какое-то время узнавали голоса своих командиров, пытались правиться на них, но завертело, закружило, то свет, то тьма, то промельк неба, то нездешний вроде бы свет, взлетающий снопом в занебье и огненным ошметьем опадающий вниз, все заполняющий вопль: «А-а-а-а-а!» Еранцев, Паша и Шорохов где-то потерялись, командир куда-то исчез. Из последних сил, из последних возможностей держась за плотик, ускользающий во тьму, взмывающий вверх, связисты тоже орали, но не слышали себя. Катушки со связью отцепились, утонули в реке, плотик, сделавшийся ловушкой, затапливало от саранчой на него наседающих людей. Где-то, в каком-то месте плотик еще раз опрокинулся, накрыв собою людей, и тихо, голо всплывал, белея крестиками штукатурных лучинок, но снова и снова человеческое месиво облепляло его, снова огонь или свет преисподней и крик беспредельного пространства, крик покинутой живой души, последний, безответный зов.
Ерофей все время поддерживал изрыгающего крик и воду Родиона и радовался крику паренька, присутствию его – раз напарник жив и он слышит его, дотрагивается до него, стало быть, и сам он еще жив, глотает воздух, забитый тошнотной гарью, вроде сама вода уже горит. И пусть окольцованы огнем, пусть… но двое – есть двое.
– Родя! Роденька! – исторгался голос Ерофея, и младший понимал: держись, держись меня, мы живы, еще живы.
На них наплыл тонущий понтон, из которого, утробно булькая, выходил воздух, кренилась пушчонка, скатываясь к закруглению борта, ладилась упасть в воду и отчего-то не падала. За свертывающийся, шипящий, буркотящий понтон и даже за пушечку уцепившись, копошились люди. И когда понтон, став на ребро и сронив, будто серьгу с уха, в воду пушку, все же опрокинулся и накрыл уже сморщенной, пустой резиной людское месиво, Ерофей и Родион обрадовались: не обзарились, не ухватились за эту гиблую плавучую тушу. Их настигли, хватали из-под низу, из воды. «Заныривай!» – тонко вопил Ерофей и тянул за собой Родиона. Выбились наверх, устало погреблись, слыша отдаленное хрипение, бульканье, вопли – на их скудном плотике боролись за жизнь и погибали обреченные люди.
Но их Бог был сегодня с ними – не зря они звали Его, то оба разом, то попеременке. И услышал Он их, услышал, Милостивец, послал им какой-то длинный, пулями избитый, ощепинами ощетинившийся столб. Пловцы, не потерявшие голову, умеющие держаться на воде, облепили тот столб и молча, боясь привлечь внимание тонущих, греблись руками. Где-то, в конце уж, у сахарно белеющих в воде фарфоровых станков осторожно прилепились к столбу Ерофей с Родионом. Плыло их, держась за телеграфный столб, человек шесть. Кто постарше, поопытней, по возможности спокойно просили, нет, не просили, умоляли:
– Тихо, братцы! Тихо!…
Понятно, кричать, шебуршиться, шум издавать не надо, не надо лезть на бревно, толкать друг дружку, отрывать oт столба. Всюду должен быть и бывает старший. Они, эти старшие, владели собой, подгребали одной рукой, затем, когда сделалось ближе к отемненному вспышками орудийных выстрелов просекаемому берегу, когда появилась надежда, заработали, захрипели: «Греби! Греби! Бра-атцы! Бра-атцы-ы!»
Родион и Ерофей тоже греблись, чтоб не подумали, что они прицепились за бревно и плывут просто так, на дурика. Греблись из всех сил, и что-то вспыхивало, стонало, просило: «Скорей! Скорей! Ско-о-оре-й!» – Но и здесь, в этой смертью сбитой кучке людей, объявились те, кто хотел жить больше других, кто и раньше, должно быть, вел линию своей жизни не по законам братства – они брюхом наваливались на узенькое, до звона высохшее на придорожном ветру, бревешко. Ерофей и Родион, за короткие минуты сделавшиеся мудрыми и старыми, одергивали с бревна тех, кто норовил спасти только себя – ведь им, и Ерофею с Родионом, тоже хотелось туда, наверх, на бревно, и оттого, что хотелось того, что делать нельзя, остервенясь до основания, до такой ярости, какой в себе и не подозревали, мужики лупили, оглушали кулаком впившихся в бревно паникеров. Булькая ртом, те уплывали куда-то, но возникали, появлялись из тьмы другие пловцы, хлопались по воде, будто подбитые утки крыльями, отпинывались, кусались, старались завладеть бревном.
Скорострельный пулемет, высоко где-то стоявший и полосовавший темноту, оборвал светящуюся нитку, повременил, ровно бы вдергивая нитку в ушко иголки, коротко и точно хлестанул по плывущему столбу. Уже набравшиеся опыта, Ерофей и Родион погрузились в воду, но рук от бревна не отпустили. Выбросились разом, хватанули воздуху, ненасытно дыша во вновь прянувшем свете, подивились своей везучести – почти всех пловцов с бревна счистило. Между делом смахнув пловцов с бревна, пулемет снова занялся основной работой, сек горящую темноту, сплетая огненные нити с том клубом огня, который шевелился в ночи на далеком берегу, ворочался, плескался ошметками белого пламени.
Миновав главную полосу смерти, которая не то чтобы отчеркнута, она определена солдатским навыком, тем звериным чутьем, что еще не угас в человеке и пробуждается в нем в гибельные минуты, уговаривая вновь из воды возникающих людей: «Не лезьте! Не лезьте! Не надо! Нельзя!» – греблись еле-еле – все силы истрачены. Когда коснулись отерплыми ногами каменистого дна, то не сразу и поверили, что под ними твердь, еще какое-то время тащились на коленях, толкая бревешко, потом уж разжали пальцы и выпустили его. Кто посильней, подхватил ближнего, совсем ослабевшего собрата по несчастью. Покалывая живой щетиной одряблую от воды кожу на щеке Родиона, Ероха и какой-то дядек подхватили, замкнули его руки на шеях – зачтется такая милость, верили и спасенный и спасаемые.
– Держись, браток, держись… Кому сгореть, тот не утонет. – Кучей свалились на берег, но качалась под ними земля, пылала, бурлила, шипела от горючего металла, исходила стонами и криками бескрайняя и безбрежная река. Стыдясь тайного чувства, Ерофей и Родион, случайные товарищи, – ликовали: они-то здесь! Они-то на суше. Они прошли сквозь смерть и ад… они жить будут…
Ерофей разжал пальцы и обнаружил в руке что-то мягкое, напитанное водой и кровью, сразу – вот какой он сделался догадливый! – сразу уразумел – это кровь из-под ногтей. Его кровь, тряпки же от гимнастерок тех… И вот ведь какой он добрый сделался! Не было в нем ни зла, ни ненависти, но и сочувствия тоже не было – одна облегчающая слабость. А ногти, они отрастут, руки поцарапанные, в занозах и порезах – заживут. Расслабились солдаты, горячее текло из тела, прямо в штаны текло, и так текло, текло, казалось, конца этому не будет.
– Долго теперь пить не захочется…
– Браток. Брато-о-о-к! – тряс кто-то за плечо Ероху, – кажись, немцы! Фрицы, кажись!
И тут только вспомнил Ерофей и Родион, ради чего они тонули – умирали и спасались – они же воевать должны. Они на фронте. Они не просто утопленники, которых в деревне, если поднимут из воды, то все жалеют, в бане отогревают, кормят хорошо и работой целый день, когда и два – не неволят. Им же задание выполнять надобно – связь проложить.
– Немцы! – изумился Ерофей. – Зачем немцы?
– Бежим, бежим! – дыхнул рядом Родион. И они, схватившись за руки, бросились к темной крутизне берега, к кустам или каменьям. Впереди них кто-то упал в белой рубахе. Ерофей тоже упал и понял, что человек, бежавший впереди, не в белой рубахе вовсе, он нагишом. Ерофей хотел оттолкнуть Родиона от голого человека, на которого тот следом за ним свалился, голый же человек, зажав рукою причинное место, вскочил и рванул по каменьям в гору, но тут же, взмахнув руками, упал.
– Стой! Стой! – кричали из темноты по-русски. – Стой, в Бога мать! Трусы! Стой, сто-ой, сволочи! Стой, изменники!…
«Немцы, а матерятся по-нашему, – удивился Ерофей и зажался меж потрескавшихся, царапающихся камней, ладонью прижал Родиона – никак его ноги в камни не затянешь… – дохлые ноги, длинные, дохлые. Бывалые фронтовики говорили: немец, если напьется, в атаку пойдет, так по-нашему материться начинает, потому как наш, русский мат – самый в мире выразительный, но в Бога и в рот только наши могут, потому как неверующие…
Громыхал под чьими-то сапогами камешник, палили в воздух, по камням и по кустам секли какие-то люди.
– А-а, падла! А-а, притырился! – разносилось из тьмы, – смылся! Воевать не хочешь…