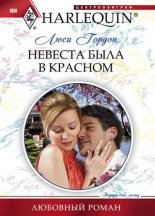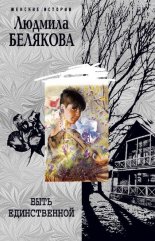Лунный лик. Рассказы южных морей. Приключения рыбачьего патруля (сборник) Лондон Джек

— Торики умер, — крикнула она. — О его шхуне никто ничего не слыхал. Она погибла вместе с «Аораи» и «Хирой». Разве Торики откроет тебе кредит на триста долларов? Нет, потому что Торики умер. А если б ты не нашел жемчужину, был бы сейчас должен Торики тысячу двести? Нет, Торики умер, а мертвому ты не мог бы заплатить.
— Ведь и Леви не заплатил Торики, — сказал Мапуи. — Отдал ему клочок бумаги, за который в Папеэтэ Торики мог бы получить деньги. А теперь Леви умер и не может заплатить; и Торики умер, бумага пропала, и жемчужина погибла. Ты права, Тефара. Я упустил жемчужину и ничего не получил за нее. А теперь давай спать.
Но вдруг он поднял руку и прислушался. Откуда-то доносились звуки, словно кто-то с трудом, тяжело дышит. Чья-то рука нерешительно ощупывала циновку, служившую вместо двери.
— Кто там? — крикнул Мапуи.
— Наури, — послышался ответ. — Не можешь ли ты сказать, где мой Мапуи?
Тефара испуганно вскрикнула и схватилась за руку мужа.
— Привидение! — пролепетала она. — Привидение!
У Мапуи лицо пожелтело от ужаса. Он слегка придвинулся к дрожащей жене.
— Добрая женщина, — выговорил он, заикаясь и силясь изменить голос. — Я хорошо знаю твоего сына. Он живет на восточном берегу лагуны.
Раздался вздох, Мапуи почувствовал некоторую гордость: он одурачил привидение.
— Но откуда ты пришла, старуха? — спросил он.
— С моря, — был унылый ответ.
— Так я и знала! Так и знала! — закричала Тефара, покачиваясь из стороны в сторону.
— С каких это пор Тефара ночует в чужом доме? — послышался из-за циновки голос Наури.
Мапуи боязливо и укоризненно посмотрел на жену: ведь это ее голос их выдал.
— А с каких пор Мапуи, мой сын, отрекся от своей старой матери? — продолжал голос.
— Нет, нет, я не отрекался, Мапуи не отрекался от тебя, — закричал он. — Я не Мапуи. Говорю тебе, он живет на восточном берегу лагуны.
Нгакура приподнялась на кровати и начала плакать. Циновка заколыхалась.
— Что ты делаешь? — спросил Мапуи.
— Я хочу войти, — сказал голос Наури. Конец циновки приподнялся. Тефара пыталась нырнуть под одеяла, но Мапуи цеплялся за нее. Ему нужно было за кого-нибудь уцепиться.
Они боролись друг с другом, дрожали, стуча зубами, и пристально расширенными глазами смотрели на поднимающуюся циновку. И, наконец, увидели медленно входившую Наури. Морская вода струйками стекала с нее. Юбки на ней не было.
Они отскочили, вырывая друг у друга одеяло Нгакуры, чтобы прикрыться им.
— Вы могли бы дать матери хоть глоток воды, — жалобно сказало привидение.
— Дай ей воды, — приказала Тефара дрожащим голосом.
— Дай ей воды, — повторил приказание Мапуи, обращаясь к Нгакуре.
И вдвоем они вытолкнули Нгакуру из-под одеяла. Через минуту, выглядывая украдкой из-за жениной спины, Мапуи увидел, что привидение пьет. Когда же оно протянуло дрожащую руку и положило ее на руку Мапуи, он почувствовал ее тяжесть и убедился, что это не привидение. Тогда он встал, таща за собой Тефару, и через несколько минут все они слушали повествование Наури. А когда она рассказала о Леви и положила жемчужину на руку Тефары, та убедилась, что свекровь ее жива.
— Утром, — сказала Тефара, — ты продашь жемчужину Раулю за пять тысяч французских долларов.
— А дом? — спросила Наури.
— Рауль построит дом, — отвечала Тефара. — Он говорит, что дом будет стоить четыре тысячи долларов. А на одну тысячу он нам даст товаров в кредит. Одна тысяча французских равняется двум тысячам чилийских.
— И дом будет в сорок футов длиною? — допытывалась Наури.
— Ну, конечно, — ответил Мапуи, — в сорок футов.
— И в средней комнате будут восьмиугольные часы на стене?
— Конечно! И круглый стол.
— Дайте же мне чего-нибудь поесть, я голодна, — с довольным видом сказала Наури. — А после этого мы ляжем спать, я устала. Завтра мы еще поговорим о доме, прежде чем продавать жемчужину. Лучше было бы взять тысячу французских наличными. Приятнее иметь деньги, чем кредит на покупку товаров у купцов.
Китовый зуб
Это произошло давно на островах Фиджи, в селении Реве, в миссионерском доме. Джон Стархэрст поднялся и громко заявил о своем намерении проповедовать Евангелие племенам всего Вити-Леву. Вити-Леву, иначе — «Великая Страна» — самый большой остров в группе, состоящей из многих больших островов и множества мелких. На побережье Вити-Леву приютилась горсточка белых людей: то были миссионеры, торговцы, рыбаки и дезертиры с китобойных судов. Жизнь их всегда висела на ниточке. Под окнами их домов нередко поднимался дым жарких печей, а мимо дверей тащили на пиршества тела убитых.
Лоту — богопочитание — распространялось медленно и нередко ползло вспять, подобно раку. Вожди, объявлявшие себя христианами и с восторгом принятые в лоно Церкви, имели прискорбное обыкновение впадать в грех, соблазняясь мясом какого-нибудь давно намеченного врага. Съесть либо быть съеденным — таков был закон страны, и власть его над страной обещала быть очень продолжительной. Иные вожди, например Таноа, Туйвейкозо и Туикилакила, поедали своих собратьев сотнями. Но среди этих ненасытных первое место занимал Ра Ундреундре, проживавший в Такираки. Он вел счет своим трофеям. Ряд камней перед его хижиной символизировал тела, съеденные им. Этот ряд простирался на двести тридцать шагов в длину, а камней в нем было восемьсот семьдесят два. Каждый камень соответствовал одной жертве. Ряд этот оказался бы и длиннее, если бы Ра Ундреундре не получил коварного удара копьем в крестец во время схватки в зарослях Сомо-Сомо. И Ра Ундреундре был подан на стол Наунгавули, ничтожный ряд камней которого отмечал всего лишь сорок восемь побед.
Изнуренные тяжелой работой, истощенные лихорадкой, миссионеры твердо стояли на посту и упорно выполняли свой долг. Временами, впадая в отчаяние, они все же надеялись на какое-то чудо, вроде благодарного сошествия святого духа в виде огненных языков, которое принесло бы им великую жатву душ.
Но людоеды Фиджи оставались по-прежнему упорными. Курчавоголовые лакомки не желали отказываться от своих горшков с мясом, пока жатва была обильна. Иногда пленных бывало слишком много, и каннибалы, шантажируя миссионеров, тайком распускали слух, что в такой-то день произойдет процедура избиения и состоится пиршество. Миссионеры спешили откупить жизнь жертв и раздавали пачки табака, коленкор и связки бус. Уступая этот избыток живого мяса, вожди тем не менее получали большую прибыль от подобных сделок, ибо всегда имели возможность совершить нападение на другие селения и захватить еще пленных.
Вот при каких обстоятельствах объявил Джон Стархэрст о своем намерении проповедовать слово Божие по побережью Великой Страны. Он сказал, что начнет с горных твердынь у верховьев реки Ревы. Его слова были приняты с изумлением и ужасом.
Проповедники из туземцев даже прослезились. Два товарища-миссионера всеми силами пытались его отговорить. Повелитель острова Ревы заявил, что жители гор несомненно сделают с ним «каи-каи», или иначе — съедят, и что он, повелитель Ревы, познавший Лоту, вынужден будет идти на них войной, а жители гор непобедимы, это он хорошо знал. Они могут спуститься вниз по реке и разгромить селение Реву — это повелитель острова Ревы тоже прекрасно знал. Но что было ему делать? Если же Джон Стархэрст все-таки хочет туда отправиться, он будет съеден, а тогда вспыхнет война и сотни людей погибнут.
К вечеру того же дня депутация вождей Ревы посетила Джона Стархэрста. Он терпеливо их выслушал, спокойно с ними поговорил, но ни на шаг не отступил от своего решения. Своим товарищам-миссионерам он заявил, что вовсе не намерен стать мучеником; он лишь выполняет волю Бога, призвавшего его и повелевшего проповедовать Евангелие жителям Вити-Леву.
Торговцам, убеждавшим его особенно пылко, он сказал:
— Ваши доводы ничего не стоят. Вами руководит лишь опасение понести убытки в ваших делах. Ваши интересы сводятся к накоплению денег, мой же — к спасению душ человеческих. Язычники этой темной страны должны быть спасены.
Джон Стархэрст не был фанатиком. Он первый стал бы возражать против такого обвинения. Он был в высшей степени практичным и рассудительным человеком. В благих результатах своей миссии он не сомневался и лелеял мечту зажечь в душах горных жителей искру священного огня и открыть им путь к новой жизни; и новая жизнь разольется затем вглубь, вширь и вдаль — по всей Великой Стране, от моря и до моря, до самых отдаленных островов, затерянных в океане. Мягкие серые глаза его не горели огнем безумия; им руководила спокойная решимость и непоколебимая вера во всемогущего Бога.
Нашелся лишь один человек, который одобрил его намерение. Это был Ра Вату. Он ободрял его и предложил ему проводников до подножия первых холмов. Джону Стархэрсту доставило величайшую радость поведение Ра Вату. Закоснелый язычник, Ра Вату — с сердцем таким же черным, как его поступки, — начинал как будто исправляться. Он даже поговаривал о принятии христианства. Правда, уже три года тому назад он выразил подобное желание — и был бы принят в лоно Церкви, если бы Джон Стархэрст не воспротивился его намерению захватить с собой всех своих четырех жен. И с экономической, и с этической точки зрения Ра Вату был противником моногамии. Кроме того, его оскорбила такая неосновательная придирка миссионера, и, желая продемонстрировать свою полную независимость, он взмахнул дубиной над головой Стархэрста. Стархэрст спасся лишь благодаря тому, что успел подскочить к Ра Вату и плотно к нему прижаться. Он сжимал его до тех пор, пока не подоспела помощь. Но теперь все было забыто и прощено. Ра Вату готов стать членом Церкви, и не только как обращенный язычник, но и как раскаявшийся полигамист. Он уверял Стархэрста, что лишь ждет смерти своей самой старой, больной жены.
В одном из каноэ Ра Вату Джон Стархэрст направился вверх по тихому течению Ревы. На каноэ он должен был плыть два дня до того места, где судоходство на реке прекращается.
Вдали виднелись громады туманных гор, поднимающихся к самому небу: то был горный хребет Великой Страны. Весь день Джон Стархэрст, не отрываясь, с жадным нетерпением смотрел в ту сторону.
Временами он тихо молился. Иногда к его молитве присоединялся Нарау, туземец-проповедник, семь лет назад принявший христианство после того, как был спасен от пылающей печи доктором Джемсом Эллери Брауном. Этот доктор внес за него грошовый выкуп: несколько пачек табака, два шерстяных одеяла и большую бутылку целебного бальзама.
Только в последний момент, после двадцатичасовых молитв в полном уединении, ухо Нарау удостоилось услышать глас, призывающий его идти в горы с Джоном Стархэрстом.
— Господин, я иду с тобой, — объявил он.
Джон Стархэрст с тихой радостью приветствовал его решение. Поистине Господь Бог не оставит его — Джона Стархэрста, если даже такое слабое существо, как Нарау, вызвалось сопровождать его.
— Я действительно не из храбрых, я — слабейший из сосудов господних, — объяснял Нарау в первый день пути.
— Ты должен верить, крепко верить, — сказал ему миссионер.
В тот же день другое каноэ отправилось в путь вверх по течению Ревы. Но оно шло позади и старалось держаться незаметно. Это каноэ тоже принадлежало Ра Вату. В нем находился Эрирола, двоюродный брат Ра Вату и преданный его слуга. Всю дорогу он не выпускал из рук маленькой корзинки, где лежал китовый зуб.
Это был великолепный китовый зуб — шесть дюймов длины, идеальной формы, слегка пожелтевший, с красноватым оттенком от времени. Зуб был собственностью Ра Вату. С появлением на Фиджи китового зуба связан любопытный обычай. Вот в чем он заключается: всякий, получивший китовый зуб, не имеет права отказать в просьбе тому, кто этот зуб ему подарил. Просьбы могли быть самые разнообразные: можно требовать и человеческой жизни, и братского союза между племенами. И ни один уроженец Фиджи не обесчестит себя отказом ее исполнить, раз китовый зуб им уже принят. Иногда просьба откладывается на некоторое время или выполнение ее замедляется, но последствия всегда неизбежны.
К концу второго дня пути Джон Стархэрст остановился почти у самых истоков Ревы, в деревне одного вождя, по имени Монгондро.
Утром он рассчитывал отправиться пешком, в сопровождении Нарау, к вершинам туманных гор, казавшихся вблизи бархатисто-зелеными. Монгондро, старый маленький вождь, кроткого нрава, приветливый, близорукий, страдающий слоновой болезнью, не питал больше склонности ко всем треволнениям войны. Миссионера он встретил с радушным гостеприимством, дал ему пищу со своего стола и даже завязал с ним спор на религиозные темы. Монгондро обладал любознательным умом и весьма обрадовал Джона Стархэрста, обратившись к нему с просьбой объяснить сущность и происхождение бытия.
Кратко рассказав вождю о сотворении мира по Книге Бытия, Джон Стархэрст увидел, что Монгондро глубоко взволнован. Несколько минут старый маленький вождь молча курил. Затем, вынув изо рта трубку, печально покачал головой.
— Этого не могло быть, — сказал он. — Я, Монгондро, в юности умел работать стругом. И все же мне требовалось три месяца, чтобы сделать каноэ, маленькое каноэ, совсем маленькое. А ты говоришь, что вся земля и вода созданы одним человеком…
— Нет, созданы одним Богом, единым истинным Богом, — перебил его миссионер.
— Это все равно, — продолжал Монгондро, — значит, все: земля, вода, деревья, рыба, леса, горы, солнце и луна и звезды созданы в шесть дней! Нет, нет. Говорю тебе, в юности я был ловким человеком, и все же мне нужно было три месяца, чтобы сделать одно небольшое каноэ. Это — сказка для маленьких детей, и ни один взрослый человек ей не поверит.
— Но я же взрослый человек, — заметил миссионер.
— Это верно, ты взрослый. Но мой темный разум не в состоянии постичь то, чему ты веришь.
— Говорю тебе, я верю, что все сотворено в шесть дней.
— Да, ты так говоришь; да, да, — успокоительным тоном забормотал старый людоед.
А когда Джон Стархэрст и Нарау улеглись спать, в дом вождя прокрался Эрирола и после дипломатической беседы протянул старику китовый зуб. Старый вождь долго держал зуб в руке. Это был превосходный китовый зуб, и Монгондро хотелось его заполучить.
Но он угадывал просьбу, какая последует за подарком. Нет, нет! Китовый зуб великолепен, и всякому лестно было бы его иметь, но все же старик с бесконечными извинениями вернул его Эрироле.
С первыми проблесками рассвета Джон Стархэрст был уже на ногах и в своих высоких кожаных сапогах зашагал по тропинке сквозь заросли. По его стопам следовал верный Нарау, а голый проводник, подданный Монгондро, указывал им дорогу к ближайшей деревне. В полдень они пришли туда. Отсюда путь им показывал новый проводник. Позади, на расстоянии мили от них, пробирался Эрирола, с китовым зубом в корзинке, привязанной за плечами. Два дня он шел по следам миссионера, в каждом селении предлагая вождям китовый зуб. Но все от него отказывались. Эрирола являлся тотчас же после ухода миссионера, а потому вожди догадывались, какая просьба их ждет, и предпочитали уклониться.
Миссионер и Нарау направлялись по прямому пути в горы, а Эрирола избрал мало кому известную тропинку и опередил их. Он явился в укрепленные владения вождя Були из Гатока. Були не был осведомлен о скором прибытии Джона Стархэрста. Китовый зуб был великолепен — редкий экземпляр — и окраска его казалась необыкновенной. Зуб был предложен в присутствии посторонних. Були из Гатока восседал на лучшей своей циновке, окруженный главными советниками; три раба опахалами отгоняли от него мух. Из рук своего глашатая удостоил он принять китовый зуб, подарок Ра Вату, доставленный сюда, в горы, двоюродным братом Ра Вату, Эриролой.
Рукоплескания сопровождали передачу подарка; группа советников, глашатаи и рабы с опахалами восторженно кричали хором:
— А! вои! вои! вои! А! вои! вои! вои! А! табуа леву! вои! вои! А! мудуа, мудуа, мудуа!
— Скоро придет сюда один белый, — начал Эрирола после длительной паузы. — Это — миссионер; он будет здесь сегодня. Ра Вату желает получить его сапоги. Он хотел бы подарить их своему доброму другу Монгондро. А вместе с сапогами он пошлет ему и ноги белого. Монгондро — старик, зубы у него плохие. Постарайся непременно, Були, чтобы ноги были доставлены вместе с сапогами, а туловище может остаться здесь.
Були уже не рад был китовому зубу; он нерешительно оглянулся вокруг. Но ведь подарок уже принят.
— Такая мелюзга, как миссионер, ничего не значит, — ободрял Эрирола.
— Конечно, на такую мелюзгу, как миссионер, нечего обращать внимание, — ответил Були, овладев собой. — Монгондро получит сапоги. Вперед, молодцы! Ступайте втроем или вчетвером! Идите по тропе навстречу миссионеру. Постарайтесь же доставить сюда сапоги.
— Слишком поздно, — сказал Эрирола и прошептал: — Слышишь! Он идет сюда.
Пробравшись сквозь густой кустарник, Джон Стархэрст, а за ним Нарау выступили вперед. Высокие сапоги, намокшие при переходе через поток, на каждом шагу выбрасывали тонкие струйки воды. Стархэрст оглядел всех горящими глазами. Воодушевленный непоколебимой верой, не испытывая ни страха, ни сомнения, он ликовал, глядя на раскинувшуюся перед ним крепость. Он знал, что с сотворения мира он был первым белым человеком, вступившим в эту горную крепость Гатока.
Зеленые хижины лепились по крутым горным склонам или нависали над бурной Ревой. По обе стороны вздымались отвесные скалы. Узкое ущелье озарялось солнцем не больше чем на три часа. Ни кокосовых пальм, ни бананов нигде не было видно, но буйная тропическая растительность покрывала горы, проникая в каждую выбоину и трещину, и легкие зеленые гирлянды ниспадали с острых выступов скал. В глубине ущелья, с высоты восьмисот футов мощным потоком низвергалась Рева, и воздух в скалистой крепости дрожал и гудел в унисон с грохотом водопада.
Джон Стархэрст увидел, как из дома вышел сам вождь Були и с ним его свита.
— Я принес вам благую весть, — приветствовал их миссионер.
— Кто послал тебя? — спокойно спросил Були.
— Бог.
— Это имя неизвестно в Вити-Леву, — усмехнулся Були. — Каких островов, селений или долин он повелитель?
— Он повелитель всех островов, всех селений, всех долин, — торжественно прозвучал ответ Джона Стархэрста. — Он — владыка неба и земли, и я принес вам его слово.
— А прислал ли он китовый зуб? — послышался дерзкий вопрос.
— Нет, но драгоценнее всякого китового зуба…
— У нас в обычае, чтобы вожди обменивались подарками и посылали китовый зуб, — перебил его Були. — Или твой повелитель скряга, или ты дурак, если пришел в горы с пустыми руками. Посмотри, более щедрый человек тебя опередил.
С этими словами он показал китовый зуб, полученный от Эриролы.
Нарау застонал.
— Это китовый зуб Ра Вату, — шепнул он Стархэрсту. — Я его хорошо знаю. Теперь мы погибли.
— Вещь красивая, — сказал миссионер, поглаживая свою длинную бороду и поправляя очки. — Ра Вату позаботился о том, чтобы нас здесь хорошо приняли.
Но Нарау снова застонал и отошел от того, за кем так преданно следовал.
— Ра Вату скоро станет христианином, — заявил Стархэрст, — я принес тебе весть о Лоту.
— Не нужно мне твоего Лоту, — гордо ответил Були. — Я хочу, чтобы тебя сегодня же прикончили дубиной.
Були дал знак одному из своих рослых горцев, и тот, выступив вперед, замахнулся дубиной. Нарау стремглав бросился в ближайший дом, пытаясь спрятаться под защиту женщин среди циновок. Джон Стархэрст прыгнул вперед и обхватил руками шею палача. Теперь, когда ему не угрожала неминуемая смерть, он пустил в ход все свое красноречие. Зная, что защищает свою жизнь, он, однако, не испытывал ни страха, ни волнения.
— Ты совершишь злое дело, если убьешь меня, — говорил он палачу. — Я ничего плохого не сделал ни тебе, ни Були.
Он так крепко уцепился за шею горца, что остальные не осмеливались пустить в дело дубину.
В такой позе он отстаивал свою жизнь и убеждал дикарей, громко требовавших его смерти.
— Мое имя Стархэрст, — спокойно говорил он. — Я работал на Фиджи в течение трех лет и не просил за это никакой награды. К вам я пришел для вашего же блага. Зачем меня убивать? Разве это принесет кому-нибудь выгоду?
Були украдкой бросил взгляд на китовый зуб: правитель Гатоки уже был щедро вознагражден.
Толпа голых дикарей окружила миссионера. Они затянули песнь смерти — песнь раскаленной печи — и заглушили обличавший их голос. Но Стархэрст ловко обхватывал тело палача, не давая возможности нанести смертельный удар. Эрирола усмехался, а Були рассердился.
— Прочь, дураки! Нечего сказать, хорошая молва распространится по берегу: целая дюжина против одного безоружного, слабого, как женщина, миссионера! И он вас осиливает!
— Послушай, Були, — стараясь перекричать шум свалки, воззвал миссионер. — Я и тебя одолею. Мое оружие — истина и справедливость, и ни один человек не может мне противостоять.
— Ну, подойди ко мне, — отвечал Були. — Мое оружие — всего лишь жалкая, ничтожная дубина, и, как ты сказал, она против тебя бессильна.
Толпа расступилась, и Джон Стархэрст очутился лицом к лицу с Були, опиравшимся на огромную, сучковатую дубину.
— Что ж, подходи, миссионер! — вызывающе кричал Були, — победи меня!
— Не сомневайся, я подойду и одолею тебя, — ответил Джон Стархэрст. Протерев очки и снова надев их, он шагнул вперед. Були поднял дубину и ждал.
— Прежде всего, заметь, что моя смерть никакой пользы тебе не принесет, — возобновил свои доводы миссионер.
— За меня ответит моя дубина, — сказал Були.
И на каждый довод миссионера он давал один и тот же ответ, зорко следя, чтобы предупредить ловкий маневр белого человека, бросающегося на шею палачу.
И теперь, только теперь, Джон Стархэрст почувствовал, что смерть близка. Он не пытался ее избежать. С непокрытой головой стоял он под ярким солнцем и громко молился — непонятная фигура неизбежного белого человека, который с Библией, с пулей или бутылкой рома настигает смущенного дикаря в его собственных укреплениях. Таким предстал Джон Стархэрст перед Були из Гатока в его скалистой крепости.
— Прости им, ибо они не ведают, что творят, — молился он. — О Господи, сжалься над Фиджи. Имей сострадание к Фиджи. О Иегова, внемли моей молитве ради него, твоего сына, который всех нас привел к тебе. От тебя мы пришли и молим — прими нас опять к себе. Но ты всемогущ и можешь ее спасти. Простри свою длань, о Господи, и спаси Фиджи, несчастных людоедов Фиджи.
Були потерял терпение.
— Теперь я тебе отвечу, — пробормотал он, замахиваясь дубиной.
Нарау, скрывавшийся в хижине среди женщин, услышал тяжелый удар и содрогнулся. Затем раздалась песнь смерти, и он понял, что тело его друга-миссионера волокут к печи.
Он слышал слова:
— Осторожней! Осторожней несите меня. Ибо я подвижник моей страны. Благодарю тебя! Благодарю! Благодарю тебя!
Потом из шума выделился одинокий голос и спросил:
— Где мужественный человек?
Сотни голосов проревели в ответ:
— Сейчас его приволокут к печи и изжарят.
— Где трус? — снова прозвучал одинокий голос.
— Убежал, чтобы донести, — загудела в ответ толпа. — Убежал, чтобы донести! Убежал, чтобы донести!
Нарау застонал в тоске. Слова старой песни были правдивы. Он был трусом — и ему оставалось только пойти и донести.
Мауки
Он весил сто десять фунтов. Волосы у него были курчавые — негритянские, и весь он был черен — своеобразно черен, без всякого синеватого или красноватого отлива, — черен, как черная слива. Его звали Мауки, и он был сын вождя. У него имелось три тамбо. Тамбо в Меланезии соответствует табу. Оба эти слова — одного и того же полинезийского происхождения. Три тамбо Мауки налагали на него следующие запрещения: во-первых, он никогда не должен был здороваться за руку с женщиной или позволять ей прикасаться к нему, а также к его вещам; во-вторых, он не смел есть ракушек и пищу с огня, на котором они жарились; в-третьих, он не должен был притрагиваться к крокодилу и ездить в каноэ, где находится хотя бы самая крохотная часть — скажем, зуб — крокодила.
И зубы у него были черные, но иного оттенка. Они были густо-черные, пожалуй, как сажа. Такими они стали в одну ночь, когда его мать натерла их минеральным порошком, добытым ею в горах за Порт-Адамсом. Порт-Адамс — приморское селение на Малаите, а Малаита — самый дикий остров Соломоновой группы, — такой дикий, что до сих пор ни торговцы, ни плантаторы не сумели там обосноваться. Начиная с первых рыбаков и торговцев сандаловым деревом и кончая современными вербовщиками рабочих, снаряженными автоматическими ружьями и гранатами, все белые искатели приключений погибали и погибают на Малаите от томагавков и разрывных снайдеровских пуль. И теперь, в двадцатом столетии, Малаита все еще остается проклятым местом для вербовщиков, нанимающих здесь рабочих, которых затем отправляют на плантации соседних, более цивилизованных островов, где они получают жалованье тридцать долларов в год. Туземцы этих цивилизованных островов слишком эмансипировались и сами не желают работать на плантациях.
Уши Мауки были проколоты, но не в одном или двух местах, а во многих. В одной из небольших дырок он носил глиняную трубку. Более широкие отверстия не годились для этой цели, так как трубка проскакивала насквозь. В самых больших дырах каждого уха у него обычно были продеты куски дерева четырех дюймов в диаметре. Окружность этих дыр равнялась приблизительно двенадцати с половиной дюймам. В своих вкусах и склонностях Мауки уподоблялся католику. Во всех остальных, меньших размеров дырах он носил самые разнообразные предметы: пустые ружейные патроны, гвозди для подков, медные винты, кусочки веревок, обрывки хвороста, пучки зеленых листьев и по вечерам красные цветы гибиска. Ясно, что карманы не нужны были в его обиходе. Кроме того, у него и не могло быть карманов — вся его одежда состояла из куска коленкора шириной в несколько дюймов. В волосах он носил перочинный нож, защемив лезвием жесткий локон.
Но самым ценным предметом являлась ручка от фарфоровой чашки, подвешенная к черепаховому кольцу, которое пронизывало хрящ его носа.
Невзирая на все эти украшения, у Мауки все же было приятное лицо. Он был действительно миловиден, с любой точки зрения, а для меланезийца являлся образцом красоты. Единственным его недостатком было полное отсутствие мужественности: лицо нежно-женственное, почти девичье, мелкие, правильные, тонкие черты, бесхарактерный подбородок и бесхарактерный рот. Лоб, челюсти и нос не носили ни малейшего отпечатка силы или характера. Только в глазах можно было уловить намек на те неведомые качества, какие ставили его значительно выше остальных людей, даже не способных его понять, — это: отвага, настойчивость, бесстрашие, воображение и сметливость. Когда они случайно проявлялись в каком-нибудь необычайном поступке, окружающих охватывало изумление.
Отец Мауки был вождем племени, обитавшего в Порт-Адамсе, и, таким образом, Мауки, с самого рождения живший у моря, сделался как бы животным земноводным. Он был хорошо знаком с жизнью рыб и устриц, и рифы являлись для него открытой книгой. И управлять каноэ он также умел. Он научился плавать на втором году жизни. В семь лет он мог задерживать дыхание на целую минуту и нырял на дно, на глубину тридцати футов. В этом возрасте он был похищен жителями лесов, не умевшими плавать и боявшимися соленой воды. И теперь Мауки видел море лишь издали, сквозь просветы в джунглях или с открытых уступов гор. Он стал рабом старого Фанфоа, старшего вождя двух десятков селений, рассеянных в зарослях Малаиты. В тихое утро поднимающийся к небу дым служил для белых людей, бороздящих море, показателем того, что джунгли Малаиты обитаемы. Белые не проникали в глубь Малаиты. Однажды, в дни погони за золотом, они сделали эту попытку, но оставили там свои головы, которые скалят теперь зубы с закопченных бревен лесных хижин.
Когда Мауки исполнилось семнадцать лет, у Фанфоа вышел запас табака. Ему очень недоставало табака. То было тяжелое время для всех его селений. Фанфоа допустил ошибку. Суо была очень мелкой гаванью, и большая шхуна не могла бросить там якорь. Весь берег зарос мангиферами, свисающими над темной водой. Это была хорошая западня, и в нее попали два белых человека в маленьком кече. Они приехали вербовать рабочих, и у них имелся большой запас табака и много товаров, не говоря уже о трех ружьях и несметном количестве патронов. Здесь, в Суо, не было прибрежных селений, и жители лесов приходили к морю. На кече дела шли великолепно. В первый день записалось двадцать рабочих. Даже старый Фанфоа записался. И в тот же день толпа завербованных снесла головы двум белым, перебила весь экипаж и сожгла кеч. После этого события в течение трех месяцев во всех селениях было много табака и всяких товаров. Затем явилось военное судно. Оно метало снаряды, проникающие на мили в глубь острова, выгоняя испуганных жителей из их селений. Туземцы отступили дальше, в чащу лесов. На берег высадились отряды белых, которые сожгли деревни со всем запасом табака и со всеми товарами. Кокосовые пальмы и бананы были срублены, поля таро[2] уничтожены, свиньи и куры перебиты.
Фанфоа считал это хорошим уроком, но табака у него опять не было. И молодые люди его племени были слишком напуганы, чтобы пойти на вербовочные суда. Вот почему Фанфоа приказал отвести своего раба Мауки вниз к морю и записать рабочим за пол-ящика табака; кроме табака, авансом были выданы ножи, топоры, коленкор и бусы как плата за работу Мауки на плантациях. Мауки, очутившись на борту судна, пришел в ужас. Он походил на агнца, ведомого на заклание. Белые люди были свирепыми существами. Иными они быть не могли, ибо не отважились бы тогда разъезжать вдоль берегов Малаиты и заходить в гавани — двое белых на судне, переполненном чернокожими; ведь на каждой шхуне находилось от пятнадцати до двадцати негров-матросов и часто свыше шестидесяти и семидесяти завербованных негров-рабочих. Вдобавок им всегда грозила опасность со стороны прибрежных жителей. Внезапное нападение — и весь экипаж шхуны мог быть вырезан. Поистине белому человеку нужно быть жестоким. Кроме того, у них имелись дьявольские приспособления: ружья, стрелявшие необычайно быстро и далеко; железные и медные предметы, заставлявшие шхуну двигаться даже во время штиля, и ящики, которые разговаривают и смеются совсем, как живые люди. Да, Мауки слыхал еще об одном белом: то был самый могущественный дьявол, он мог, по желанию, вынимать все свои зубы и снова вставлять их на место.
Мауки отвели в нижнюю каюту. На палубе остался на страже один белый с двумя револьверами. В каюте сидел другой белый, держа перед собой книгу, где чертил какие-то странные знаки и линии. Он осмотрел Мауки, точно тот был курицей или поросенком, заглянул ему под мышки и записал что-то в книгу. Затем протянул пишущую палочку Мауки; тот только прикоснулся к ней, но этого было достаточно, чтобы отметить в книге его согласие работать в течение трех лет на плантациях Мунглимской мыльной компании. Он этого не подозревал, ему ничего не объяснили; задача же суровых белых людей состояла в наблюдении за точным выполнением обязательства, и в этом поддержкой им являлись все могущество и весь флот Великобритании.
На борту находились и другие чернокожие из неведомых, далеких стран. Белый человек отдал им приказание, и они выдернули из волос Мауки длинное перо, коротко обрезали ему волосы и обернули его бедра куском ярко-желтого коленкора.
Много дней провел он на шхуне, посетил столько стран и островов, сколько ему и не снилось, и наконец был высажен на берег в Новой Георгии и поставлен на работу по расчистке джунглей и срезыванию тростника. Только теперь узнал он, что такое работа. Даже у Фанфоа ему не приходилось так работать. Эта работа ему не понравилась. Работали с рассвета и до темноты, а есть полагалось всего лишь два раза в день. И пища была однообразная. По целым неделям ничего не давали, кроме сладкого картофеля и риса. День за днем, неизменно, его заставляли очищать кокосовые орехи от скорлупы, и много дней и недель подряд он поддерживал огонь, на котором коптили копру; наконец у него заболели глаза. Тогда его поставили рубить деревья. Топором он владел великолепно, и позднее его зачислили в партию, строившую мост. Один раз его, в виде наказания, заставили прокладывать дорогу. Иногда он служил матросом на китобойных судах, привозивших копру с дальних берегов, или вместе с белыми выплывал на ловлю рыбы динамитом.
Между прочим он немного усвоил английский язык и мог объясняться теперь со всеми белыми и со всеми завербованными рабочими, говорившими на тысяче всевозможных наречий. Он немало узнал также и о белых людях и, в частности, убедился, что они верны своему слову. Если они обещали дать ему табак — он его получал. Если они грозили выбить из рабочего «семь склянок» — неизменно эти «семь склянок» они из виновного выбивали. Мауки не понимал, что значит «семь склянок», но эти слова слышал часто и заключил, что «семь склянок» обозначают зубы и кровь. Он узнал и кое-что иное: никто не бывал наказан и избит без вины. Даже когда белый человек напивался, — а это случалось нередко, — никогда он не наносил удара, если порядок не был нарушен.
Мауки не любил плантации. Он ненавидел работу — ведь он был сыном вождя. Уже десять лет прошло с тех пор, как Фанфоа похитил его из Порт-Адамса, и Мауки стосковался по своему дому. Он тосковал даже по Фанфоа. И наконец сбежал. Он ушел в лес, надеясь пробраться к южному берегу, украсть каноэ и уехать в Порт-Адамс. Но схватил лихорадку, был пойман и, полумертвый, доставлен назад.
В следующий раз он убежал вместе с двумя малаитскими мальчиками. Они прошли двадцать миль вдоль берега и спрятались в одном селении, в хижине вольного человека с острова Малаита. Но темной ночью явились двое белых и бесстрашно, в присутствии всех жителей селения, выбили «семь склянок» из беглецов, связали их, точно поросят, и впихнули на китобойное судно. А из человека, который их спрятал, семь раз выколотили по «семи склянок», судя по его выбитым зубам, содранной коже и вырванным волосам. На всю жизнь отбили они у него охоту давать приют беглым рабочим.
Еще год проработал Мауки, а затем его взяли слугой в один дом. Там у него была хорошая пища, много свободного времени и нетрудная работа по уборке дома. Он прислуживал белому человеку, подавая ему во все часы дня и ночи виски и пиво. Это ему нравилось, но жизнь в Порт-Адамсе нравилась еще больше. Он должен был отработать два года — слишком большой срок для Мауки, охваченного мучительной тоской по родине. За год работы на плантации он поумнел, а сейчас, служа в доме, имел возможность бежать. Ему поручено было чистить винтовки, и он знал, где висит ключ от чулана. Был составлен план бегства, и однажды ночью десять мальчиков с Малаиты и один из Сан-Кристобаля ускользнули из рабочих бараков и подтащили к берегу одну из китобойных лодок. Это Мауки раздобыл ключ и открыл замок, висевший на лодке. Мауки же принес двенадцать винчестеров, большой запас патронов, ящик динамита с детонатором и фитилем и десять ящиков с табаком.
Дул северо-западный муссон, и по ночам они плыли к югу, а днем прятались на уединенных, необитаемых островках или втаскивали лодку в кустарник у берегов больших островов. Наконец они достигли Гвадалканара, поплыли вдоль берега, затем пересекли пролив у острова Флориды. Здесь они убили мальчика из Сан-Кристобаля, голову его спрятали, а туловище, руки и ноги зажарили и съели. Малаита находилась теперь в двадцати милях, но ночью сильное течение и изменивший направление ветер помешали им доплыть до берега. Рассвет застал их на расстоянии нескольких миль от цели путешествия. И с рассветом пришел катер с двумя белыми, не испугавшимися одиннадцати малаитских негров, вооруженных двенадцатью ружьями. Мауки с товарищами был отправлен в Тулаги, где проживал великий белый, господин над всеми белыми. Великий белый господин назначил суд, после чего беглецов связали, дали им по двадцать ударов плетью и оштрафовали на пятнадцать долларов каждого. Затем их отослали назад на Новую Георгию, где белые выбили из них «семь склянок» и поставили на работу. Но теперь Мауки уже не был слугой в доме. Он был зачислен в партию прокладывающих дорогу рабочих. Штраф в пятнадцать долларов уплатили белые, от которых он сбежал, и Мауки было сказано, что он должен отработать эти деньги, иными словами — работать лишних шесть месяцев. И, кроме того, его доля украденного табака обошлась ему еще в один добавочный год.
Теперь от Порт-Адамса его отделяли три с половиной года. Однажды ночью он украл каноэ, спрятался на островке в проливе Маннинг, затем пересек пролив и стал пробираться вдоль восточного берега Изабеллы. Когда было пройдено уже две трети пути, его поймали белые, обитавшие у лагуны Мериндж. Спустя неделю он убежал от них и скрылся в зарослях кустарника. На Изабелле леса были необитаемы, а все приморские жители были христианами. Белые назначили за поимку Мауки премию в пятьсот пачек табака. Всякий раз, когда Мауки пробирался к морю, чтобы похитить у кого-нибудь лодку, прибрежные жители пускались за ним в погоню. Так прошло четыре месяца. Когда премия повысилась до тысячи пачек табака, он был пойман и возвращен на Новую Георгию, на работу по прокладке дороги. Тысяча пачек табака стоила пятьдесят долларов, и Мауки должен был уплатить эти деньги, то есть работать еще год и восемь месяцев. Теперь Порт-Адамс отодвинулся на пять лет.
Тоска по родине становилась все мучительнее и сильнее. Ему вовсе не улыбалось четыре года терпеливо трудиться, покорно ожидая возвращения домой. И через некоторое время его вновь поймали при попытке бежать. На этот раз о нем донесли мистеру Хэвби, уполномоченному Мунглимской мыльной компании; последний осудил его как неисправимого. Компания владела плантациями на островах Санта-Круц, отделенных от Новой Георгии несколькими сотнями миль. Туда они отсылали неисправимых рабочих с Соломоновых островов. Туда отправили и Мауки, но он не доехал до места назначения. Шхуна остановилась в Санта-Анна, и ночью Мауки сбежал, доплыл до берега, стянул у торговца два ружья и ящик с табаком и в каноэ добрался до Кристобаля. Малаита лежала на севере, в пятидесяти или шестидесяти милях; но, достигнув пролива, Мауки был захвачен небольшим штормом и отнесен назад к Санта-Анна. Здесь торговец надел на него кандалы и продержал у себя до возвращения шхуны из Санта-Круц. Оба ружья вернулись к торговцу, но за ящик с табаком Мауки должен был работать еще год. В общем он теперь был должен компании шесть лет работы.
На пути к Новой Георгии шхуна бросила якорь в проливе Марау, находящемся на юго-востоке от Гвадалканара. С кандалами на руках Мауки поплыл к берегу и скрылся в лесу. Шхуна ушла, но поставщик Мунглимской компании, находившийся на берегу, предложил за поимку Мауки тысячу пачек табака, и лесные жители привели Мауки, к счету которого прибавился еще год и восемь месяцев. До прибытия шхуны он опять пытался бежать, на этот раз на китобойной лодке, с ящиком украденного табака. Но шквал, налетевший с северо-запада, выбросил его на берег Уджи, где туземцы-христиане отняли табак и доставили Мауки проживавшему там мунглимскому поставщику. За отнятый туземцами табак он должен был заплатить дополнительным годом работы. И в итоге получилось восемь с половиной лет.
— Придется отослать его на Лорд Хов, — объявил мистер Хэвби. — Там живет Бэнстер. Пусть они встретятся друг с другом. Или Мауки одолеет Бэнстера, или Бэнстер — Мауки. А мы выиграем в обоих случаях.
Если выйти из лагуны Мериндж у Изабеллы и направиться на север по магнитной стрелке, то, сделав сто пятьдесят миль, можно увидеть выступающие над водой коралловые берега Лорд Хова. Лорд Хов — коралловое кольцо, приблизительно ста пятидесяти миль в окружности, в наиболее широких местах достигающее ста ярдов, — поднимается кое-где на десять футов над уровнем моря. Внутри песчаного кольца находится огромная лагуна, усеянная коралловыми рифами. Ни с географической, ни с этнографической точки зрения Лорд Хов не относится к группе Соломоновых островов. Это настоящий атолл, а Соломонова группа состоит из возвышенных островов. Обитатели Лорд Хова — полинезийцы, а Соломоновой группы — меланезийцы. Еще до сих пор продолжается наплыв западных полинезийцев на берега Лорд Хова; сюда пригоняет их большие многовесельные каноэ юго-восточный пассат. Очевидно, что в период северо-западных пассатов к берегам Лорд Хова прибивает меланезийцев.
Никто не посещает Лорд Хова, иначе именуемый Онтонг-Ява. Компания «Томас Кук и сын» не продает туда билетов, и туристы не подозревают о существовании этого острова. На нем даже нет ни одного белого миссионера. Его пять тысяч жителей отличаются мирным нравом и пребывают в первобытном состоянии. Но они не всегда были миролюбивы. «Руководство для мореплавателей» отмечает их враждебность и коварство. Составители «Руководства», очевидно, не знают о событии, смягчившем обитателей атолла; несколько лет тому назад они напали на одно судно и вырезали весь экипаж, за исключением второго помощника. Этот человек, случайно оставшийся в живых, донес о происшествии своим белым братьям. С тремя торговыми шхунами он вернулся на Лорд Хов. Капитаны ввели суда в лагуну и начали проповедовать Евангелие белого человека: проповедь сводилась к тому, что право убивать белых людей принадлежит лишь белому человеку, а остальные низшие расы должны от этого воздерживаться. Шхуны плавали по лагуне, разрушая и уничтожая все. На узком песчаном кольце негде было скрыться, лесов не было. Выстрелы метко поражали туземцев, служивших прекрасной мишенью. Деревни были сожжены, каноэ разбиты, куры и свиньи истреблены, и самое ценное — кокосовые пальмы — срублены. Это длилось около месяца. Затем шхуны ушли, но ужас перед белым человеком глубоко прожег души островитян, и никогда больше не осмеливались они причинить ему зло.
Макс Бэнстер, представитель вездесущей Мунглимской мыльной компании, был единственным белым на Лорд Хове. Не зная, как от него отделаться, компания загнала его на этот остров, самый отдаленный и затерянный, какой можно было найти. Другого человека на это место трудно было подыскать, и пришлось удовольствоваться Бэнстером. Это был плотный, рослый немец с каким-то изъяном в мозгу. Полусумасшествие — так можно было определить его состояние, относясь к нему снисходительно. Это был буйный забияка и трус, самый дикий из всех дикарей на острове. Трусость его граничила с подлостью. Принятый Мыльной компанией на службу, он получил место на Саво. Потом его хотели заменить чахоточным колонистом, но Бэнстер избил его и полуживого отослал обратно на привезшей его шхуне.
В следующий раз мистер Хэвби избрал заместителем Бэнстера молодого гиганта из Йоркшира. Этот йоркширец заслужил репутацию кулачного бойца и драку предпочитал еде. Однако Бэнстер не желал драться. Он превратился в настоящего ягненка, но всего лишь на десять дней; затем приступ лихорадки и дизентерии свалил с ног йоркширца. Тогда Бэнстер явился к нему и, издеваясь, стащил с постели и стал топтать ногами. Страх перед тем, что произойдет, когда его жертва оправится, заставил Бэнстера бежать на катере в Гувуту. Здесь он проявил себя, избив молодого англичанина, уже изуродованного пулей буров, пробившей ему бедра.
Тогда-то мистер Хэвби и отправил его на Лорд Хов — самое заброшенное место на земном шаре. В честь своего прибытия он осушил полубочонок джина и выпорол старого, больного астмой помощника со шхуны, доставившей его сюда. После ухода шхуны он созвал туземцев на берег и предложил им сразиться с ним врукопашную, пообещав победителю ящик табака. Он повалил трех туземцев, но четвертый быстро его свалил и вместо табака получил пулю, пробившую ему легкие.
Так началось правление Бэнстера на Лорд Хове. В главном селении было три тысячи жителей, но стоило появиться там Бэнстеру, как даже среди бела дня оно становилось словно вымершим и пустым. Мужчины, женщины и дети, едва завидев его, убегали. Даже собаки и свиньи уступали ему дорогу. Сам король не считал для себя унижением прятаться от него под циновку. Оба первых министра тряслись от страха перед Бэнстером, не допускавшим никаких возражений и доводов и разрешавшим все спорные вопросы только кулаками.
И Мауки явился сюда на Лорд Хов, чтобы отработать под наблюдением Бэнстера восемь с половиной долгих лет. Убежать отсюда было немыслимо. Что бы ни случилось — отныне Бэнстер и Мауки были тесно связаны друг с другом. Бэнстер — ярко выраженный тип дегенерата — больше походил на зверя. А Мауки был первобытным дикарем.
И оба отличались сильной волей и настойчивостью.
Мауки не имел никакого представления о своем новом господине. Его никто не предупреждал, и он, конечно, считал Бэнстера похожим на всех остальных белых людей, поглощающих в изобилии виски, правящих страной и предписывающих законы, — на белых людей, которые держат свое слово и никогда без причины не бьют мальчика. Бэнстер находился в лучшем положении. Он знал все о Мауки и горел желанием укротить его и подчинить. У его повара была сломана рука и вывихнуто плечо, и Бэнстер назначил Мауки поваром и слугой в доме.
И Мауки скоро узнал, что белые люди бывают разные. В день отхода шхуны Бэнстер приказал ему купить цыпленка у Самизи, миссионера, уроженца Тонгана. Но Самизи переправился на другой берег лагуны и должен был вернуться только через три дня. Мауки вернулся с этой вестью. Дом Бэнстера стоял на сваях, на высоте двенадцати футов над песком. Мауки взобрался по крутой лестнице и вошел в комнату. Бэнстер потребовал цыпленка. Мауки раскрыл рот, намереваясь сообщить об отсутствии миссионера, но Бэнстеру не было дела до объяснений. Он ударил его кулаком. Удар пришелся по лицу и подбросил Мауки на воздух. Тот пролетел в дверь, миновал узкую веранду, сломал перила и упал на землю. Его разбитые губы превратились в кашу, рот был полон крови и выбитых зубов.
— Посмей еще раз со мной разговаривать, — кричал Бэнстер, побагровев от бешенства и грозно взирая на него через сломанные перила.
Мауки еще никогда не встречал такого белого и потому решил смириться и остерегаться ошибок. Он видел, как были избиты гребцы с лодки, а один закован в кандалы и на три дня оставлен без пищи в наказание за сломанную уключину. Он также слышал всякие пересуды в деревне и понял, почему Бэнстер взял себе третью жену. Конечно, всем было известно, что он захватил ее насильно. Его первая и вторая жены были погребены на белом коралловом кладбище, и глыбы коралла стояли на могилах. Ходила молва, что они умерли от его побоев. И с третьей женой он обращался скверно — Мауки сам это видел.
Напрасны были все старания не прогневать белого человека, казалось, злившегося на все — даже на жизнь. Если Мауки молчал, Бэнстер его бил и называл упрямой скотиной. Когда Мауки начинал говорить, он бил его за непокорные речи. Если Мауки был серьезен, Бэнстер обвинял его в злоумышлении и на всякий случай избивал. Когда же он старался быть веселым и улыбался, Бэнстер принимал это как насмешку и издевательство над господином и повелителем — и награждал палочными ударами.
Бэнстер был сущим дьяволом. Туземцы давно расправились бы с ним, если бы позабыли урок, преподанный им тремя шхунами. Пожалуй, они все-таки отплатили бы ему, если бы был лес, куда можно скрыться. Они знали: убийство белого человека, каков бы он ни был, привлечет военное судно, и белые убьют провинившихся и срубят драгоценные кокосовые пальмы. Гребцы с лодок страстно мечтали при первой возможности опрокинуть — как бы случайно — лодку и потопить Бэнстера. Но Бэнстер зорко следил за ними и не допускал этой случайности.
Но Мауки был из другого теста; уразумев, что бегство невозможно, пока жив Бэнстер, он твердо решил его убить. К несчастью, трудно было найти удобный случай. Бэнстер всегда был настороже. Ни днем ни ночью не расставался он с револьвером. Он никому не позволял идти позади него; Мауки это запомнил после побоев. Бэнстер знал, что этого добродушного и, пожалуй, миловидного малаитского мальчишку следует опасаться больше, чем всех туземцев Лорд Хова. Это сознание увеличивало удовольствие при выполнении составленной им для Мауки программы издевательств. Мауки оставался покорным, принимал наказание и ждал.
Все белые люди уважали его тамбо, но не так относился к ним Бэнстер. Мауки полагалось две пачки табака в неделю. Бэнстер передал табак жене и приказал Мауки получать его из ее рук. На это Мауки согласиться не мог — и остался без табака. Таким же путем его лишали обеда, и часто он ходил голодный. Затем ему приказали приготовить кушанье из ракушек, водившихся в лагуне. Этого сделать он не мог, ибо ракушки были тамбо. Шесть раз он отказывался притронуться к ракушкам и шесть раз был избит до потери сознания. Бэнстер знал, что мальчик скорее согласится умереть, но все же принял его отказ как явный бунт и убил бы Мауки, если бы мог заменить его другим поваром.
Одним из излюбленных приемов представителя Мунглимской компании был следующий: Бэнстер хватал Мауки за жесткие волосы и ударял его головой об стену. Другой прием заключался в том, чтобы прижечь горящим концом сигары тело застигнутого врасплох Мауки. Бэнстер называл это прививкой, и Мауки выносил такую прививку по нескольку раз в день. Однажды, в припадке ярости, Бэнстер вырвал ручку от чашки из носа Мауки и разодрал хрящ.
— Ну и морда! — было единственным его замечанием, когда он увидел нанесенное им повреждение.
Кожа акулы подобна наждачной бумаге, но кожа рыбы-ската жестче терки. Туземцы южных морей употребляют ее вместо деревянного струга для полировки каноэ и весел. У Бэнстера была рукавица, сделанная из кожи этой рыбы. Впервые он испробовал ее на Мауки: одним взмахом руки он содрал всю кожу от шеи до лопатки. Бэнстер был в восторге. Он угостил рукавицей жену, а затем испробовал ее на всех гребцах. Очередь дошла и до первых министров. С искаженными лицами они должны были смеяться и принимать это как шутку.
— Ну, смейтесь же, черт возьми, смейтесь! — приговаривал он.
Ближе всех познакомился с рукавицей Мауки. Ни один день не проходил без такой «ласки». Бывало, боль всю ночь не давала ему заснуть, а Бэнстер часто забавлялся и снова раздирал полузажившее тело. Мауки терпел и ждал, поддерживаемый уверенностью, что рано или поздно пробьет его час. Он обдумал все, до мельчайших подробностей, когда долгожданный день наконец наступил.
Однажды утром Бэнстер поднялся в таком настроении, что готов был выбить «семь склянок» из всей вселенной. Он начал с Мауки и закончил им же, а в промежутках избивал свою жену и колотил подряд всех своих гребцов. За завтраком он назвал кофе помоями и выплеснул горячий напиток в лицо Мауки. В десять часов Бэнстер дрожал от озноба, а спустя полчаса горел в лихорадке. Приступ был необычайно сильный. Болезнь быстро приняла угрожающий характер. То была болотная лихорадка. Дни шли, а Бэнстер все слабел и не поднимался с постели. Мауки выжидал и следил, а тем временем ссадины его заживали. Он приказал туземцам вытащить на берег катер, выскоблить дно и посмотреть, нет ли повреждений. Туземцы повиновались: они думали, что распоряжение исходит от Бэнстера. Но Бэнстер в это время был без сознания и никаких распоряжений не давал. Удобный случай представился, но Мауки все еще ждал.
Наконец кризис миновал, и Бэнстер стал выздоравливать; он находился в полном сознании, но лежал слабый, как ребенок. Мауки уложил все свои драгоценности, включая и ручку от фарфоровой чашки, в дорожный сундук, после чего отправился в селение и переговорил с королем и двумя его главными министрами.
— Этот парень Бэнстер, он — хороший парень, вы его много любите? — спросил он.
Те в один голос поспешили объяснить, что они совсем не любят представителя торговой фирмы. Министры излили все накопившееся в них негодование, перечисляя обиды, нанесенные им. Король не выдержал и заплакал. Мауки резко прервал их.
— Вы меня знаете; мой — большой человек, господин моей страны. Вы не любите того парня, белого господина, и я не люблю. Будет совсем хорошо, если вы отнесете сто кокосовых орехов, двести кокосовых орехов, триста кокосовых орехов и положите на катер. Потом кончите и пойдете спать, как добрые парни. Все канаки — спать, как добрые парни. Будет большой шум в доме. Вы не слышите этот большой шум. Вы совсем спите, крепко и еще крепче.
Такой же разговор Мауки имел с гребцами лодок. Затем он приказал жене Бэнстера вернуться к родным. Если б она отказалась, он был бы в большом затруднении, ибо его тамбо не разрешало ему прикасаться к ней руками.
Дом опустел, и Мауки отправился в спальню, где дремал в постели Бэнстер. Сначала Мауки спрятал револьверы, затем надел рукавицу из кожи ската.
Первый удар, нанесенный Бэнстеру рукавицей, совершенно содрал кожу с носа.
— Ну что — хорошо? — усмехаясь, оскалил зубы Мауки в перерыве между ударами: одним ударом он ободрал кожу со лба, другим — со щеки. — Смейся же, черт возьми, смейся!
Мауки исполнял свою работу в совершенстве, и канаки, прячась по домам, слышали «большой шум» — рев Бэнстера, продолжавшийся час или больше.
Когда Мауки справился с этим делом, он отнес компас и все ружья и патроны на катер и приступил к погрузке ящиков с табаком. Пока он этим занимался, из дома выскочило страшное, лишенное кожи существо и побежало с воплями к берегу, где упало на песок, корчась и визжа под палящими лучами солнца. Мауки посмотрел в ту сторону и задумался. Затем подошел, отрезал ему голову и, завернув ее в циновку, спрятал в ящик на корме катера.
Канаки так крепко спали в тот долгий, знойный день, что не видели, как катер отчалил, вышел из пролива и направился к югу, подгоняемый юго-восточным пассатом. Никто не видел, как катер подошел к берегам Изабеллы, а затем совершил томительный переезд на Малаиту. Он прибыл в Порт-Адамс с таким количеством ружей и табака, какое и не снилось туземцам. Но здесь Мауки не остановился. Ведь он захватил с собой голову белого человека, и только лес мог служить ему приютом. Он ушел в селения лесных жителей, застрелил старого Фанфоа и несколько вождей и стал повелителем всех селений. После смерти его отца в Порт-Адамсе правил его брат, и оба народа — приморские жители и лесные — заключили союз. На новом острове Малаите, среди его двухсот воинственных племен, не было народа сильней и могущественней, чем народ Мауки.
Страх Мауки перед британским правительством уступал место страху перед всемогущей Мунглимской мыльной компанией. Однажды пришло к нему известие, что компания требует с него долг — восемь с половиной лет работы. Он объявил ей свое согласие уплатить все. Вслед за этим появился неизбежный белый человек, капитан шхуны, единственный белый за все время правления Мауки, проникший в леса и возвратившийся оттуда невредимым. Он не только вернулся живым, но унес с собой семьсот пятьдесят долларов в золотых соверенах — плату за восемь с половиной лет работы плюс стоимость нескольких ружей и ящиков табака.
Мауки весит уже не сто десять фунтов. Он отпустил брюшко и имеет четырех жен. У него много всяких вещей: ружья и револьверы, ручка от фарфоровой чашки и превосходная коллекция голов лесных жителей. Но дороже всей коллекции ценит он голову, великолепно высушенную и сохранившуюся, со светлыми волосами и рыжеватой бородой, — голову, завернутую в полосу тончайшей ткани. Когда Мауки отправляется за пределы своих владений воевать с соседними племенами, он неизменно достает эту голову и в уединении своего дворца из зеленых веток и травы долго, с торжеством ее созерцает. И в эти часы безмолвие смерти спускается на селение, и ни один младенец не осмеливается нарушить глубокую тишину. Высоко чтут на Малаите эту голову, — этот могущественный талисман, завладев которым, Мауки обрел власть и величие.
Ях! Ях! Ях!
Он был шотландец и большой любитель виски. Поглощал он виски в огромном количестве, пропуская первую рюмочку ровно в шесть часов утра, а затем, с небольшими перерывами, тянул виски в течение всего дня, вплоть до отхода ко сну, что бывало обычно в полночь. Из двадцати четырех часов он посвящал сну лишь пять, а в продолжение остальных девятнадцати часов неизменно и неукоснительно пребывал в состоянии опьянения. Я провел с ним восемь недель на атолле Улонг и ни разу не видел его трезвым. Вполне понятно: его сон был так непродолжителен, что парень не успевал протрезвиться. Пьянство он возвел в систему; он был самым добросовестным, методичным, непробудным пьяницей, какого мне когда-либо приходилось видеть.
Его звали Мак-Аллистер. Это был старик, нетвердо державшийся на ногах. Руки его дрожали, как у паралитика; особенно это было заметно, когда он наливал себе виски, но я ни разу не видел, чтобы он пролил хотя бы каплю. Он прожил в Меланезии двадцать восемь лет, скитаясь по германской Новой Гвинее и германским Соломоновым островам, и настолько сжился с этим уголком земного шара, что усвоил и местное варварское наречие, известное под названием «beche-de-mer».
Так, в разговоре со мной вместо того, чтобы сказать «солнце взошло», он говорил «солнце встал»; «он будет каи-каи» означало, что обед подан, а «мой живот гуляет» означало боль в животе.
Маленький, сухощавый, сморщенный, казалось, он насквозь пропитан жгучим спиртом, а снаружи опален солнцем. Обожженный кусок кирпича, еще не остывший, полный неугомонной жизни, он двигался порывисто, припрыгивая, словно автомат. Ветру ничего не стоило опрокинуть его и смести. Он весил девяносто фунтов.
Властно управлял он атоллом.
Атолл Улонг имеет сто сорок миль в окружности. Придерживаясь указаний компаса, можно было ввести судно в лагуну. Население атолла состояло из пяти тысяч полинезийцев — высоких, статных мужчин и женщин. Многие были ростом в шесть футов и весили около двухсот фунтов. От ближайшей земли Улонг отстоял на расстоянии двухсот пятидесяти миль. Дважды в год сюда заглядывала маленькая шхуна, вывозившая копру. Единственным белым на Улонге был Мак-Аллистер, жалкий торговец и непробудный пьяница. И он правил Улонгом и его пятью тысячами дикарей, держа их в железных тисках. Если он говорил им «приходите», они немедленно шли к нему; приказывал уйти — и они уходили. Они никогда не противоречили его воле и беспрекословно исполняли его требования. Он отличался сварливостью и придирчивостью, свойственными старым шотландцам, и вечно вмешивался в личные дела туземцев. Когда Нугу, дочь короля, пожелала выйти замуж за Ханау, жившего на другом берегу атолла, отец дал согласие, но Мак-Аллистер не разрешил, и свадьба не состоялась. Однажды король захотел купить у главного жреца маленький островок в лагуне, но Мак-Аллистер воспротивился. Король был должен компании сто восемьдесят тысяч кокосовых орехов и, пока он не уплатил долга, не имел права истратить на что-либо другое хотя бы один орех.
Народ и король не любили Мак-Аллистера. Вернее, они глубоко его ненавидели, и мне было известно, что в продолжение трех месяцев все население, со жрецами во главе, тщетно молило богов о ниспослании ему смерти. Они насылали на него самых страшных своих злых духов, но Мак-Аллистер не верил в них, и духи не имели над ним никакой власти. Этот пьяница-шотландец казался неуязвимым. Они подбирали остатки пищи, которой касались его губы, пустые бутылки из-под виски, кокосовые орехи, выеденные им, и даже его плевки — и произносили над ними всевозможные заклинания. Но Мак-Аллистер оставался здравым и невредимым. Он был необычайно здоровым человеком. Никогда не болел лихорадкой, никогда не простуживался, не кашлял; дизентерия щадила его; злокачественные язвы и всякие накожные болезни, от которых страдали в этом климате и черные и белые в равной мере, словно избегали его. Он был так пропитан алкоголем, что бациллы погибали. Я представляю себе, как они, придя в соприкосновение с насыщенными алкоголем испарениями его тела, тотчас же испепелялись. Никто его не любил, даже бациллы, а он любил только виски и жил себе припеваючи.
Я был в недоумении. Я не мог понять, почему пять тысяч туземцев покорно терпят гнет этого сморщенного карлика. Чудом казалось, что он до сих пор не погиб. Местное население не походило на трусливых меланезийцев, оно отличалось гордым и воинственным характером. На большом кладбище, на могилах, покоились реликвии минувших кровавых дней: лопаты для китового жира, старинные ржавые штыки и кортики, медные болты, железные обломки руля, гарпуны, бомбы, брусья; все это могло быть завезено сюда лишь каким-нибудь китобойным судном; а старинные медные монеты шестнадцатого века подтверждали предание о первых навигаторах — испанцах. Много кораблей погибло у берегов Улонга. Около тридцати лет назад китобойная шхуна «Бленнердэль», войдя в лагуну для ремонта, подверглась нападению, и весь экипаж был вырезан. Таким же образом погиб и экипаж судна «Гаскет», торговавшего сандаловым деревом. Большое французское судно «Тулон», застигнутое штилем возле атолла, было взято островитянами на абордаж и после жестокой схватки затоплено в проливе Липау. Капитан и несколько матросов спаслись на баркасе. О гибели одного из ранних исследователей этих морей свидетельствуют также испанские монеты. Все это достоверные исторические факты, записанные на страницах «Руководства по мореплаванию на юге Тихого океана». Но мне суждено было узнать иные факты, нигде не отмеченные. Повторяю, меня изумляло, почему пять тысяч первобытных дикарей так долго щадят жизнь этого пьяницы, дегенерата и деспота.
Однажды в жаркий день я сидел с Мак-Аллистером на веранде, любуясь лагуной, искрившейся, словно драгоценные камни. За нами, на расстоянии сотни ярдов от пальмовой рощи, ревел прибой, бросаясь на рифы. Жара стояла невыносимая. Мы находились под четвертым градусом южной широты, и солнце стояло как раз над головой; лишь несколько дней назад оно на пути своем к югу пересекло экватор. Не только ветра — даже ряби не было на поверхности лагуны. Период юго-восточных пассатов закончился раньше обычного, а северо-западный пассат еще не начинал дуть.
— Ни к черту не годятся их танцы, — сказал Мак-Аллистер.
Я только что вскользь заметил, что полинезийские танцы значительно красивее папуасских, а Мак-Аллистер из духа противоречия это отрицал. Было слишком жарко, чтобы затевать спор, и я ничего не ответил. Кроме того, я ведь никогда не видел танцев жителей Улонга.
— Я докажу вам, — добавил он и подозвал чернокожего, уроженца Нового Ганновера, завербованного рабочего, исполнявшего у него обязанности повара и домашнего слуги.
— Эй ты, послушай, скажи королю, пусть сейчас же придет ко мне.
Негр ушел и вернулся в сопровождении первого министра. Этот, смущенный, стал бормотать бессвязные извинения. Короче, оказалось, король спал, и его нельзя тревожить.
— Король совсем крепко, хорошо спит, — закончил он свои объяснения.
Мак-Аллистер так рассвирепел, что первый министр тотчас же убежал и вернулся с королем. Это была великолепная пара; особенно хорош был король — не менее шести футов и трех дюймов ростом. В чертах его лица просматривалось что-то орлиное; такие лица часто встречаются у индейцев Северной Америки. Его внешность вполне соответствовала высокому сану правителя страны. Глаза его сверкнули, когда он выслушал Мак-Аллистера, но, быстро овладев собой, он повиновался и приказал собрать сотни две лучших танцоров селения, мужчин и женщин. И в течение двух бесконечных часов они танцевали под ярким, палящим солнцем. Вот за такие издевательства они и ненавидели его, а он вовсе не замечал их ненависти; наконец он их отпустил с ругательствами и насмешками.
Рабское смирение этих гордых дикарей было возмутительно. Как объяснить его? В чем секрет его власти? С каждым днем мое недоумение возрастало. Видя бесчисленные примеры его неограниченной власти, я не мог найти подходящий ключ к разгадке тайны.
Однажды я случайно поделился с ним своим огорчением по поводу несостоявшейся покупки двух великолепных оранжевых раковин. В Сиднее такие раковины стоят пять фунтов. Я предложил владельцу двести пачек табака, он же требовал триста. Когда я так необдуманно рассказал обо всем Мак-Аллистеру, тот немедленно послал за владельцем раковин, отнял их у него и отдал мне. Больше пятидесяти пачек табака он не позволил мне уплатить. Негр взял табак и, казалось, был в восторге, что так легко отделался. Я же решил держать впредь язык на привязи. Тайна могущества Мак-Аллистера продолжала меня мучить. Я дошел до того, что обратился за разъяснением прямо к нему, но он только прищурился, принял глубокомысленный вид и налил себе виски.