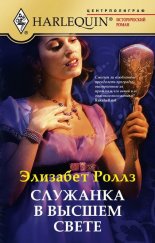Ричард Длинные Руки – фюрст Орловский Гай

– Это только предположение, – предупредил я. – Возможно, на островах от Древних какой-то гадости больше, чем в других местах? И это опасно для Юга… впрочем, и для Севера, но Юг хотя бы догадывается, что отсюда может выползти…
Он еще раз перекрестился, очень необычный для него жест, я подумал, что я в этом отношении еще пиратистее, перекрестился размашисто и сказал громко:
– Господи, избавь нас от… сам знаешь от чего, тебе виднее. Аминь!
Ордоньес посмотрел с подозрением, что-то не замечал за мной набожности, но смолчал, а с клотика раздался ликующий вопль:
– Других дыр не видно!
– Слава Господу, – сказал Ордоньес с чувством, но креститься не стал, будет слишком, Господь и так все видит и слышит, не глухой. – Знаете, ваша светлость, я напросился с вами на легкую прогулку, но, поверите ли, теперь даже ночью спать ложусь одетым и с мечом в руке!
– Ну это вы уж слишком, – мягко упрекнул я. – Не каждый же день будет попадаться всякое…
– Хорошо бы, – сказал он, – но только статуя скоро зацветет! Там уже почки набухли. И еще… веточки начинают лезть прямо из обшивки. Если такое же и на днище, то это замедлит движение… а потом, не знаю, но корабль может и вовсе рассыпаться…
Сперва это выглядело как облачко, показавшееся из-за горизонта. Облачко на бесконечной голубой глади. Попутный ветер гнал корабль резво, клочок белого тумана на зеленоватой воде моря разрастался, я успел заметить, что он не меняет формы.
Я посмотрел на сияющую синь, солнце уже опускается к грани между небом и землей, одинокое облачко начало розоветь в ожидании заката, море медленно засыпает, ветер почти утих.
– Я буду в каюте, – сказал я Ордоньесу. – Если что, кричите.
– Да уж, – ответил он с сарказмом, – конечно, сразу «караул», а как же.
В каюте я снова развернул карту, кое-что дополнил, память услужливо раскрывает все, что видел, теперь бы понять, что увидел и что из увиденного может во что вылиться.
Что острова не под единым правлением, это уже известно, хотя и непонятно. Мне кажется, обязательно сильный правитель должен попытаться подгрести все под свою руку. И если этого все еще не произошло, то нечто более сильное, чем его воля и армия, сдерживает экспансию…
В дверь послышался стук, я поморщился, крикнул:
– Ну?
Голос мой прозвучал грозно, так что если кто-то сунулся с пустяком, то испугается и уйдет, за дверью в самом деле в нерешительности посопели, затем донесся робкий голос:
– Ваша светлость, команда волнуется…
– Войди, – велел я.
Вошел незнакомый матрос, поклонился непривычно низко, почти как придворный, а не как гордый пират.
– Ваша светлость, – повторил он, – статуя…
– Что, – сказал я, – сошла с носа и гуляет по палубе?
Он испуганно всхрюкнул:
– Гуляет?.. Нет, ваша светлость, еще не… а что, может?
– Ну да, – ответил я, – сколько ей еще стоять там, прикованной… Так что с нею?
– Веточки, – выдохнул он, – уже зацвели…
Холод прокатился по моему телу, но я сказал натужно беспечно:
– А что за цветы?
Он дернулся.
– Цветы?.. Да кто их… белые какие-то…
– Пчелы летят?
– Ваша светлость, – проговорил он в испуге, – какие пчелы тут, среди моря…
– Морские, – ответил я. – Столько плаваешь и не встречал еще? Морских коров видишь каждый день, а пчел… Темнота! Цветы хорошо пахнут?
– Н-н-не знаю, – проблеял он. – Не нюхал. Никто не подходит близко.
Я поднялся, отодвинул стул.
– Пойдем. Я как раз случайно хороший гербист. Это не по гербам, а по всякой и даже разной растительности знаток, умелец и вообще еще тот, понял?
– Да, ваша светлость, ага, хоть и не понял, но вы уж взгляните как бы сами и даже лично…
На палубе такой легкий ветерок, что почти штиль, небо вместо невинной голубизны уже зрело-синее, торжествующее, весь запад полыхает в несказанной пышности божественного заката, облака уже не облака, а плотные воздушные горы, хребты исполинские, внушающие оторопь и смирение…
На палубу, мачты и даже на море пал багровый отблеск пылающего неба, только статуя «Богини Морей» вся зеленая, окутанная множеством мелких веточек.
Я подошел вплотную, на веточках в самом деле начали распускаться крупные белые цветы, чистые и невинные, запах тоже чистый, без примеси сладости или чувственности.
– Хороший знак, – воскликнул я с чувством. – Что вы за люди, почему всегда толкуете себе на беду? Господь нас любит и посылает нам одобрение!
Юрген выдвинулся из толпы матросов.
– Нам? Одобрение?.. Ваша светлость, а кого же тогда в ад, если одобрение нам?
– Кого в ад, а кого в рай, – сказал я, – придумали люди. На самом деле у Господа, может быть, совсем другие намерения. Он слишком велик, чтобы нам дерзновенно пытаться угадать его желания. Тем более, как мне кажется, среди вас маловато докторов богословия и профессоров каббалистики?
Они с подозрением косились друг на друга, будто уже заподозрили в излишнем для мужчины умничании.
– Чистые белые цветы, – сказал я, – сулят для умных успех, а для дураков – удачу, так что всем нам что-то да обломится! А теперь идите пьянствовать, богословы!
С мостика прогремел крик:
– Отдать якорь!
Загремело железо, тяжелый якорь со следами молота на железных раскоряченных лапах грузно обрушился в воду. Взлетели брызги, я проследил взглядом за уходящей вниз тяжелой болванкой. Рядом со мной остановился крепкий матрос с мощной грудной клеткой, тоже смотрит вслед, но именно смотрит, а я созерцаю: если якорь не зацепится за дно, этому герою придется нырять и попытаться вручную зацепить рогом за грунт.
На каждом корабле, даже коггах, есть эти «якорные ныряльщики», у них оплата почти такая же высокая, как у корабельных плотников. Именно от якоря зависит, останется корабль на месте либо же его ветром снесет на рифы, мель или разобьет о скалистый берег.
Насколько помню, на мелях Гудвин-Сэндз, что чуть северо-восточнее Дувра, из-за плохих якорей разбивались не только отдельные корабли, но и целые эскадры. Там сгинули тысячи кораблей, а моряков – десятки тысяч, так как их якоря не могли удержать корабли. А чего стоит катастрофа на рейде Даунс, когда всю эскадру адмирала Бьюмонта, а это тринадцать линейных кораблей, выбросило на скалистый берег и разбило в щепки?
Ладно, их не жалко, мне будет жалко, только если что-то случится с этими двумя красавцами кораблями, они ж мои. Ордоньес как-то обмолвился, что, когда вышли из порта Черри, на всех кораблях было по тридцать якорей, а сейчас всего по два, несмотря на то что с погибших успели снять все, включая якоря.
Я слыхал, чему никак не могу поверить, что раньше якоря все были одноразовые: как только корабль поднимал паруса, якорный канат просто обрезали, и он оставался на дне. Но даже если это вранье, то все равно якоря приходится брать с большим запасом: либо зацепится на грунте так, что не могут поднять, либо канат лопается под напором шторма, либо приходится обрезать самим в опасной ситуации, когда нужно уйти срочно.
И потому, конечно, надо не забыть разместить заказ на якорные цепи. Хотя их придумал и оснастил свои корабли еще Александр Македонский, но еще полторы тысячи лет мир тупо пользовался канатами из пеньки, хотя меня выворачивает, когда вижу, как вместо каната поднимают нечто чудовищное и толстое, жутко облепленное илом и жидкой глиной. Такую веревочку, толщиной с бедро взрослого мужчины, попробуй отмыть, а потом еще надо высушить до того, как уложишь в бухту, иначе сгниет, и на следующий раз якорь точно останется на дне, а корабль понесет ветром, хорошо – если в море, а если на берег?
Вообще-то, учитывая, что подъем якоря – тяжелейшая и отвратительнейшая работа, могу понять желание просто оставить его на дне. Обычно якорь поднимают самые дюжие и тяжелые матросы, иногда по пятьдесят человек, это же надо представить, а так как такой толстый канат не накрутишь на барабан, то матросы по нескольку часов выхаживали шпиль, упираясь в огромные рукояти-вымбовки.
А пока корабль стоит на месте, приходится канат постоянно приспускать, избегая трения в одном месте. Потому и клюзы отделываются свинцом, чтобы тоже не перетерлись…
Нет, поставим только железные. Это новые рабочие места, потребуется много руды, угля, опытных кузнецов, а рабочую силу нужно кормить, где-то размещать, это привлечет добавочных строителей, поваров…
Глава 10
Был соблазн ночью снова попорхать над островами, но какие-то они слишком уж не мирные, где-то да шарахнет так, что разнесет в клочья, лучше пойду отосплюсь впрок… Однако я отогнал трусливые мысли и все-таки с полночи поптеродактилил на большой высоте, куда вообще-то не должны достать никакие стрелы.
Никто меня не остановил, но я сам мудро не стал нарываться на неприятности, запомнил расположение островов и тихохонько вернулся на корабль.
Море покрыто гибкими пластинами серебра, живое серебро, вспомнил я выражение из детства. Словно миллион миллионов блестящих рыб плывут по поверхности, то выскакивают, то погружаются в темные пугающие бездны.
Утреннее или вечернее солнце одинаково подсвечивает волны, я постоял, наблюдая за робким стыдливым рассветом, отыскал взглядом вчерашнее облачко и обнаружил, что оно уже совсем близко, только это не облако, а исполинская гора, что вырастает прямо из воды.
Обомлевши, я стоял на палубе, глазел. Юрген благочестиво перекрестился. Я перехватил его взгляд, всмотрелся, мороз пошел по шкуре. Гора выглядит древней, похожей на исполинскую глыбу мела, в трещинах, с навесами и кавернами, на одной из плит стоит фигура, которую я принял сперва за каменный столб, присмотревшись, сперва не поверил глазам.
Во-первых, размеры: фигура превосходит все мыслимое подобного сорта – наш корабль не больше пальца на ее руке, во-вторых, сама статуя изображает словно бы Венеру Милосскую, принявшую христианство. Безукоризненное лицо, чувственная фигура, но задрапированная в тяжелые одеяния, голова покрыта капюшоном, из-под которого выбиваются крупные локоны. Глаза смиренно опущены, голова чуть набок, а руки сложены на животе в христианском жесте смирения и покорности.
– Кто? – прошептал я. – Кто… мог сотворить такое?
Корабль двигался, подгоняемый попутным свежим ветром. Ордоньес умело ведет под углом к белой скале, намереваясь обогнуть, и тут меня тряхнуло снова: за поворотом начали выступать колонны, белоснежные, чистые, каждая в поперечнике с небоскреб, но видно же, что сплошной камень… Какие силы вытесали из цельной горы?
Я посмотрел за борт, по телу пробежала легкая дрожь. Корабль идет над огромной глубиной, взгляд легко проникает в глубь чистейшей воды на десятки метров, если не на сотни, гора уходит отвесно, там, дальше, постепенно темнеет, мне начало казаться, что это чудовищное образование поднимается чуть ли не от самого ядра планеты.
Впереди показался камень синего цвета, в нем отверстие, вода плещется там и шумно лижет стены. Мне камень показался камешком рядом со статуей христианской Венеры и чудовищными колоннами, но мы приближались и приближались, Ордоньес вел корабли настолько уверенно, словно ходил здесь не раз, у меня сердце замерло, когда я осознал истинные размеры и камня, и дырочки в нем.
Корабль прошел свободно, от верхушки мачты до свода можно поставить еще два таких корабля, а справа и слева одновременно с нами проплыли бы десяток каравелл.
Я оглядывался с потрясенным видом, сердце стучит взволнованно, а дыхание вырывается из моей груди хриплое, словно я побежал от этой горы бегом.
На краю камешка, справа от дыры, через которую мы проплыли, как кот на солнышке, устроился огромный трехэтажный дворец из белого камня. Он красиво контрастирует с синевой основной глыбы, сказочно отражается в прозрачной воде.
Ко мне на мостик поднялся Вебер, усы лихо закручены кверху, вид бодрый и бравый.
– Дворец Древних Королей, – проговорил он с великим почтением. – Чтобы его построить, с той белой горы туда семьсот лет возили камень… Но какое чудо выстроили!
– Семьсот лет, – повторил я. – Значит, был здесь период стабильной экономики? Семьсот лет без потрясений, падений курса, смены династий… хотя династии могли меняться, это ерунда, но без смены религий, даже без расколов, ересей, альбиносов всяких, то бишь альбигойцев…
На мостик поднялся Ордоньес, метнул сердитый взгляд на Вебера, но тот моментально исчез, сам капитан и знает насчет правил.
Ордоньес посопел сердито, глядя ему вслед, затем наклонился ко мне, дохнул парами вина.
– Ваша светлость… – голос его звучал мирно и вкрадчиво, – гм… как бы это сказать…
– Да так и говорите, – предложил я. – Какие между нами экивоки? Режьте мне прямо в глаза правду-матку насчет того, какой я мудрый, талантливый и прекрасный!
Он посмотрел на меня исподлобья.
– Да? Ну тогда ладно. Я заглянул к вам где-то за полночь…
Я охнул, спросил с беспокойством:
– С какой целью?
Он поморщился.
– Ваша светлость, ничего порочного, уверяю, хотя мы подолгу без женщин. И не убивать вас приходил.
– Тогда даже не представляю, – пробормотал я. – Неужели даже целебный морской воздух не спасает от бессонницы? А я уж собирался его продавать в склянках… Ну тогда точно вам, граф, пора разводить овец. Чтобы считали перед сном. Белых-черных, белых-черных…
Он покачал головой.
– Сплю, как бревно, как и положено мужчине. Просто вопрос возник один деликатный… но когда заглянул к вам, вас в каюте не оказалось. Тогда я, не поднимая шума, обошел весь корабль. Милорд, я знаю все закоулки, от меня мышь не схоронится! Но вас не обнаружил.
Я посмотрел с укором.
– Граф, как же вы недооцениваете мою заботу о народе, его благополучии, просвещении, подъеме экономики, создании новых рабочих мест, терпимости и толерантности! Я настолько ушел в себя, что стал незаметен для вульгарного быта со своими государственными планами, ибо у вас на виду только личное, близкое и сугубо вещественное!.. У меня, кстати, тоже, но я могу уходить мыслью в суть вещей, а тогда меня, конечно, узреть трудно, вы же в суть не смотрите!
Он кивнул пару раз в начале моей тирады, но потом только смотрел с подозрением, слушал и наблюдал за моим предельно честным лицом.
– А там, – спросил он, – в тех глубинах… что?
Я вздохнул:
– Ох, и не спрашивайте, граф. Суета сует и всяческая суета, даже не приправленная высокими словами. Там все прямо и настолько честно, что отвратительнее и не придумаешь! У нас же все построено на лжи, постоянной и непрекращающейся. Все началось с того, что Ева соврала насчет яблока, и благодаря этой лжи возникло общество, цивилизация, эти вот гигантские корабли!.. Но будь мы честными, остались бы стадом диких обезьян… Простите, граф, я что-то разговорился, но мне было так грустно в глубинах сознания, подсознания и внезнания, что я вот как бы вот так, ага?
Он сказал оцепенело:
– Ох… как хорошо, что я не пошел учиться, как родители принуждали…
Остров с белоснежным дворцом уплыл, но не успел исчезнуть из виду, как начал приближаться другой, высокий, словно торчащая из моря гора, но странная: вершина почему-то больше, чем основание.
Я присмотрелся, раньше других с дрожью во всем теле понял, что это не гора, а… дерево. Чудовищно огромное, толстое, вершиной вот-вот достигнет облаков, и… каменное. Однако, чувствую, что и каменное продолжает расти. Когда-то здесь явно был остров, но дерево подмяло под себя и землю, и камни, размололо на минералы, поглотило и сожрало корнями, а теперь дерево запускает их все глубже в земную твердь.
Подошел Юрген, огромный, косолапый, с угрожающе раздвинутыми руками, но у него в самом деле глыбы косых мышц не дают рукам плотно прилегать к бокам.
– Боже правый, – выдохнул он, – куда мы вторглись? Того и гляди, вот так и…
Он умолк и пугливо перекрестился. Яков спросил подозрительно:
– Что? Чего язык прикусил?
Мощный рык Юргена прозвучал как-то непривычно жалобно и тонко, словно скулила мышь:
– А вдруг еще и на левиафана напоремся…
– Какого?
– Да любого, – ответил он страшным шепотом и посмотрел по сторонам, не подслушивает из-за ящиков какой-нибудь из левиафанов. – Говорят, их на всем свете двое. Самец в северном море, самка – в южном. Если встретятся, миру конец…
Я сказал пораженно:
– Так ты Библию читал?
– Да, ваша светлость.
– Что случилось?
– Да слабый в детстве был. Все говорили, что помру скоро. Вот и читал, чтобы подготовиться…
– И как, помогло?
Он покачал головой.
– Нагрянули пираты, деревню пограбили, а меня и еще троих забрали на корабли, чтобы прислуживали за столом. Морской воздух как-то выходил…
Он нависал надо мной, как медведь гризли над сусликом, от него по всему кораблю распространяется ощущение дикой силы.
– Морской воздух, – согласился я, – вещь… В самом бы деле наладить какую-то коммерцию. Эх, не пришло еще это время.
Каменное дерево-гигант осталось за кормой, мимо поплыли мелкие острова, даже издали видно, что людей там нет, а если бы кого и выкинуло кораблекрушением, то прожили бы недолго. Пусть там и много крабов на берегу, а еще вон даже омары ползают, но без пресной воды как-то не весьма.
Еще пара островов с густым лесом, холмами, но если там и есть люди, но одна-две деревушки среди деревьев, неинтересно. Затем большие острова, даже в ночи я видел с большой высоты города и четкие ниточки дорог, а в уютных бухтах стоит на рейде множество кораблей, из которых самые крупные – когги.
На всякий случай их обошли по широкой дуге, Ордоньес все оглядывался, но никто не бросился в погоню, хотя наверняка нас видели и оценили грозную мощь огромных кораблей.
– Уважают, – сказал он довольно, хоть и с некоторым разочарованием. – Очень уважают…
– Розы прививают любовь к природе, – согласился я, – а шипы – уважение.
Он захохотал, довольный.
– Точно! Хочешь, чтобы уважали, подведи корабль поближе и поставь у борта два ряда арбалетчиков со взведенными тетивами.
Из «вороньего гнезда» на клотике донесся вопль:
– Земля!
– Восьмая за сегодня, – сказал Ордоньес.
Дымчатый силуэт острова появился сперва словно акварельный рисунок, затем обрел четкие и даже резкие линии. Матросы подбежали к борту, обнаженные до пояса, с подвернутыми штанами, посмотрели и разбежались по мачтам в ожидании неизбежной команды сбавить ход.
– Остров хорош, – сказал Ордоньес задумчиво, – но что-то не видать жилья…
– Может быть, – предположил Юрген, – в глубине?
– И никто не ловит рыбу? – поинтересовался Ордоньес. – Не собирает водоросли, крабов, ценные раковины?
Он посмотрел на меня, я пожал плечами.
– Языческие боги бывают весьма зелыми. Может быть, вообще запрещают умываться!
Ордоньес хмыкнул.
– И что в этом зелого?.. Умываться должны женщины и хомячки. Как я понял по жаркому дыханию у меня за спиной, кому-то не терпится, да? Кто-то жаждет высадиться?
Яков и Мишель поспешно отступили, но Юрген покосился в мою сторону и прогудел довольно:
– Точно! У нас же теперь просто прогулка с катанием по водам его светлости… Почему не посмотреть, что там глыбже? Вдруг его светлость пожелает там замок выстроить?.. Или на мышей поохотиться?
Ордоньес сказал в задумчивости:
– Ну, разве что на мышей, раз от драконов уже тошнит… Хорошо, если его светлость изволит позволить восхотеть…
Они все смотрели в ожидании, я сказал весело:
– Почему нет? Мы как бы прогуливаемся на яхте после трудов праведных… в нашем истолковании? Готовьте лодку.
Ордоньес сказал Юргену:
– Спускай шлюпку на воду.
– Слушаюсь, – ответил Юрген браво и заорал: – Шлюпку на воду!
С палубы раздался ответный вопль:
– Шлюпку на воду!.. Шлюпку на воду!
Да запомнил я уже, мелькнуло у меня в голове, запомнил, можете не повторять. Здесь нет лодок, и вообще непонятно, что это такое, а только шлюпки… И по морю не плавают, а ходят, потому что сказать, будто моряки плавают, это назвать их говном…
Остров с прекрасным пляжем, песок блестит под солнцем, волны накатывают медленно, лениво, не потревожили бы и ребенка, копающегося в песочке, да только нет и следа человеческого присутствия, хотя с лодки вижу стайки крупных рыб, толстых и глупых, жирных настолько, что сразу на сковородку; на берег вышла группа крабов и направилась деловито за кокосами…
Юрген покрикивал, заставляя убыстрять темп, лодку разогнали и разом подняли весла, и она с разбега выскочила на берег и проскрипела днищем по песку.
Моряки выскочили и встащили ее, уже пустую, повыше. Двое остались охранять, а Юрген с горящими глазами, чуть не повизгивая, оглянулся на меня.
– Ваша светлость?
– Веди, – согласился я.
В лицо дул несильный свежий ветер, листья тревожно трепещут, но тяжелые ветки лишь небрежно покачиваются, царственные в полуденной лени.
Деревья стоят так плотно, что часто приходится протискиваться боком, однако все равно светло и даже солнечно. Юрген начал посвистывать, Яков и Мишель то и дело обгоняли, бахвалясь, что проскакивают между деревьями, как юркие зайцы.
Юрген вдруг сказал довольно:
– Ого, а людишки здесь бывали…
Дальше земля неровная, даже холмистая, сердце сжалось, это же рассыпавшиеся руины чего-то крупного, настолько древние, позеленевшие и обросшие мхом, что уже неотличимы от таких же давно упавших деревьев.
Яков шаркал подошвой по траве, морщился, матерился.
– Бывали, – подтвердил он зло.
Сами деревья все выше и массивнее, зато уважительно держатся на расстоянии одно от другого. Мы двигались уже попарно, мелкие зверьки прыскали из кустов, шелестели в траве, а впереди медленно открылся за редеющей оградой странный, лишенный всякой растительности гигантский круг…
Деревья выпустили нас на простор, перед нами не просто круг без деревьев и кустов, как показалось сперва, а утоптанная земля, что пологой воронкой уходит к центру.
Все насторожились, начали подходить с опаской, на утоптанную землю вступили осторожненько, плотная, как камень, заметно ниже той, что еще не тронута…
Юрген прошел дальше, опускаясь ниже и ниже, хотя уже видно, что внизу в самом центре пусто. Странная воронка на первый взгляд выглядит оттиском в земле гигантской лейки, на второй – составленной из все уменьшающих колец, подогнанных настолько точно, что между ними ни тени зазора.
Яков охнул, указал трясущимся пальцем на другую сторону. Там, на самом краю воронки, задрожало и рухнуло дерево. Через ствол не перешагнула, а растоптала его в труху и двинулась по краю странного кольца чудовищно исполинская фигура… вроде бы человеческая, но серая с головы до ног и… у нее, как теперь вижу отчетливо, больше чем две руки.
– Отходим, – велел я. – Мне кажется… пройдет здесь, где стоим.
– Всем за деревья! – скомандовал Юрген.
Они отступили послушно, хотя в недоумении переглядываются, я всматривался в фигуру, что-то странное и непонятное, пока не сообразил, что она танцует! И рук потому не сосчитал сразу, она ими двигает резко и быстро, но теперь вижу, что их шестеро, как у индийской Кали или эллинской Гекаты, хотя это может быть и Хакини, у той тоже шесть рук и третий глаз на лбу… Лучше бы она, не такая кровожадная, как Геката, а уж Кали так вообще чудовище…
Огромная фигура, в три моих роста, как теперь вижу, двигается строго по кругу. Все мы услышали тяжелые и частые удары о землю. Каменное шестирукое изваяние идет в заученном странном танце, явно созданном именно для нее, где почти вся пляска в движении рук, без всяких особых подскоков и поворотов.
Теперь видно, что из-за спины выглядывает что-то вроде сложенных крыльев, тоже каменных.
Рядом со мной хрипло дышит Юрген, руки сжимают тяжелый топор, остальные тоже прижались к земле с оружием наготове, их глаза неотрывно следят за приближающимся чудовищем.
Яков сказал с нервным смешком:
– Дать бы ей в каждую руку по мечу…
– Не возьмет, – ответил я.
– Почему?
– У нее две руки для мужа, – объяснил я, – две для ребенка и две для себя, такой замечательной…
– В смысле?
– Для утех, – объяснил я. – А если еще и муж появится, то обнимать чтоб крепко.
Он перекрестился и сплюнул.
– У такой муж? Господи упаси, не дай бог, если еще и дети пойдут, миру хана…
Тяжелые ноги шестирукого чудовища несут строго по протоптанному, уже вбитому в землю, так мне показалось с первого взгляда, затем увидел, что с внешнего края при каждом шаге осыпаются комочки земли, а широкие подошвы втаптывают с такой силой, что уже с первого прохода становятся плотными, как камень.
Юрген тоже, похоже, догадался, посмотрел на меня с вопросом в глазах:
– Ваша светлость… она расширяет, да?
– Вроде бы, – пробормотал я. – По миллиметру за круг… или по два… но расширяет.
– Затопчет весь остров?
– Может быть, – согласился я. – Хотя сперва топталась на месте, судя по яме, потом что-то заставило в разгон…
Шестирукая статуя уже приблизилась и медленно пошла мимо. Ноги бьют в землю мощно и однообразно, хотя и в ритме, но на них мало обращаешь внимание, завороженный чудовищным танцем рук, гранитных, но гибких, словно из шелка. Плечи широки, но мы привычно, по-мужски, засмотрелись на три пары грудей, полных, торчащих, с выпуклыми каменными сосками. За спиной в самом деле крылья, серые, в мелких щербинках, прилегают не плотно, а как бы готовы мгновенно раскрыться и метнуть тяжелое тело в небо.
Я проводил ее взглядом, поднялся и вышел к краю круга. Статуя удалилась в странном танце, на меня никакого внимания, думаю, не обратила бы, даже если бы я стоял рядом или прыгал перед нею.
Юрген сказал азартно:
– Я придумал, как ее свалить! Набросить канаты или сеть, а потом дернуть как следует!
– И что? – спросил я. – Будет дергаться и лежа. И такую яму выроет… Нет уж, тут хоть предсказуемо. Эти деревья еще лет десять простоят, пока доберется и растопчет.
– А потом? – спросил он. – Войдет в воду и будет плясать на дне вокруг острова?
Я пожал плечами.
– Кто знает. Может быть, вода блокирует солнечный свет, которым она питается, и тогда помрет от голода?
Он посмотрел вслед с жалостью.
– А я бы что-нить придумал…
Яков сказал ехидно:
– Поцеловал бы, молодец. И она бы превратилась… Или тебя бы…
Юрген посмотрел на него с угрозой в ясном взоре.
– Поговори у меня! Свяжу и брошу у нее на дороге.
Глава 11
Я смотрел вслед удаляющемуся чудовищу, явно же оно когда-то танцевало на месте раз в год по большим праздникам. Потом… когда люди исчезли, стояла несколько веков в неподвижности. Затем по истечении лет или веков что-то случилось… к примеру, подземный толчок, крохотное такое землетрясение, что улавливают только чуткие муравьи. Никто ничего не заметил, но танцующую статую сдвинуло на миллиметр, в ней тоже что-то сдвинулось, и самопроизвольно начала прерванную ритуальную пляску. Но теперь центр проходит не строго через центр ее тела…
Через несколько лет уже ходила в танце на крохотном утоптанном ее ногами пятачке, с каждым годом расширяя его больше и больше. Земля внутри утоптанного круга стала плотнее камня, ни одно зернышко не прорастет, но у меня странное ощущение, что на каждый круг у нее отпущен некий лимит времени или энергии… Потому сперва годами топталась на месте, вбивая землю глубже и глубже, а каждый расширяющийся круг все выше и выше. Возможно, через несколько лет уже не сможет землю втаптывать, не будет успевать… или же начнет двигаться так быстро, что перегреется и разлетится на куски…