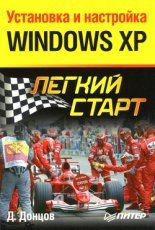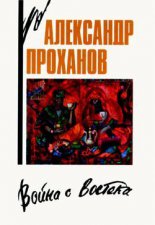Подарки фей Щеглова Ирина

«В этом году мы устроим праздник маиса, – сказал он Красному Плащу. – Войны не будет».
Этим дело и кончилось.
Фараон замолчал и поднялся на ноги.
– Да, – сказал Пак, тоже вставая. – И что же в конце концов из этого вышло?
– Не забегай вперед, – рассеянно произнес Фараон. – Смотри-ка, я и не знал, что уже так поздно. Ишь как на том баркасе торопятся к ужину.
Дети посмотрели на потемневший пролив. Чей-то баркас, покачивая зажженным фонарем, не спеша скользил к западу, где перемигивались огоньки на Брайтонском пирсе. Когда они обернулись, вокруг было пусто.
– Там уже, наверное, все упаковали, – сказал Дан. – Завтра в это время мы будем дома.
ЕСЛИ
- Если ты в обезумевшей, буйной толпе
- Можешь выстоять, неколебим,
- Не поддаться смятенью – и верить себе,
- И простить малодушье другим;
- Если выдержать можешь глухую вражду,
- Как сраженью, терпенью учась,
- Пощадить наглеца и забыть клевету,
- Благородством своим не кичась, —
- Если веришь мечте, но не станешь рабом
- Даже самой прекрасной мечты,
- Если примешь спокойно Триумф и Разгром,
- Ибо цену им ведаешь ты;
- Если зная, что плут извратил твою цель,
- Правда стала добычей враля
- И разрушено всё, что ты строил досель,
- Ты готов снова строить с нуля, —
- Если, бровью не дрогнув, ты можешь опять
- Достояньем добытым рискнуть,
- Всё поставить на карту и всё проиграть,
- Не жалея об этом ничуть;
- Если даже уставший, разбитый в бою,
- Вновь собрать ты умеешь в кулак
- Силы, нервы, и сердце, и волю свою
- И велеть им держаться – «Вот так!», —
- Если прямо, без лести умеешь вести
- Разговор с королем и с толпой,
- Если, дружбу и злобу встречая в пути,
- Ты всегда остаешься собой;
- Если правишь судьбою своей ты один,
- Каждый миг проживая как век,
- Значит, ты – настоящий мужчина, мой сын,
- Даже больше того – Человек!
Священник поневоле
КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА ОСТРОВЕ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ
- Далек ли путь от мальчика, смотрящего парад,
- До острова пустынного на юге?
- Ах, не зовите, матушка, он не придет назад!
- (И кто ж весною думает о вьюге?)
- Далек ли путь до острова среди бескрайних вод
- От заварушки уличной в Париже? Молчи!
- Грохочет барабан, пальба вовсю идет.
- (Кто сделал первый шаг, к развязке ближе.)
- Далек ли путь до острова средь плещущих валов
- От ветреной равнины Аустерлица?
- Сквозь гром и дым пороховой уже не слышно
- слов. (А с высоты недолго и свалиться!)
- Далек ли путь до острова от трона и дворца,
- С добытой императорскою властью?
- Не разглядеть – мешает блеск и золото венца.
- (А после вёдра, точно, быть ненастью!)
- Далек ли путь до острова от мыса Трафальгар?
- Далек, и чем южней, тем ярче зори.
- Десяток лет и сотни миль, и мир еще не стар.
- (А звезды переменчивы, как море.)
- Далек ли путь до острова от зимней белизны?
- В снегу, в снегу проклятом вязнут ноги,
- И ненадежен хрупкий лед реки Березины…
- (Не вышло – возвращайся с полдороги!)
- Далек ли путь до острова среди чужих широт?
- От Ватерлоо путь всего короче:
- Корабль готов, и впереди – ни славы, ни забот.
- (Когда и вспомнить утро, как не к ночи?)
- Далек ли путь от острова – ответьте кто-нибудь —
- До светлых врат последнего чертога?
- Смежи глаза, замкни уста, не мерян этот путь.
- Уймись, дитя, и погоди немного!
Дети вернулись домой с побережья – и наутро первым делом отправились осматривать свои владения: всё ли на месте? Оказалось, что старый Хобден заделал при помощи жердей и колючих веток все их любимые дырки в изгороди. И он же подстриг ежевичные кусты, как раз там, где завязывались ягоды.
– Разве уже появились цыгане? – спросила Уна. – Только вчера еще было лето!
– В Нижней роще горит костер, – сказал, принюхавшись, Дан. – Пошли проверим!
Они побежали через поле к рощице, что пряталась в лощине у дороги Кингз-Хилл, – туда, где вилась чуть заметная струйка дыма. Раньше там была каменоломня, потом овраг засадили. В него удобно заглядывать со стороны Неровного луга.
– Так и есть, – прошептал Дан, когда они вышли к оврагу.
Там стояла крытая цыганская телега: не фургончик, как у бродячего цирка, а настоящая черная кибитка, с маленькими окошками под крышей и смешными воротцами в нижней части двери. Хозяева готовились к отъезду. Черноволосый мужчина запрягал лошадей, старуха склонилась над костром, в котором догорали выломанные из забора колья, а на ступеньке у входа сидела девушка и, напевая, укачивала на коленях младенца. Худая собака с умным взглядом недовольно фыркала на валявшийся тут же клок шерсти, пока старуха не подобрала его и не сунула в огонь. Девушка пошарила рукой за порогом кибитки и бросила старухе бумажный сверток. Его тоже положили поверх костра, и вокруг запахло палеными перьями.
– Курицу щипали, – шепнул Дан. – Уж не из Хобденова ли курятника?
Уна чихнула. Пес заворчал и подполз к девушке, старуха, раздувая огонь, замахала над костром своей шляпой, а мужчина стал заводить лошадей в оглобли. Все двигались быстро и бесшумно, точно змеи в траве.
– А-а! – сказала девушка. – Я тебя проучу.
И она стала бить пса, который, кажется, ничуть не удивился.
– Пожалуйста, не надо! – крикнула сверху Уна. – Он не виноват!
– А вы почем знаете, за что его бьют? – откликнулась девушка.
– За то, что нас не учуял, – пояснил Дан. – Ему дым помешал, да и ветер как раз в нашу сторону.
Девушка перестала бить пса, а старуха еще быстрей замахала шляпой.
– У вас перья разлетаются, – сказала Уна. – Вон, под кустиком, петушиное перо.
– Ну и что? – буркнула старуха, ныряя под кустик.
– Ничего особенного, – сказал Дан. – Просто иногда петушиный хвост может выдать с головой.
Это была поговорка старого Хобдена, только тот говорил «фазаний хвост». Хобден всегда аккуратно сжигал все перья или шерсть, прежде чем зажарить свою добычу.
– Поехали, матушка, – тихо позвал мужчина. Старуха забралась в кибитку, и лошади дружно вывезли домик на колесах по ухабистой колее на ровную дорогу.
Девушка помахала им рукой и что-то крикнула, но они не разобрали слов.
– Это по-цыгански: «Большое спасибо, братец и сестрица», – пояснил знакомый голос.
Позади них стоял Фараон Ли со скрипкой под мышкой.
– Это вы спугнули старую Присциллу Сэвил, – отозвался Пак со дна оврага. – Спускайтесь, посидим у костра, она его так и не затоптала.
Они съехали вниз по заросшему папоротником склону. Уна сгребла разбросанные угли, Дан отыскал сухой, источенный червями дубовый сук, что горит почти без огня, – и они уселись, глядя на дым, а Фараон заиграл на скрипке какую-то странную, дрожащую мелодию.
– Это пела та девушка, – вспомнила Уна.
– Да, – сказал Фараон, – я знаю эту песню:
- Ай Лумай, Лумай, Лумай!
- Лулудья! Ай Лулудья!..
Одна диковинная мелодия сменяла другую – и Фараон, казалось, позабыл обо всем. Наконец Пак попросил его рассказывать дальше: о своих приключениях в Филадельфии и в гостях у индейцев племени Сенека.
– А я и рассказываю, – отозвался Фараон, не опуская смычка. – Ты что, не слышишь?
– Может, и слышу, но мы здесь не одни. Рассказывай вслух! – распорядился Пак.
Фараон тряхнул головой, отложил скрипку и продолжил свой рассказ:
– Итак, мы пустились в обратный путь: Красный Плащ, Сеятель Маиса и я. Три невозмутимых воина, мы повернулись и поскакали домой, потому что Большая Рука обещал, что войны не будет. Когда мы возвратились в Ле-банон, Тоби уже был дома. Его жилет отставал на животе на целый фут: доктор Хирте трудился не покладая рук, пока в городе свирепствовала желтая лихорадка. Он задал мне трепку за то, что я сбежал к индейцам, но дело того стоило, и я был рад его видеть. На зиму мы опять уехали в Филадельфию, там-то я и услышал, как самоотверженно Тоби спасал больных, – и зауважал его, как никогда! Впрочем, вру: я всегда его уважал.
Эта желтая зараза напугала всех до смерти. Шел уже декабрь, а люди только-только начали возвращаться в город. Целые дома стояли пустые, и их разоряли черномазые. Но из Моравских братьев, насколько я помню, никто не умер. Все это время они жили как всегда, тихо и уединенно, занимаясь своими делами, – и, похоже, Господь присмотрел за ними.
Той зимою – ну да, конечно, в девяносто третьем году – братья сложились и купили для церкви печку. Перед этим было много споров. Тоби был «за», потому что не мог онемевшими от холода руками играть на скрипке. Но некоторые прихожане были против, потому что в Библии ничего не говорится о печках. А некоторым вообще было все равно: эти приносили с собой грелки с горячими углями, чтобы ставить под ноги во время службы. В конце концов решили бросить жребий, то есть попросту сыграть в «орла и решку».
Но меня – после целого лета у индейцев – не слишком интересовали пререкания вокруг печки. Я стал все чаще отираться среди французских эмигрантов, которых в городе было хоть отбавляй. Они сотнями прибывали из Франции (где все, похоже, только и делали, что убивали друг друга), высаживались в порту, растекались по городу, оседая все больше в переулках Дринкерс и Элфрит, и перебивались случайными заработками в ожидании лучших времен. Но за какую бы работу им ни приходилось браться, все же это были аристократы, и они не теряли присутствия духа, и после их бедных, но великосветских вечеринок (я играл им на скрипке) Моравские братья казались мне скучными и старомодными. Пастор Медер и брат Адам Гоос не хотели, чтобы я играл за деньги, но Тоби сказал, что я имею полное право зарабатывать на жизнь своим талантом. Он никогда не давал меня в обиду.
В феврале девяносто четвертого, нет, все-таки в марте, потому что из Франции как раз прибыл новый посол, господин Фоше, такой же невежа, как тот, – так вот, в марте приехал из резервации Красный Плащ с известиями обо всех моих добрых друзьях. Я ходил с ним по городу, и мы видели, как ехал верхом генерал Вашингтон сквозь толпу зевак, которые громко требовали войны с англичанами. Нелегко ему приходилось, но он смотрел прямо перед собой, как будто ничего не слышал. Красный Плащ коснулся его стремени и, задрав голову, прошептал: «Брат мой знает, что быть вождем нелегко?» Большая Рука бросил на него быстрый взгляд и чуть заметно кивнул. Тут позади нас началась потасовка: кого-то уличили в том, что он недостаточно громко вопил. Мы поскорей выбрались из толпы. Там, где могут задеть или ударить, индейцу делать нечего.
– А если его все-таки ударят? – спросил Дан. – Он тогда что?
– Убьет, разумеется. Потому-то у них у всех такие прекрасные манеры… Ну так вот, домой мы отправились по Дринкерс-Элли: я хотел по дороге забрать свою новую рубашку, которую отдал в стирку супруге французского виконта. Я не люблю, когда белье перекрахмалено, и всегда отдаю новое в стирку. Тут подходит какой-то хромой француз и сует нам свой товар: пакетик пуговиц. Он, мол, только что приехал и совсем без средств. Вид у него и правда был хуже некуда: пальто изорвано, лицо разбито; но руки не дрожат – видно, не пьяница. Он сказал, что его зовут Перингей и ему намяли бока в толпе возле ратуши – я хотел сказать, Индепенденс-Холла. Слово за слово – и мы привели его с собой к Тоби, точно так же, как год назад Красный Плащ привел туда меня.
Месье Перингей так хвалил угощение и мадеру, что совершенно покорил старину Тоби, и тот открыл вторую бутылку и подробно пересказал ему все великие распри по поводу печки. Помню, к нам как раз заглянули пастор Медер и брат Адам Гоос, и, хотя они с Тоби были противниками в «печном вопросе», этот Перингей очень ловко повел разговор, и каждая сторона осталась уверена, что он сочувствует именно ей. Он сказал, что раньше был священником – до того, как покинул Францию. Он восхитился тем, как Тоби играет на скрипке, и предположил, что Красный Плащ, сидевший у клавесина, – «простодушный гурон». Племя Сенека – не гуроны, а ирокезы, Тоби ему так и сказал.
Через некоторое время он встал и откланялся, и при этом как-то само собой получилось, что не мы его накормили, а он оказал нам честь. Я никогда раньше не встречал таких людей – по крайней мере, мужчин. Мы еще долго о нем говорили, но так и не разобрались, что он за птица. А потом Красный Плащ пошел проводить меня до французского квартала: я там должен был играть на вечеринке. Проходя по Дринкерс-Элли, мы увидели незанавешенное окно – и там, при свете лампы, сидел продавец пуговиц месье Перингей и играл в кости сам с собою: левая рука против правой.
«Посмотри на его лицо!» – прошептал Красный Плащ, отступая в темноту.
Я стоял и смотрел. Не то чтобы я испугался, как, например, когда Большая Рука кричал на своих джентльменов. Я просто смотрел – и мне казалось, что даже эти глупые мертвые костяшки не посмеют ослушаться и лягут так, как он пожелал. Вот какое у него было лицо!
«Он плохой, – говорит Красный Плащ. – Но он большой вождь. Французы выгнали могучего вождя. Я так и подумал, когда слушал его лживые речи. Теперь я знаю».
Мне нужно было спешить на вечеринку, и я попросил его зайти за мной попозже, чтобы вместе идти к Тоби петь псалмы.
«Нет, – говорит он. – Передай Тоби: сегодня я больше не христианин. Только индеец».
Такое с ним иногда бывало.
Во всяком случае, я решил побольше разузнать про нашего нового знакомца, так что скромный бал французских эмигрантов пришелся весьма кстати. Вообще-то на этих сборищах иной раз хотелось плакать. Только представьте: все эти горе-торговцы, у которых вы днем покупаете фрукты с лотка, все эти парикмахеры, и учителя французского, и учителя фехтования, – все они вечером, при свете свечей, вновь становятся теми, кем были на родине, и вы узнаёте их настоящие имена! В прачечной, где они собирались, было тесновато, так что я пристраивался со скрипкой на крышке медного котла – и играл им все, что попросят. Старые песенки вроде «Si le Roi m’avait donn» – «Кабы отдал мне король» – и прочую детскую ерунду. Иногда они плакали. Стыдно было потом брать у них деньги, честное слово!
И вот на этой самой вечеринке чего только я не наслушался про нашего месье Перингея! И никто о нем доброго слова не сказал, разве только маркиза, та, что держала пансион на Четвертой улице. Оказалось, что зовут его граф Талейран де Перигор. Он и впрямь был когда-то священником, и притом не простым – ему, что называется, было откуда падать. Года два назад он служил послом короля Людовика в Англии, а потом, когда началась революция и королевская голова уже висела на волоске, он примчался обратно в Париж и упросил Дантона – того самого, что казнил короля, – позволить ему оставаться в Англии послом Французской Республики! Англичане, конечно, не стерпели этого, парламент принял постановление, и пришлось ему убираться вон. И вот он оказался в Америке – без друзей, без денег и без всяких видов на будущее: так, по крайней мере, говорили в тот вечер в прачечной.
Кое-кто принялся было подшучивать над его неудачами. Но маркиза покачала головой.
«Друзья мои, – сказала она, – не спешите смеяться! Вот увидите, этот человек скоро снова будет у власти».
«А я и не знал, маркиза, что вы неравнодушны к служителям Божьим», – говорит виконт, тот самый, чья жена брала в стирку белье.
«Я знаю, что говорю, – отвечает маркиза. – Он отправил моего дядю и двух моих братьев на тот свет через низенькую дверь (так у них называлась гильотина), и он всегда будет на стороне победителя, и если надо, заплатит за это кровью всех своих друзей и родных».
«Тогда что его к нам привело? – спросил кто-то еще. – Ведь наша игра проиграна!»
«Держу пари, – говорит маркиза, – ему нужно выяснить – и он-то уж выяснит непременно, – собирается ли эта каналья Вашингтон воевать на нашей стороне. Женэ (так звали прежнего французского посла) совершенно осрамился, от Фоше (это новый посол) тоже пока никакого толку, а вот наш аббат – тот раздобудет все необходимые сведения и продаст их как можно выгодней. Таким людям все удается».
«Ну, начал-то он неудачно, – усмехнулся виконт. – Его нынче избили на улице за то, что не кричал „Долой Вашингтона!“».
Тут они все засмеялись, и кто-то сказал:
«Бедняга! и на что он только живет?»
А господин Талейран собственной персоной – он, должно быть, вошел незамеченным – прошмыгивает мимо меня, присоединяется к обществу и преспокойно отвечает:
«Каждый выходит из положения как может. Я, например, продаю пуговицы. А вы, маркиза?»
«Я? – И она выставляет напоказ свои нежные белые ручки, все в ожогах. – Я, как видите, стряпаю – правда, очень скверно. К вашим услугам, господин аббат! Мы только сию минуту о вас говорили».
А остальные – куда только храбрость подевалась? – стоят в сторонке и помалкивают.
«А-а, – говорит он, – я, стало быть, пропустил кое-что интересное. Но зато я провел целый час за игрою в кости – не на деньги, маркиза, всего лишь на пуговицы! – с великолепнейшим дикарем из племени гуронов».
«И вам, как обычно, везло?» – спрашивает маркиза.
«Разумеется, – говорит он. – Сейчас мне нельзя проигрывать даже пуговицы».
«Тогда, вероятно, это дитя природы еще не знает, что ваши кости всегда с начинкой – не так ли, отец Тут-и-там?»
Похоже, она обвинила его в нечестной игре – или я что-то напутал. Он же только поклонился в ответ: «Совершенно справедливо, мадемуазель Кунигунда» – и пошел любезничать со всей остальной компанией.
Вот так я и узнал, что наш месье Перингей был не кто иной, как Шарль Морис Талейран де Перигор.
И Фараон взглянул на детей, но они смущенно молчали.
– Вы что, никогда о нем не слышали?
Уна покачала головой.
– А индеец, который играл в кости, – это был Красный Плащ? – спросил Дан.
– Да. Он мне сам потом рассказал. Я спросил его, жульничал ли хромой француз, и он сказал, что нет, он играл очень ловко и совершенно честно. А уж Красному Плащу можно верить. В резервации он на моих глазах проигрывался до нитки – и тут же отыгрывал все назад. Я пересказал ему, что говорили на вечеринке.
«Значит, я был прав, – сказал он. – Я видел его лицо, когда он думал, что его никто не видит. Это было лицо воина перед поединком. Потому я и сел с ним играть. Я сидел с ним лицом к лицу. Он очень большой вождь. Не слышал ли ты, зачем он сюда приехал?»
«Говорят, он приехал разузнать, будет ли Большая Рука воевать против англичан».
Красный Плащ нахмурился.
«Да, – говорит он. – Об этом же он спрашивал и меня. Не будь он большим вождем, я бы солгал. Но он могучий вождь. Он знал, что я тоже вождь, и я сказал ему правду. Я повторил ему то, что сказал на поляне Большая Рука: „Войны не будет“. Но я не видел, о чем он думает. Я не видел сквозь его лицо. Но он настоящий вождь. Он должен поверить».
«Думаешь, он поверит, что Большая Рука сумеет удержать свой народ от войны?» – спросил я, вспомнив орущую толпу вокруг генерала.
«В нем столько же плохого, – говорит Красный Плащ, – сколько хорошего в Большой Руке. Но он не такой сильный. Он сам поймет это в своем сердце, когда поговорит с Большой Рукой. Французы отослали прочь могучего вождя. Но он скоро придет назад и заставит их бояться».
Ну не смешно ли, вы только подумайте! Французская маркиза, которая по его вине потеряла своих родных, и старый индеец, который подобрал его на улице, избитого и грязного, и сыграл с ним в кости, – оба не сговариваясь уверяли, что сам по себе он человек выдающийся. Невзирая на обстоятельства!
– А он правда был сам по себе? – спросила Уна. Фараон засмеялся было, но тут же перестал.
– Для меня, – сказал он задумчиво, – Талейран – один из трех людей на свете, которые были совершенно сами по себе. На первом месте Большая Рука – потому что я его видел.
– Верно, – кивнул Пак. – Жаль, что старая Англия потеряла такого человека. А кто второй?
– Талейран. Может, потому, что я его тоже видел.
– А третий? – спросил Пак.
– Бони. Несмотря на то, что я его видел! Пак присвистнул:
– Вот так выбор! Конечно, всякий волен судить по-своему, но что странно, то странно.
– Бони? – переспросила Уна. – Вы что, хотите сказать, что встречали Наполеона Бонапарта?
– Ну вот, я так и знал, что вы сразу начнете забегать вперед! Потерпите: всему свое время. Итак, спустя день или два Талейран снова появился в доме сто восемнадцать по Второй улице. Он зашел поблагодарить Тоби за его доброту. Похоже, после той игры в кости он не на шутку заинтересовался индейцами, хотя и продолжал называть Красного Плаща гуроном. Ну а Тоби, сами понимаете, был неплохо оснащен по этой части, ему только слушателя не хватало. Моравские братья не слишком интересуются индейцами, пока те не перейдут в христианство, но Тоби знал их по-настоящему, со всеми их языческими обычаями.
И вот, что ни вечер, Талейран усаживается напротив Тоби, закидывает ногу на ногу (здоровую поверх хромой) и слушает не отрываясь. А тот и рад стараться. Я-то, конечно, помалкивал: ведь племя Сенека считало меня своим. Но Тоби то и дело кивал на меня – я, мол, могу подтвердить его слова, – да сам Талейран так ловко втягивал меня в разговор, что скоро стало понятно: я тоже кое-что смыслю по части «благородных дикарей».
Тогда он пошел на хитрость. По пути с очередной французской вечеринки зазвал меня к себе в лавочку – и начал, как бы в шутку: он, дескать, знает, что я побывал у Большой Руки вместе со старыми вождями. Спрашивается, кто ему сказал? Я не говорил, Красный Плащ тоже, а Тоби вообще не знал. Это он сам догадался!
«Так вот, – продолжал он, – я так плохо понимаю по-английски, а Красный Плащ по-французски – боюсь, я так и не разобрал, какие именно слова сказал президент этим двум простодушным гуронам. Будьте так любезны, расскажите мне все с начала».
Я повторил ему все то же, что он уже слышал от Красного Плаща, – и ни словом больше. Я не доверял этому человеку, тем более что маркиза в тот вечер опять говорила о нем с ненавистью и восхищением.
«Весьма обязан, – ответил он, выслушав мой рассказ, – но я никак не припомню – гурон мне толком не объяснил, – что именно сказал президент господину Женэ, а также тем, другим господам, когда Женэ уехал».
Я понял, что это опять его собственные догадки, ведь Красный Плащ ему ни слова не сказал про беседу президента с теми джентльменами.
– Почему? – спросил Пак.
– Потому что Красный Плащ был вождем. Он передал Талейрану то, что сказал президент ему самому. Но он не стал пересказывать разговоры белых вождей, ведь Большая Рука не велел ему повторять их.
– О! – сказал Пак. – Теперь понятно. И что ты ответил?
– Я хотел было что-нибудь сочинить, но ведь и Талейран был вождем. И я сказал:
«Как только Красный Плащ разрешит мне передать вам эту часть разговора, я с удовольствием освежу вашу память, господин аббат».
А что еще я мог сказать?
«Так вот в чем дело! – рассмеялся он. – Тогда я сам освежу вашу память. За подробный пересказ этой части разговора вы получите сто долларов. Ровно через месяц, считая с нынешнего дня».
«Лучше пятьсот, господин аббат», – сказал я.
«В таком случае, пятьсот».
«Это меня вполне устраивает, – ответил я. – К этому времени Красный Плащ снова будет в городе, и как только я получу его разрешение – мигом явлюсь к вам за деньгами».
Он все-таки сдержался, хотя и с трудом.
«Молодой человек, – сказал он с любезной улыбкой. – Я прошу у вас прощения и был бы счастлив иметь столь надежного друга, какого имеет в вашем лице благородный гурон. Окажите мне честь, присядьте и послушайте».
Второго стула там не было, и я сел на ящик с пуговицами.
Но до чего же он был умен! Он уже разнюхал, что президенту нужен мир с Англией, и притом любой ценой. Может даже, он узнал это от самого Женэ. И еще он услышал, что Женэ повздорил с президентом и отбыл второпях, не закончив дела. Чего не знал месье Талейран – чего добивался он от меня то угрозами, то мольбами, – это какие именно слова по поводу мирного договора сказал президент своим джентльменам после отъезда Женэ. И кто сообщит ему эти слова, говорил он, окажет неоценимую услугу трем великим державам, а также и всему человечеству. Он говорил это, сидя в пустой нетопленой комнате, – но мне вовсе не было смешно.
Наконец он умолк и вытер вспотевший лоб.
«Мне очень жаль, – сказал я. – И как только Красный Плащ даст разрешение…»
«Вы что, мне не верите?» – вскинулся он.
«Ни единому словечку, господин аббат, – выпалил я, – а только тому, что вы всегда на стороне победителя. Я ведь не первый месяц играю на скрипке для ваших старинных друзей».
Ну, тут он, конечно, не выдержал и давай обзывать меня по-всякому.
«Придержи-ка язык, господин бывший граф! – оборвал я его наконец. – Я, может, и полукровка – но человек я не наполовину. И могу сообщить еще кое-что по секрету. Но сначала скажи: ты виделся с президентом?»
«О да! – фыркнул он. – У меня с собой были письма к этому почтенному джентльмену от лорда Лэнсдауна».
«Ну так вот, – говорю я. – Краснокожий вождь сказал, что когда ты встретишься с президентом, то поймешь в своем сердце, что он сильнее тебя».
«Уйди, – говорит он шепотом. – Уйди, пока я тебя не убил».
И видно по нему, что не шутит. Ну, я и ушел.
– А зачем ему нужно было это знать? – спросил Дан.
– Мне кажется, если бы он и впрямь убедился, что Вашингтон собирается заключить мир с Англией на любых условиях, он бы тогда предоставил бедняге Фоше корпеть в Филадельфии, а сам бы помчался в Париж и сказал Дантону: «Вы только напрасно тратите время на эту Америку, она нипочем не станет за нас воевать – и вот доказательства!» И Дантон в награду взял бы его к себе на службу, потому что это и в самом деле важно – знать наверняка, кто твой друг, а кто враг. От этого зависит масса вещей, по крайней мере для нас, бедных лавочников.
– А Красный Плащ, когда приехал, позволил вам рассказать ему? – спросила Уна.
– Конечно нет. Он ответил: «Все, что было сказано между белыми, осталось там, возле пней. Так велел Большая Рука. Передай Хромому Вождю, что войны не будет. И с этим он может ехать к себе во Францию».
Некоторое время мы с Талейраном виделись лишь изредка, на вечеринках. Когда наконец я передал ему слова старого индейца, он только покачал головой. Он сидел у себя в лавочке и перебирал пуговицы.
«Я не могу вернуться во Францию с одним честным словом простодушного дикаря».
«А разве сам президент вам ничего не ответил?» – спросил я.
«Он ответил, как подобает лицу, облеченному властью. Но если б я знал – о, если б я только знал, что говорил он своему кабинету министров после отъезда Женэ! Тогда бы я многое смог изменить в Европе, а то и в целом мире».
«Мне очень жаль, – сказал я. – Но, может, это у вас и так получится. Без моей помощи».
Он поглядел на меня в упор.
«Или, – говорит, – вы, молодой человек, не по возрасту наблюдательны, или на редкость неучтивы».
«Я, – говорю, – хотел сказать вам приятное. Ну, неважно. Скоро лето, мы отправляемся путешествовать, и я зашел проститься».
«Я тоже отправляюсь в путешествие, – говорит он. – Если мы когда-нибудь встретимся, я постараюсь отблагодарить вас за все».
«Надеюсь, господин аббат, вы не держите на меня зла».
«Ни в коей мере! – говорит он. – Кланяйтесь от меня милейшему доктору Панглосу (так он прозвал Тоби), а также почтенному гурону».
Вечно он путал гуронов с ирокезами.
Тут зашла одна из Моравских сестер за пакетиком «дутых» пуговиц… и больше я в тех краях уже не встречал Талейрана.
– Но зато вы встречали Наполеона, ведь так? – напомнила Уна.
– Терпение, милочка, терпение! Мы с Тоби отправились в Лебанон, а оттуда в резервацию. В то лето я был уже постарше и мог из Тоби веревки вить. Я играл на скрипке, болтался среди индейцев – в общем, приятно проводил время. Зато когда мы вернулись в город, Моравские братья напустились на бедного Тоби: отчего, мол, я не учусь никакому полезному ремеслу? Меня чуть было не отдали в подмастерья к печатнику Хельмбольду, насилу Тоби меня выручил. А то не играть бы нам вместе на скрипке! Но не успели мы вздохнуть спокойно, как старый Маттис Рауш, который шил кожаные бриджи, вдруг заявляет, что я прямо создан для выделыванья кожи.
И тут пришло спасение. Перед самым Рождеством нам прислали письмо из банка, в большом конверте с печатью. Там говорилось, что господин Талейран положил на мое имя пятьсот долларов – или сто фунтов – и я могу распорядиться ими по своему усмотрению. Еще там была записка от самого Талейрана: он-де не забыл мою доброту и что я всегда верил в его будущее, которое, впрочем, пока довольно туманно. Адреса он не сообщал.
Я хотел разделить эти деньги с Тоби. Это он, а не я был добр к месье Талейрану, я только привел его в дом номер сто восемнадцать. Но Тоби сказал: «Нет, сын мой! Я ни в чем не нуждаюсь. Да здравствует свобода и независимость!» Тогда я купил ему новые струны для скрипки.
После этого братья оставили нас в покое. Только пастор Медер прочел воскресную проповедь о том, «сколь пагубны сокровища земные», да брат Адам Гоос пообещал, что если будет война с англичанами, банк непременно расстреляют из пушек.
Я знал, что войны не будет, но деньги из банка все же забрал – и, по совету Красного Плаща, стал закупать лошадей. Их я перепродавал Бобу Бикнеллу для почтовых дилижансов Филадельфия – Балтимор и таким образом всего за год удвоил свое состояние.
– Вот цыган! Ну настоящий цыган! – расхохотался Пак.
– Почему бы и нет? Это была честная купля-продажа. Короче говоря, через несколько лет я уже сколотил небольшой капитал и всерьез занялся табачной торговлей.
– Да, чуть не забыл! – вмешался Пак. – А как же твои родные в Англии и во Франции? Ты посылал им весточки?
– Разумеется. Я написал им, как только нажил деньжат на торговле лошадьми, и с тех пор писал каждые три месяца. У нас в семье не любят возвращаться домой с пустыми руками. Хоть яблоко, хоть репка – всё гостинец: так у нас говорят. Да, я писал дядюшке Оретту, и очень подробно. Отец у меня не шибко грамотный, но они встречались, как обычно, на нашей стороне, где-нибудь возле Нью-Хейвена, и дядюшка пересказывал ему, что новенького в табачном деле.
– Ну, еще бы! – засмеялся Пак, -
- Семейка Оретт
- И семейка Ли…
Продолжай, брат Широкая Нога.
– К этому времени, – продолжал Фараон, – месье Талейран тоже выбился в люди. Он уплыл во Францию и снова сделался там важной птицей, чуть ли не членом правительства. Но его опять прогнали – после истории с какими-то взятками от американских представителей. Наши бедные эмигранты рассудили, что теперь-то уж с ним покончено. Но мы с Красным Плащом так не думали. Господин аббат был жив – и этим все сказано!
Большая Рука подписал-таки договор с англичанами, и торговля с Англией стала на редкость выгодным делом – если только вам не страшен военный флот. Французы и англичане воевали друг с дружкой, а Америке – как и предвидели господа министры – доставалось от тех и других. Если английский военный корабль перехватывал американское торговое судно, капитан забирал себе всех лучших матросов – потому что они, мол, британские подданные. Если корабль был французский – прощайся с товаром: ведь груз предназначен для противника! А уж если попадешься испанцам или голландцам (эти тоже, как могли, досаждали Англии) – одному Богу известно, что с тобой сделают.
Наконец я сообразил, что для успешной торговли нужно, во-первых, быстроходное судно, а во-вторых – человек, который сумел бы, по мере надобности, обернуться то французом, то англичанином, то американцем.
Я же мог без труда раздобыть и первое, и второе. И вот, в конце сентября девяносто девятого года я отплыл из Филадельфии со ста одиннадцатью бочонками лучшего виргинского табака на новеньком бриге «Берта Оретт». Это имя моей матери в девичестве: я думал, оно принесет мне удачу… Так оно, в конце концов, и вышло.
– И куда вы направлялись? – спросил Пак.
– М-м… В какой-нибудь английский порт. Как получится. Я не стал посвящать в это дело Тоби и прочих братьев: они не очень-то смыслят в тонкостях табачной торговли.
Пак поддел босой ногой какую-то деревяшку – и не то кашлянул, не то усмехнулся.
– Да-а, тебе хорошо судить! – вдруг обиделся Фараон. – А каково приходилось нам? Мы распустили все паруса и понеслись через Атлантику, дрожа и озираясь, точно курица на конском торгу. И трех дней не прошло, как нас задержал английский фрегат. Они прислали на борт своих людей, и те забрали у нас семерых отличных матросов. Я заметил офицеру, что это уж слишком, а он только отмахнулся: некогда, мол, спорить, воюем со всей вселенной! От следующего фрегата мы ушли с одной пробоиной в корме. Потом двое суток подряд за нами гнался французский капер, с которого то вопили, то стреляли; наконец его отогнал паршивый английский десятипушечный бриг – и сам же имел наглость забрать у нас еще пять человек. И в таком вот виде мы добрались до входа в Ла-Манш: из тридцати пяти человек двенадцати как не бывало, возле самого руля пробоина от восемнадцатифунтового ядра, шкот после встречи с французами – как решето; а пролив так и кишит английскими крейсерами, и у всех не хватает людей! Вот он, табачок-то, во что обходится, а вы еще говорите – дорого!
И в довершение всего, пока мы латали свои дыры, откуда-то из полутьмы вдруг налетел на нас французский люггер. Мы просигналили, чтоб он не приближался, да где там! Мигом взяли нас на абордаж, и на палубу, треща по-французски, повалили красные шапки. И тут наше терпение лопнуло. Мы похватали кто что мог и кинулись в драку. Нас было двадцать три человека против пятидесяти, и с нами быстро расправились. Слышу, мои люди бросают оружие и кто-то громко требует капитана «этой дьявольской посудины».
«Я капитан, – говорю. – И хоть вам, ворюгам, это все равно, вы находитесь на борту американского брига „Берта Оретт“».
«Что-о? Вот так здрасьте, я ваша тетя!» – откликается тот же голос и начинает хохотать.
«Кто со мной говорит?» – спрашиваю. Было уже темно, но голос мне показался знакомым.
«Лейтенант военного флота Эстеф л'Эстранж», – гордо пропел он по-французски, но я уже узнал его.
«Ого! – говорю. – Доблесть у нас, конечно, в роду – но ты и впрямь неплохо поработал, Стивен».
Тут он хватает нактоузный фонарь и подносит к моему лицу… Понимаете, это был молодой л'Эстранж, мой двоюродный брат. Мы не виделись шесть лет: с той самой ночи, когда затонул баркас и я оказался на «Амбускаде».
«О! – говорит он. – Так этот бриг назван в честь тетушки Берты? Он твой собственный или кто-нибудь еще в доле?»
«Владельцев двое, но груз только мой».
«Плохо дело, – говорит он. – Я, конечно, постараюсь помочь, но не надо было вам браться за оружие».
«Стив, – говорю я, – ты что? Ты ведь не собираешься в своем рапорте назвать это вооруженным сопротивлением? Мы просто слегка повздорили. Да на всех таможенных катерах смеяться будут!»
«Я бы и сам посмеялся, – говорит он, – если б не служил в военном флоте Республики. Но двое наших людей убиты и, боюсь, мне придется доставить вас в Гавр, в призовой суд».
«А они конфискуют мой табак?»
«До последней унции, – говорит он. – Но меня больше интересует судно. Его бы можно отлично приспособить для боя – если только мне его отдадут».
Тут я понял, что надеяться не на что. Я не виню Стива, своя рубашка ближе к телу, но я-то вложил все до последнего доллара в это судно и товар! А он знай себе твердит: «Не надо было браться за оружие».
Пришлось нам тащиться в Гавр. И хоть бы один английский корабль попался по дороге и выручил нас – так нет же! В призовом суде мой кузен сделал для нас все, что мог. Он признал, что не имел права перехватывать судно, идущее под американским флагом. Но двое убитых, сами понимаете, не шутка. Суд наложил арест и на бриг, и на весь товар. Хорошо еще, нас самих не засадили за решетку, а только пустили по миру. «Берту Оретт» получил молодой л'Эстранж, с приказом переоснастить и вооружить для французского флота.
«Я отвезу тебя в Булонь, – говорит мне Стив. – Матушка и все остальные будут очень рады. А оттуда дядя Оретт переправит тебя в Нью-Хейвен. А хочешь, возьму тебя вместе с командой к себе на судно? В трюмах короля Георга есть чем поживиться!»
Уж на что я был сердит, а все же не удержался от смеха.
«Хватит с меня, – говорю, – чужих трюмов. Куда это они отправляют мой табак?» (Бочонки как раз грузили на баржу.)
«Вверх по Сене, до Парижа, – отвечает он. – Там его продадут, а нам с тобой ни пенса не достанется».
«Добудь мне разрешение сопровождать груз, – говорю я. – Попробую поискать справедливости у американского посла в Париже».
«В мире не так-то много справедливости, – говорит он. – Не больше, чем во флоте».
Но разрешение он мне дотал и даже дал с собой денег. Бочонки с табаком – это все, что у меня оставалось, и я пустился за ними, как собака за отнятой костью. На барже я играл понемножку на скрипке: чтоб не падать духом, а заодно и подружиться с караульными. Они ведь только исполняли свой долг, а в остальном были вполне разумные люди. Они надо мной даже не смеялись.
Когда мы приплыли в Париж, был уже ноябрь, который французы переименовали в брюмер. Они, оказывается, переименовали все месяцы: после этой неслыханной глупости я уже не ждал от них ничего хорошего. И правильно делал.
Мы пришвартовались возле самой церкви Нотр-Дам. Баржу и груз оставили под присмотром старичка сторожа, и он разрешил мне приходить туда ночевать. Днем я бегал из конторы в контору в поисках правосудия, а в ответ выслушивал речи о свободе и равенстве. Меня никто не принимал всерьез. Теперь-то я даже могу их понять. Денег у меня не было, одежда перепачкалась, я неделями не менял белье и ничем не мог доказать, что я законный владелец «Берты Оретт». Бумаги-то у меня были – но кто подтвердит, что не краденые? Так они мне отвечали, ворюги проклятые! Привратник американского посла не пропустил меня даже к секретарю. Он заявил, что для американского гражданина я слишком хорошо болтаю по-французски. И мало того, мне пришлось… понимаете, деньги все вышли… я снова взялся за скрипку и начал играть на улицах – ну и, конечно, капитан торгового судна со скрипкой под мышкой… кто ж такому поверит?
Вот однажды возвращаюсь я на баржу – дело было в конце ихнего месяца брюмера – и чувствую, что больше не могу. Старый Мэнгон, сторож, развел огонь в железном ведре и жарит селедку.
«Выше нос, мон ами! – говорит он. – Кушать подано».
«Не могу я есть, – говорю. – Ничего не могу. Нет больше моих сил!»
«Ба! – говорит он. – У человека всегда есть силы. Взять хотя бы меня. И двух лет не прошло, как я взлетел на воздух в заливе Абукир (я плавал тогда на «Ориенте») и с размаху шлепнулся в воду. А посмотри на меня сейчас!»
Смотреть-то было, собственно, не на что. Старик Мэнгон был одноногий и одноглазый, но держался и вправду молодцом.
«Это будет похуже, – говорит он, – чем потерять какие-то сто одиннадцать бочонков с куревом! Да у тебя вся жизнь впереди. Чего бы я только не отдал, чтобы стать сейчас молодым! Сейчас во Франции горы можно своротить. И весь мир у твоих ног, точно мячик (тут он стукнул по ведру своей деревянной ногой). А взять, к примеру, генерала Бонапарта! Да он по сравнению со мной еще младенец, а смотри сколько уже успел. Завоевал Египет, Австрию, Италию… чего там, пол-Европы! А теперь он вернулся в Париж, да спустился по реке в Сен-Клу – ну что ты, дурень, уставился на реку? – да перед всеми этими свинячьими законниками и прочими гражданами взял и объявил себя консулом, а это, считай, все равно что король. Он и королем тоже будет, помяни мои слова, королем Франции, Англии и всего мира! Вот и ты не хнычь. Ешь селедку!»
Я ему говорю: мол, не начни этот Бони войну против Англии – и табачок мой не пропал бы, верно?
А он мне на это: «Молод ты еще, не понимаешь».
Тут послышались крики «ура!». На мост въехала карета, в ней сидели двое.
«А вот и он сам, – говорит Мэнгон и вытягивается по стойке „смирно“. – Он им всем скоро покажет!»
«А тот, второй, в черном – это кто?» – спрашиваю я, а сам весь дрожу.
«О, это малый с головой! Он тоже далеко пойдет, этот пройдоха епископ, как его… Талейран».
«Так и есть!» – подпрыгнул я, схватил зачем-то скрипку и припустил вверх по ступенькам и вслед за каретой.