Калямбра Покровский Александр
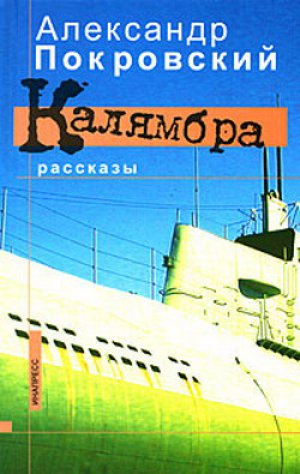
А вот дыры в стойле заделали, и так заделали, что просто загляденье. Но корову туда не поставили.
– Что ж так? – поинтересовалась корова.
– Это стойло у нас получилось такое хорошее, что принято решение сделать его образцово-показательным! – отвечали корове. – На его примере теперь другие будут учиться, как стойло ремонтировать! – добавили ей. – А вас поставят в другое, временное стойло. Его как раз сейчас готовят.
– А какая там температура? – поинтересовалась грамотная корова.
– А температура там различная, – сообщили ей, – где плюс, а где и минус. От того зависит, как стоишь. Там есть такая одна дырочка, так вот рядом с ней минус, а чуть левее – там уже почти что плюс. Но вы не волнуйтесь. Эти трудности у нас временные. И ведь что положительно в этом моменте: трудности мы не скрываем, мы их обозначаем и стойко преодолеваем тяготы и лишения.
Ждет корова корма день, ждет другой, ждет неделю, а доят ее, надо сказать, регулярно, исправно, как обещано – три раза в день. Просто ребята на дойке попались ответственные и исполнительные. Им сказали: «Доить!» – они и доят, а скажи им: «Не доить!» – они и перестанут.
Сначала корова давала ведро, потом – полведра, потом – четверть, потом – кружку, потом и вовсе отказалась:
– Нету! – говорит.
– Это возмутительно! – сказало начальство, когда ему про это «нету» доложили. – Как это «нету»? Быть не может! А вы ей сказали, что ее включили в план?
– Сказали.
– Ну и что?
– Ничего.
– Как это «ничего»?!!
– А так.
Ну, случай действительно исключительный. Чтоб на военно-морском флоте и такая возмутительная забастовка.
Собралось начальство и пошло взглянуть на безобразницу. Случай-то исключительный, другого такого может и не представиться. Идет начальство и рассуждает дорогой:
– Тут что-то не так! Видно, плохо поставлена индивидуально-воспитательная работа (с коровой). Не доводят до нее последние (коровьи) решения. А кто у нее командир подразделения? Надо бы его привлечь! Повоздействовать! Надо где-нибудь заслушать его о его работе (с коровой)… Видимо, не понимает он, что надо быть ближе (к корове)… Пристальней надо изучать (корову)… И вовремя реагировать (на нее же)… Не забывая при этом (о корове)… Потому что (корова)… Хотя, конечно, (корова)… В общем-то, опять же (она же)… М-да.
Все начальство уже почти полностью высказалось в том же самом духе, когда слово взял главный морской начальник. Все на флоте знают: если что и сказал главный морской начальник, то так оно и есть!
– Ерунда собачья! – сказал начальник. – Как это «нету»? Как это «нету» молока? А зачем она на военно-морской флот шла? А? Значит так: кровь из носу, а чтоб молоко было! Где хочет пускай молоко ищет!
– А может она того? – спросил заместить командира, в заведовании которого всегда было душевное здоровье окружающих, и повертел пальцем у виска. – Случай-то исключительный. Может, врача прихватим?
И прихватили врача.
Идет начальство дальше, строит про себя разные догадки и подходит оно, наконец, к корове.
– Почему молока не даем? – строго спросил у нее самый главный начальник.
– Так ведь корма… – начала было корова.
– С кормами вопрос решен! – перебил ее главный начальник. – Корма подвезут! Не сегодня, так завтра! Так почему же не даем молока?
Молчит корова, силы сберегает.
– Может, вы не понимаете? – сказал проникновенно заместитель. – Может, вы не знаете, как нам это молоко именно сейчас нужно, просто даже необходимо?
– А ну! – вмешался главный начальник. – Народ молока ждет, а у нее «нету»! Дойте при мне! Сейчас посмотрим, как его «нету»!
Бросились корову доить. Один доит, четверо держат. Оттянули ей сиськи до земли, а оттуда – ни капли, ни полкапли.
– М-да! – сказало начальство. – А может, она того?
И принялся за корову врач. Приложил он ухо к коровьему боку и говорит:
– Дышите!
Дышит корова.
– А теперь, – говорит врач, – не дышите.
Стоит корова, не дышит.
– Абсолютно здоровая корова! – сказал врач. – Просто поразительно здоровая, – добавил он.
– Просто низкая требовательность! – строго сказало начальство и посмотрело на корову.
И тут корова то ли от этих слов, то от взглядов упала и дух испустила, да так быстро она его испустила, что и на мясо ее прирезать, тоже очень нужное, не смогли – под руками ничего не оказалось, а куда послали, там тоже ничегошеньки не нашли.
Так что пришлось корову закопать, для чего долго долбили землю.
– Да! – сказал главный начальник. – Нехорошо! В следующий раз по-другому надо!
– Молока мало надоили! – совсем закручинился зам.
– В следующий раз, – строго глянул на зама старший морской начальник, – чтоб молока было побольше, я считаю, надо не три, а четыре раза доить!
На том и порешили.
Ведь у нас как самый главный морской начальник считает, так почти все считают.
Вот такое у нас единодушие. И от такого единодушия силы возникают огромнейшие, а возможности при этом открываются – невиданнейшие, а резервы – неисчислимые.
И стоит себе флот, стоит.
И ничего-то ему не делается.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА
Солнце ударяется о воду, рождая в душе веру в завтрашний день. Эх! Наверное, так можно сказать, потому что стоим-то мы все еще на рейде, на входе в залив. Перед нами Северодвинск и впереди только шалуньи.
А тишь несказанная, вода как стекло, и на сердце надежда и прочее.
– Офицерам собраться в кают-компании на занятия!
Это старпом. Какие могут быть занятия в такой час?
Все собрались, надели на себя рубашки.
Старпом вошел с папкой под мышкой. Все уставились на нее. Старпом сел и открыл папку.
– Так! – сказал старпом. – Прочитаю вам правила хорошего тона!
И дальше он начинает читать, а все вспоминают, как на столе лежат вилка и нож. Старпом уверен, что мы тут же помчимся в ресторан, как причалим, потому-то он смотрит то в папку, то в потолок и сам вспоминает:
– Нож справа… ну да, чего это я, конечно.
И далее – как и чего резать, нарезать, не отправляя в рот слишком большие куски, не давиться, не запивать принесенным в кармане шилом, то есть спиртом во фляжке.
– Не наливать его из титьки! А то знаю я вас!
Конечно, не наливать, не подмигивать женщинам, не строить рожи официантам, не просить у них "только бутылочку минеральной воды, остальное у нас с собой", не задирать патруль, не драться в туалете с гражданскими людьми, не брать со стола салфетки со словами "Я сейчас, только в гальюне завтрак выдавлю", сидеть прямо, не нависать над тарелкой, не ложиться на столы.
– Да! Чуть не забыл! Не делать на тарелке заготовки!
Какие заготовки? Что он имеет в виду?
– Заготовки – это когда вы мясо нарезаете все сразу, а потом его вилкой по очереди в рот.
Поди ж ты! Ну ладно, не будем нарезать.
Старпом оказался прав.
Чуть только причалили, и мы в сей секунд, побросав все вещи, побежали в город, к деревьям, к улицам, автобусам, к шуму и гаму, и ходили по нему, ходили, ходили, улыбались, а потом, очумевшие, забрели в ресторан, где сели за столы, подмигивая женщинам, налили себе из титьки, а потом заказали мясо и отрезали его аккуратненько, не делая заготовок, а нарезанное сейчас же отправляли в рот, торжественно, не наваливаясь грудью на столы.
УТРЕННИЙ ВАСЯ
Дерьмо и армия неразделимы.
Этот древний тезис мы сейчас напитаем свежей кровью.
Одинокий утренний Вася с удовольствием посмотрел на свою толстую лоснящуюся гусеницу, свернувшуюся на дне, и, нажимая ногой на педаль нашего удивительного флотского унитаза, другой ногой собирался ловко перебраться через комингс выгородки гальюна.
Как только первая нога исчезла с педали, та, немного подумав, сделала "ды-ынннн!" – и вернулась на свое место.
Катапультированная гусеница нежно легла на плечо вслед уходящему утреннему Васе. Так он и ходил с ней везде, привыкая к ароматам.
Когда он явился на завтрак, все подозрительно заводили носами: чем это у нас тут? Потом нашли «чем», успокоились и с удовольствием уставились на Васю.
Он не понимал, чего это они на него так вперились, подозревал неладное, недовольно сопел и возился.
– Ой, Вася! – воскликнули все. – А ты теперь не один ходишь?…
– Их теперь двое…
– Два Васи! Один такой большой-большой, а другой такой маленький, маленький, черненький…
Вася все еще не понимал и обижался. Тогда ему сказали в лоб:
– Слышь, Вася, а чего ты пришел на завтрак с прошлым ужином на плече?
– Где?!! – и тут Вася увидел свою нежную гусеницу. Кажется, она ему подмигнула.
Глаза его округлились, он шарахнулся от нее, подпрыгнул вверх, насколько позволил стол, опрокинул бачок с первым, рванул, наступил в него, обварил ногу, застрял там тапочком – никак не вырвать – и от боли заскакал с бачком на ноге, шипя и отплевываясь, опрокидывая другие бачки. Через минуту столовую было не узнать.
Потом обваренный Вася со всякими выражениями добывал из бачка свой с дикой силой впечатанный тапочек.
АЛЬТЕРНАТИВА
Раньше на флоте часто говорили: «Альтернативы нет!»
И то, что этой альтернативы у нас не было, с утра до вечера до нас всеми средствами доносили. Просто в ушах звенело.
Даже мой старпом, когда ставил на стол литровую бутылку спирта, всегда говорил:
– Альтернативы нет!
С помощью этой альтернативы, а точнее, при полном ее отсутствии я даже с женой общался.
Тогда мы – подводники – жен своих очень редко видели. Раза два в месяц. Как тут не поинтересоваться насчет альтернативы? Интересовались. А как же!
Встречаешься, бывало, с женой в постели, и после того как период пузырей и восторгов заканчивался, и наступал период, когда надо было что-то делать, спрашиваешь ее, бывало, негромко так, с некоторым внутренним беспокойством:
– Как у нас насчет альтернативы?
А жена смеется и говорит:
– Не волнуйся, дорогой, альтернативы нет!
И после этого мы с ба-альшой результативностью использовали момент отсутствия этой самой альтернативы.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ
Увольнение для курсанта – это командировка в параллельные миры. В те удивительные, восхитительные, потрясающие миры, где все шумы – приятная мандолина, что доносится из-за занавески в глубине мавританского дворика, и где водятся женщины, от которых уже отвык глаз.
К увольнению готовятся – чистят, гладят, стригутся, парят и опять чистят.
Об увольнении мечтают, имеют на него виды, строят относительно него планы.
Целую неделю.
Перед тем как встать в строй увольняемых, еще раз все чистят, драят и придирчиво смотрят на себя в зеркало – все ли там хорошо?
А потом становятся в строй, и старшина может все испоганить, может выгнать из строя из-за ерунды, а может и не выгнать, а сказать: "Устраните вот это!" – потому и волнение.
А еще в строю проверят документы: "Покажите ваши документы!" – нате вам мои документы, вот!
Собираясь в увольнение, курсант Сэм решил опорожниться.
На всякий случай.
Сэм – это не имя, это прозвище, потому что он большой и решительный.
Зашел Сэм в гальюн, достал сзади из-за ремня портмоне с военным билетом и положил его, чтоб не мешало, в ящичек с "Гальюн Таймс" (где лежат всякие там "Стражи Балтики" и прочие, порванные на аккуратные листочки, размером точно под жопу).
Сделав главное перед увольнением дело, Сэм вышел облегченно и в этом облегчении он совершенно забыл про свое портмоне.
Когда он ворвался в гальюн с безумными глазами: "Где мои документы?!" – на дучке (чаша Генуя) уже разместился Коля с третьего взвода, в два раза меньший по размерам.
Только Коля отложил там свою первую порцию, как дверь с тотчас же вывороченным замком отлетела в сторону, и в дучку влетел Сэм с безумными глазами. Колю он схватил за воротник и, ни слова не говоря, выдернул вместе со штанами на щиколотках. Потом он закатил правый рукав суконки и картинно нырнул в дучку по самое плечо.
Коля, натягивая штаны:
– Сэм, ты чё?
– Военный билет, – хрипит Сэм, поворотив красную от натуги рожу, шаря почти что на дне. – Где-то он здесь. должен быть.
– Так вот же он! – и Коля из ящика с "Гальюн Таймс" достает портмоне.
До построения увольняемых оставалось десять минут.
Сэм вылил на себя весь одеколон роты.
В ЯЛТЕ
Васька Халькин привез в Ялту свою центральную нервную систему. На отдых.
Мичман Васька был подводником, а потому он был брюхат, лыс, коротковат и хронически счастлив.
Когда подводника выпускают на отдых, бархатный сезон сдвигают на декабрь.
Но даже в это время года в Ялте его встречает море зелени, очень ценный Никитский! сад с изумрудным травяным ковром, птички-фонтаны, сказочный воздух, капли дождя, лестницы мрамора и дворцы – земной рай, полный запахов, звуков, поэзии. Дикие слезы.
Редко кому удается сохранить вертикальное положение в царстве зелени после белого безмолвия, и Васька Халькин, конечно же, тут же опустился бы на четвереньки, если б у входа в Никитиский садик он не наткнулся. на кого бы вы думали? На заместителя командира по политической части.
Это обвал. Когда встречаются на отдыхе два таких изумительных украшения из одного экипажа – это обвал. Первого ждет бесцельное прозябание, второго – аритмия с безвитаминозом и бессонными ночами.
Не то чтобы Ваську Халькина нельзя было выпустить на международную дружескую делегацию. Можно было. Он уже однажды фотографировался с двумя космонавтами, из которых один был не наш, после того как обозвал их обоих «сынками» и заявил, что когда "он летал, они еще пешком ходили" и София Ротару, после ведра королевских роз, пела ему, запершись в отдельной комнате.
Ее чудесный голос два часа подряд прерывался Васькиным шлепковым рыданием.
С международной делегацией Васька бы справился. Просто он мог увести их не туда и показать им не те достопримечательности или мог выкинуть нечто такое, что на языке телевизионщиков называется "игры и танцы народов мира". Было уже. Его физиономия в таких случаях блаженно жмурилась и кивала.
– Ходить только со мной! – бросил ему через плечо смирившийся с ношей зам и, тут же представив себе, что будет с этой дивной природой, если Ваську так просто выпустить, с ужасом на него оглянулся.
Васькино лицо надело на себя надутое безразличие и покорность, буркнув что-то насчет прав всей страны на отдых.
Несколько дней они ходили по Ялте друг за другом: впереди всегда зам, обдумывающий возможные Васькины выходки, за ним – Васька, притихший, вздыхающий.
Они ходили размеренным шагом сомалийской пехоты. Как только они останавливались, Васька, как по команде, простужено восхищался предложенным видом.
Так долго продолжаться не могло. Это должно было чем-то закончиться. Кто-то из них должен был оступиться – напряжение росло – сорваться, чтоб дело докатилось до своего апогея.
– А кровь сдать можно? – Васька Халькин спросил и весь при этом подобрался, как барс в кульминации, когда они миновали веселый плакат, призывающий граждан сдавать кровь государству литрами.
– Кровь?… – зам удивился, но не насторожился. – Зачем это?… Ах кровь донорскую… – готовность отдать свою кровь на флоте всегда воспринималась с пониманием. – Кровь, наверное, можно.
Васька с места помчался так, будто от сдачи его крови зависела чья-то жизнь.
Для восстановления кровяного запаса потребовался кагор. Много потребовалось.
И потянуло на природу. В леса потянуло. В джунгли. Выть потянуло. Но не дотянуло.
До Никитских клумб Васька не дошел.
Он попал в зоопарк.
У клетки со свирепой медведицей Зоей собралась притихшая толпа. Зам локтями пробился в первые ряды. Сердце его не обмануло: довело и упало. То, что он увидел, нехорошо подкосило его ниже пояса, в обессилевшем разом желудке мерзко заныло, оральным путем пробежал холодок, во рту повис вкус дешевой дверной ручки, рука культяписто замотала, голос исчез.
В клетке, прямо за решеткой, рядом со свирепой медведицей Зоей, лицом на народ стоял Васька и говорил. Зрители, смотрители, дирекция – все, затаив дыхание, слушали Васькину последнюю речь. Временами, прерывая речь, он, обмолоченно повисая на плече у медведицы Зои, кормил ее чебуреками и объяснял ей накопившееся международное положение:
– С Польшей у нас проблемы. Ой проблемы с Польшей, ой!.. А Гвинея-Бисау нас бросит. Как ты думаешь? Оставит нас Гвинея, жаброй чувствую. Как считаешь?
Умная Зоя чутко следила за его мыслью и чебуреками.
– Вась-ка! – это зам присел и зашелся в надсадном крике. – Выхо-ди! Сгно-ю-уу!!! – и затряс головой, схватив уши руками, и забегал глазами.
Зоя оттерла Ваську плечом и заворчала.
Если кому дальше интересно, так Ваську доставали долго.
Крюками для мяса.
Во время доставания он непрерывно кивал.
ИХТИАНДР
Лично я укачиваюсь до полного бесчувствия, когда плоскость истинного горизонта наклоняется хотя бы на один градус. У нас это называется «Он звал Ихтиандра!».
Нельсон – единственное для нас утешение (для тех, кто укачивается) – что бы мы без него делали? Про него я знаю все: как он нес вахту и где стояло его ведро, но каждое новое начальство рассказывает мне про Нельсона что-то свое.
– Как это он укачивается? Так не качает же! Непонятно. Ну-ка, давайте его сюда.
– Вас в центральный.
Пойду. Обниму в последний раз раковину и пойду. Пища для укачивающихся должна быть мягкой и быстро выходящей. И не ешьте борщ – это лишнее.
– Ты что, укачиваешься?
Смотрит с интересом. Обычно я говорю «да», но для разнообразия можно сказать и "нет".
– Нет, ну что тут стесняться! Укачиваешься, да?
– Ну да, да, – киваю я. Сейчас он скажет про Нельсона.
– Даже Нельсона укачивался. Нес вахту и укачивался. И нормально все было.
Конечно, нормально. Сейчас он скажет о ведре.
– Ведро, слышь ты, ведро перед собой ставил, и вперед! И отлично все было! Флотом командовал! Фло-том! Вдумайся!
Уже вдумался. Теперь – "Нужно занять себя".
– Нужно занять себя! Не раскисать!
Про силу воли.
– Силу воли в кулак – и вперед!
"Главное – не думать".
– Главное – не думать! Работать и не думать. Самое главное – работать!
Вот орел! Где ж ты был, когда меня мучались, делали? Подсказал бы, что ли.
– Сухарей возьми и грызи!
Ага.
– Или вот кисленького чего-нибудь.
Ну конечно.
– Или вот огурец! Тоже помогает. Солененький. Берешь и сосешь его. Сосешь, понял?
Понял, сосешь огурец.
– Слушай, а у тебя всегда так? А? Всегда? Странно!
Опять накатывает. Сейчас пойдет. Не выплеснуть бы на «орла». И чего он тянет? Другой сказал бы: "Идите! Несите вахту, и чтоб без фокусов!" – и пошел бы я нести вахту.
– Ладно, давай! Слава Богу!
– Неси вахту, и чтоб без фокусов! Занять себя работой! Вот тебе задача! Занять и не раскисать!
Бегом по трапу.
– Куда это он рванул? – услышал я за спиной.
– Побежал звать Ихтиандра.
– Какого Ихтиандра?
– А. из раковины.
– Поди ж ты!..
УШИ
Вова Протасов возвращался из увольнения.
Когда Вова Протасов возвращается из увольнения, всегда кажется, что ступеньки существуют только для того, чтоб на них спотыкаться, перила – чтоб хвататься, а голова – чтоб бодаться.
Если б перед Дарвином в самый урожайный период его дарвинской биографии маячила не нафабренная и чопорная физиономия англичанина, а суровая рожа Вовы Протасова, он не сделал бы гениальный вывод о том, что человек произошел от обезьяны, он сделал бы другой гениальный вывод о том, что он произошел от коровы, и значительно позже произошел.
Но, в отличие от дельфина, тоже произошедшего от коровы, Вова не был наделен чудесным даром эхолокации и после увольнения в город попадал в открытую дверь казармы только с третьего раза.
Когда курсант приходит из увольнения, его сейчас же тянет в гальюн – там, кроме прочих дел, можно и воды выпить.
Вова Протасов всегда жадно пьет воду в умывальнике гальюна, присосавшись губами к крану, но до похода в гальюн он, как правило, успевает еще немного покуражиться и покуролесить.
Опробовав ситуацию, Вова к ней больше не возвращался.
Однажды в час ночи он зажег свет в спальном помещении роты, спросил гадом ползучим: "Спите, сволочи?" – за что немедленно получил прилетевшим ботинком в лоб, упал, где стоял, и успокоился там до утра.
В другой раз он уже не зажигал свет, а пытался его потушить.
Спаренный еще в городе в нечто четвероногое со своим лучшим другом Петей, возвратившись слишком рано в родные пенаты, Вовик решил, что лампочка над его коечкой светит удивительно ярко и ее срочно надо гасить.
Вова лег в койку, а его друг Петя, столь же пухленький, взобрался на ту тумбочку, что стоит вплотную к Вовиной коечке.
Там он, Петя, раскачиваясь ливанским кедром, поискал в штанах и вынул свой гульфик.
Вова был уверен и убедил в том кивающего Петю: если струя из гульфика попадет в лампочку, то она сейчас же взорвется и погаснет.
Прищурившись и непрерывно измеряя расстояние выставленным вперед пальцем, он корректировал засыпающего на тумбочке Петю:
– Так, так, влево, влево, я тебе говорю влево. а теперь вверх, вверх, я тебе говорю!..
Петя, поместив голову себе на грудь, стоял, осклабясь, на тумбочке, а жил он в тот момент, по всей видимости, только нижней своей частью, полностью положившейся на Вову.






