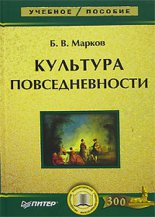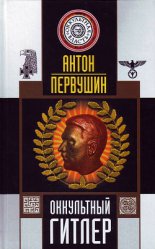Китай управляемый: старый добрый менеджмент Малявин Владимир
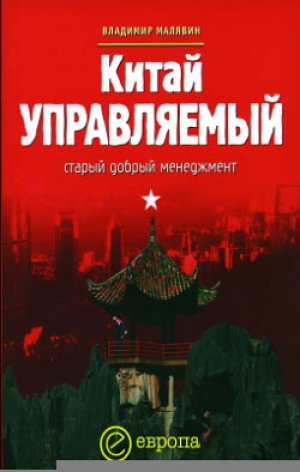
«Сердце пребывает в круговращении без следа и образа. В таком случае под воздействием либо внутренней силы, либо внешнего восприятия в нем рождаются устремления и мысли. Когда же эти устремления еще не проявились, они пребывают в состоянии непостижимого первозданного хаоса, которое зовется сокровенно-мельчайшим...
То, что исходит из сердца, зовется устремлением. Это явление подобно написанию письмен кистью: качество устремления проявляется в написанных знаках... Когда сердце прямо, тогда и знаки, выведенные рукой, тоже прямы, а если сердце криво, тогда и знаки кривы. Если сердце безмятежно-покойно, тогда и осанка, и все жесты будут сами собой правильны»[86].
Ясно, что «сердце» в китайском понимании представляет собой само пространство сообщительности, некое среду-средоточие, в котором внутреннее и внешнее свободно проницают друг друга, так что «действие изнутри» или «воздействие извне» взаимно дополняют и даже заменяют друг друга. Вот почему «сердце» в китайской мысли есть условие и средство всякой сообщительности.
С понятием сердца как среды и средства общения-управления тесно соотносится понятие дэ, которое в западной литературе обычно переводится словом «добродетель», но – как и латинское virtus – имеет также значение «жизненная сила». Однако в отличие от своего латинского аналога китайское дэ может означать также полноту жизненных свойств, внутреннее совершенство всего сущего. В этом смысле добродетель-дэ, как сама «таковость» бытия, есть принцип одновременно единого и единичного: она воплощает своеобразие каждой вещи и родовую мощь жизни как таковой. Поэтому дэ утверждает исключительность того, кто обладает властью или авторитетом, но вместе с тем обеспечивает единение людей в любой корпорации. Природа «таковости» есть согласие (хэ), безграничная гармония всеединства, в которой все отдаленное сливается в «одно тело» бытия. Гармония имеет различные ступени совершенства, но не имеет предела. Соответственно, дэ каждого существа определяется его причастностью тому или иному уровню гармонии, так что статус индивида обусловлен его способностью со-бытийствовать с миром. Это означает, что дэ есть сама действенность воздействия личности на общество. Классическое изречение Конфуция гласит: «Человек дэ не будет одинок, вокруг него обязательно соберутся люди». Даосы говорят о «вечном», «всеобъемлющем» или «сокровенном» дэ. Речь идет, в сущности, о символической глубине опыта, в которой сходятся индивидуация и родовой момент существования.
Итак, «сердце» как пространство (символическое) человеческой сообщительности и «добродетель» как полнота индивидуального бытия и сила «собирания» всего сущего составляют два необходимых условия и вместе с тем две всеобщие нормы управления. Какова их природа и, главное, какое значение они имеют для практики управления? Позволю себе сослаться на не совсем обычный текст, весьма экстравагантный по форме и, по-видимому, имеющий мало отношения к действительным вопросам управления. Но так уж устроена китайская мудрость, что многие вещи в ней выговариваются иносказательным и на первый взгляд темным, даже фантастическим языком. В даосских канонах «Чжуан-цзы» и «Ле-цзы» содержится странный рассказ о том, как некий даосский учитель Ху-цзы посрамил одного могущественного колдуна. Привожу этот рассказ целиком:
В царстве Чжэн жил могущественный колдун по имени Ли Сянь, который умел предсказывать судьбы людей – будет ли человек жить или умрет, спасется он или погибнет, встретит или не встретит удачу, умрет ли в молодости или доживет до глубокой старости. Еще он умел предвидеть события, называя и год, и месяц, и даже день. Столь велико было его искусство, что жители Чжэн, завидев его, обращались в бегство. Увидел его Ле-цзы, и ему в словно хмель в голову ударил. Вернувшись домой, он сказал своему учителю Ху-цзы: «Раньше я думал, учитель, что ваш Путь выше прочих, но теперь знаю, что есть и еще более высокий».
– Я познакомил тебя с внешней стороной Пути, но не успел раскрыть тебе существо Пути, – ответил Ху-цзы. – Постиг ли ты его воистину? Даже если кур много, а петуха на них нет, откуда взяться яйцам? Ты чересчур озабочен тем, как претворить Путь в миру, снискать всеобщее расположение, и потому людям, глядя на тебя, легко распознать твои намерения. Попробуй привести его сюда, пусть он посмотрит на меня.
На следующий день Ле-цзы привел колдуна к Ху-цзы. Когда колдун вышел, он сказал Ле-цзы:
«Гм, твой учитель – мертвец, ему не прожить и десятка дней. Я увидел нечто странное, увидел сырой пепел!»
Ле-цзы вошел в комнату учителя, обливаясь слезами, и передал ему слова колдуна. Ху-цзы сказал:
«Я только что явился перед ним в облике Земли. Источник жизни во мне затаился, замер, но и не имел постоянного места. Ему же, верно, привиделось, что жизненной силе во мне прегражден путь. Приведи его ко мне еще раз».
На следующий день колдун вновь пришел к Ху-цзы, а уходя, сказал Ле-цзы: «Счастье, что твой учитель встретился со мной. Ему сегодня намного лучше. Он совсем ожил! В его безжизненности я разглядел нарождающуюся силу!»
Ле-цзы передал слова колдуна учителю, и тот сказал: «На сей раз я предстал ему зиянием Небес в массе Земли. Ни имя, ни сущность в нем не гнездятся, а жизненная сила во мне исходила из пяток. Он, верно, и разглядел во мне это неодолимое действие этой силы. Приведи-ка его еще раз».
На следующий день колдун вновь пришел к Ху-цзы и, выйдя от него, сказал Ле-цзы:
«Учитель твой так переменчив! Я не могу разгадать его облик. Подождем, пока он успокоится, и я снова осмотрю его». Ле-цзы передал слова колдуна учителю, и тот сказал: «Я предстал ему Великой Пустотой, которую ничто в мире не может превзойти. И вот он узрел во мне глубочайший исток жизненных сил – такой покойный, такой безмятежный! Ибо и в водовороте есть глубина, и в омуте есть глубина, и в проточной воде тоже есть глубина. Глубин этих насчитывается всего девять, я же показал ему только три. Пусть он придет еще раз».
На следующий день колдун снова пришел к Ху-цзы, но не успел он усесться на своем сиденье, как в смятении вскочил и выбежал вон. «Догони его!» – крикнул Ху-цзы ученику. Ле-цзы побежал за колдуном, но не смог догнать его. – Колдун исчез, сгинул куда-то, я не смог его догнать! – сказал Ле-цзы, вернувшись в дом Ху-цзы. А тот сказал: «На сей раз я показал ему свой изначальный образ – каким я был до того, как вышел из своего изначального прародителя. Я предстал перед ним пустым, неосязаемо-податливым; невдомек ему было, кто я и что я такое, и ему показалось, будто он падает в бездну и скользит куда-то с водным потоком. Вот почему он убежал от меня»[87].
Рассказ об учителе Ху-цзы откровенно фантастичен, и нам еще предстоит объяснить эту его особенность. Однако нельзя не учитывать того обстоятельства, что он с древности служил для многочисленных комментаторов классическим текстом о природе «сердца». В рассказе драматизируется, собственно, столкновение двух видов знания: одно из них – инструментальное, предметное, можно сказать, инженерное знание физиогномиста, другое – знание бытийственное, а потому неотделимое от самого истока жизни и по той же причине безупречно действенное. И второе оказывается неизмеримо выше первого. Попробуем прокомментировать приведенный сюжет, обращаясь ко всему контексту китайской духовной традиции. Специалисты, возможно, упрекнут меня в том, что я делаю слишком широкие обобщения и смешиваю понятия и идеи, относящиеся к разным школам мысли и историческим эпохам. Но и максимально широкое обобщение опыта мысли тоже может быть полезным, если оно дает новое видение предмета и открывает новые горизонты исследования.
Фабула рассказа сводится, как можно видеть, к неким трансформациям, «явлениям» внутреннего состояния учителя Великого Пути, и эти явления знаменуют последовательное раскрытие все более глубоких или, если угодно, реальных состояний духа. Само «сердце» или, можно сказать, духовный опыт жизни уподобляются здесь бездонной водной пучине. Сравнение примечательное: то, что происходит на поверхности воды, позволяет лишь догадываться о том, что происходит в ее глубине, но в то же время прозрачная вода скрадывает глубину, позволяя ясно видеть дно, в конечном счете – делая дно неотделимым от поверхности жизни. Такой же смысл имеет традиционное для китайской мысли уподобление просветленного сердца зеркалу, которое вмещает в себя мир, не имея собственной глубины, сводя все явления к поверхности. Метафоры водной глубины и светлого зеркала указывают на присутствии в просветленном сознании некоей вертикальной оси, вечно отсутствующего, символического измерения. В той же книге «Чжуан-цзы» реальность именуется также неисчерпаемой «Волшебной кладовой» или «Волшебной Башней» мироздания – неким неизмеримым резервом бытия: «черпай из него, и в нем ничего не убавится; добавляй в него, и в нем ничего не прибавится».
Метафоры воды и зеркала указывают на так называемую недуальность как саму природу «сердца» в китайской мысли: подлинное знание всегда есть «иное» по отношению к предметности опыта или умозрения, но не отличается от чистой актуальности существования. Идея сознания как зеркала не имеет познавательного значения: в зеркале нечего созерцать, ибо там все пустое. Тем более ошибочно искать в этих явлениях – то есть в данных чувственного восприятия, а равно умозрения – надежные свидетельства истины. Это означало бы, как выразился один китайский автор, «отгонять мух куском тухлого мяса». Правда сердца, согласно традиционной формуле, опознается как «точка просветленности» в глубине сознания, и в этой точке «от века ничего не рождается и не умирает». Такая реальность заявляет о себе как качественная определенность любого опыта, безусловное «здесь и теперь» актуального существования и раскрывается как серия все более утончающихся метаморфоз, всеобъемлющий, непостижимо-утонченный ритм музыки самой жизни. В ней есть только «другое», вездесущее чистое различие, которое не имеет собственной сущности, момент самотрансформации, бесконечно малая дистанция между присутствующим и отсутствующим, которая предшествует всякой данности, эмпирической или умозрительной. Секрет сердечного бодрствования есть пребывание на грани несопоставимых миров в непреходящей со-бытийности, в не-сущем, все несущем в себе. В «Чжуан-цзы» сама жизнь сравнивается с «прыжком скакуна через расщелину» или «промельком луча в щели». Вечно ускользающий разрыв между предшествующим и последующим моментами соответствует как раз полной открытости сознания динамизму жизни. Обратим внимание на то, что даосский учитель везде говорит об «источнике жизненной силы», имея в виду происхождение добродетели-дэ. Последнее обеспечивает внутреннюю преемственность всех моментов существования в череде их актуальных проявлений.
Между тем учитель Ху-цзы, очевидно, предъявляет колдуну последовательные ступени погружения в глубину духовного опыта. Сама возможность такого движения обусловлена трансцендентной природой сознания, его способностью превзойти свою «данность». Однако это самопревосхождение духа совпадает с его природой и поэтому возвращает к чистому естеству существования. По-китайски это свойство сознания обозначилось глагольным отрицанием, как это выражено в известном понятии «не-сознание» (у-синь). Разумеется, такое отрицание заключало в себе положительный смысл: позднейшие китайские философы часто говорят о «сознании не-сознания». Выражение вполне законное и обоснованное, поскольку самоотрицательность сознания как раз и удостоверяла его истинную природу.
Буддийские комментаторы не преминули истолковать рассказ о четырех «явлениях» учителя Ху-цзы в духе четырех ступеней духовного познания в буддизме: утверждение, отрицание, утверждение того и другого, отрицание того и другого. Но очевидно, что мы имеем дело не с умственными операциями, а с бытийственными превращениями. Первое состояние, предъявленное Ху-цзы, знаменует отрешенность от чувственного восприятия и переориентацию умственного взора на внутреннее самосознание. В традиции даосского совершенствования оно соответствует «вбиранию в себя сердца» (шоу синь), то есть освобождению от привязанности к эмпирическому опыту, отстранению от внешнего мира. Но высшее совершенство в даосизме есть абсолютность имманентного: оно пронизывает мир, не будучи сводимым к вещам, и воплощает собой «сокровенное подобие этого и того». Постижение «правды сердца» предполагает усилие не самоотвлечения, а, употребляя словечко Розанова, «распускание себя», освобождение себя от хватки интеллекта и гнета индивидуального самосознания.
Второе состояние Ху-цзы по необходимости предстает отрицанием первого: речь идет о той открытости «зиянию небес», которое соответствует модусу «инаковости» в акте превозмогания внешнего мира – положительному началу в интеллектуальной отрицательности. Позднейшие философы нередко говорили в этой связи об «изначальном сознании» (бэнь синь), или «собранности должного в себе», то есть внутренней самодостаточности духа, удостоверяющей присутствие «добродетели». Еще Конфуций ставил превыше всего тех, кто «знает от рождения» (или «по жизни»). Его древний последователь Мэн-цзы говорил о «врожденном знании» (лян чжи), некоем безошибочном моральном инстинкте. В эпоху позднего средневековья радикальные сторонники интуитивизма Мэн-цзы выдвинули понятие чистого, безусловного знания, которому, заметим, соответствует абсолютное, беспредметное событие, не имеющее признаков и следов, подобно «полету птицы в воздухе».
С темой абсолютного знания в китайской мысли связан мотив «подлинности» своего существования, постигаемой именно как собственная «единственность», «несравненность». Впрочем, опыт этой «подлинности» остается чисто внутренней уверенностью, не имеющей формальных признаков. Например, древний комментатор книги «Чжуан-цзы» Го Сян определял подлинную жизнь как «одинокое превращение в мире сокровенного» и подчеркивал ее безусловный характер: «мое существование здесь и теперь не могут отрицать ни боги, ни правители государства». Ученые позднего средневековья часто описывают опыт духовного прозрения как «забвение границ между внутренним и внешним, древним и настоящим». Не будем забывать, впрочем, что речь идет не о некоей универсальной сущности, а, напротив, о всегда исключительном, извечно возобновляющемся различии, которое предстает как непрерывная прерывность, неуклонное уклонение и в этом смысле – динамическая пустотность. Речь идет о состоянии, которое никогда не тождественно себе, но опознается во взаимном дополнении и взаимопроникновении двух аспектов бытия: «пустого» и «наполненного», «открытия» и «закрытия», «сокрытия» и «выявления», причем одно предполагает другое и неотделимо от него.
Следующие два «явления» Ху-цзы представляют собой одновременно преодоление и продолжение, говоря по-гегелевски – снятие первых двух ступеней. В традиционной схеме совершенствования они соответствуют этапу «сокрытия сокрытого», «потери утраты», а в положительном смысле знаменуют стяжание высшей целостности бытия и, следовательно, абсолютного покоя духа, даосскими авторами определяемого как «величественная умиротворенность» (тай дин). Высшая ступень этого состояния соответствует постижению чистого самосознания жизни или абсолютной субъективности, предшествующих рефлексии и разделению мира на субъект и объект. В китайской литературе в этой связи говорится об обретении «сердца Неба и Земли» – одновременно абсолютно пустого и все в себя вмещающего. Такова подоплека даосского афоризма: «Мир и я рождаемся вместе». Конфуцианский философ XVI века Ло Жуфан выразил ту же идею в следующих словах: «Наше тело семи вершков росту может внезапно составить одно с Небом и Землей, и в одно мгновение мы можем охватить собой все времена, древние и нынешние»[88].
Итак, пребывание в Великом Пути есть живой опыт «единотелесности» как непрерывного самообновления, само-различения, самопотери, даже самозабытья. Поэтому, кстати сказать, прозрение в китайской традиции связывалось с опытом «сомнения», недоумения и прямого «незнания», то есть положительного не-знания. Еще Чжуан-цзы говорил, что мудрый растет духовно благодаря сомнению. В позднейшие времена пользовался популярностью афоризм, гласящий: «Малое сомнение – малое прозрение. Великое сомнение – великое прозрение».
Высшая ступень духовного, или бытийственного, знания в рассказе об учителе Ху-цзы соответствует пребыванию в «изначальном прародителе», то есть в своем родовом бытии, и вместе с тем пределу «ускользаемости», внушающей опыт неудержимого скольжения в бездну. Выражение «еще не вышел из изначального прародителя» сообщает о достижении состояния пред-бытийности, которое предваряет, предвосхищает все сущее, включая само усилие самоотстранения или самовосполнения. В этой высшей точке совершенствования акт «оставления» всякого опыта и знания принимает вид предоставления всему свободы быть тем, чем оно может быть, и, следовательно, свободы просто быть. В духовной традиции Китая этот последний этап совершенствования нередко именуется «возвращением в пустоту», «вхождением в Путь» или ступенью «превращения» после этапов «выявления» и «сокрытия» своего совершенства. Нужно ли считать, что достигнута точка крайнего самоуглубления? Отнюдь нет. Как раз наоборот: предел совершенства на оси самоустраняющейся бытийственности бытия соответствует как раз незавершенности конечного, частного, преходящего. Высшее знание есть чистая операциональность, и оно сливается с конкретным и текучим характером человеческой практики как таковой. Оно там, где, как говорили китайские учителя, человек просто делает: «сидит как сидит», «идет как идет». Это предел естественности, в обществе соотносимый с анонимной, недоступной «рассмотрению» стихией повседневной жизни. Но слово «как» напоминает о присутствии в этом делании внутренней, символической глубины, в которой пребывает беспредметная и, следовательно, бесконечная действенность. Речь идет о делании, свершающемся под знаком забытья. Его ближайшим прототипом является анонимная и спонтанная стихия повседневности.
Самый интересный комментарий к этому пассажу оставил ученый XVII века Ван Фучжи, который толкует последние слова Ху-цзы следующим образом:
«Не выйти из своего изначального прародителя означает твердо держаться средоточия мирового круговорота, бесконечно сообразовываясь с превращениями вещей, и не стараться управлять вещами, тогда как вещи не оставляют своего обычного места. А в таком случае пахота пашется сама по себе, ткани ткутся сами по себе, ритуалы и наказания осуществляются сами по себе, и каждый обретает покой в том, что дано ему Небом. Тогда нет ничего личного, а просто следуешь тому, что таково само по себе»[89].
Мир собирается в (символической) глубине пред-оставленности вещей себе, в той глубине о-бычности всего сущего, где все делается, но никто ничего не делает; все дается, но никто ничего не лишается. Здесь каждый получает тем больше, чем больше отдает. Или, как писал еще Го Сян, «чем больше вещи отличаются друг от друга по своей форме, тем более они подобны друг другу в таковости существования».
Итак, Великий Путь есть именно чистое движение по бесконечно малой дистанции само-различия; путь совершенствования от не-себя к не-Себе – от иллюзорной идентичности эго к подлинности неопознаваемой Единственности своего существования. Этот путь в Китае называли Великим потому, что он являл собой предел всякого действия, который есть одновременно полный покой, не-деяние (у вэй) и неизбывная действенность в каждом действии или, говоря словами Ж. Делеза, «действие, адекватное вечности». Это, наконец, не мир явлений и даже не принцип явлений, а сама явленность бытия, несводимая к явлениям.
Бытийственность как родовой момент бытия можно мыслить только как «жизнь преизобильную» в безмерности ее творческой мощи. «Порождение живого», «жизнь животворящая» (шэн-шэн) и есть главное свойство Великого Пути. Этот бесконечно малый круговорот не имеет пространственных и временных параметров и вообще предшествует всякой предметности. Принцип его движения в Китае называли «небесным» или «глубинным» импульсом, который «мал до неразличимости», «сокровенен», «непостижимо-утончен» и проч. Такова природа Пути: «спонтанное скручивание единотелесности» мира, «нерожденная одухотворенная пустота, которая безостановочно вращается силой небесного импульса». Круговорот Пути существует «между присутствующим и отсутствующим»; он превосходит оппозицию актуальных и потенциальных качеств существования, сводя их воедино в виртуальном измерении бытия. Оттого же способ существования в Великом Пути не есть ни познание, ни даже созидание нового, но... «наследование безусловному», именно: наследование реальности, предвосхищающей все вещи и сам мир. Свобода покоя, покой свободы доступны только тому, кто (пред)оставил мир самому себе.
Стихия повседневности кажется ближайшим аналогом описанной здесь символической практики Великого Пути. Отсюда частые в китайской литературе, особенно даосской, уподобления «небесной» реальности жизни ее биологической данности. Тот же Чжуан-цзы заявляет, что «небесное в буйволе – это четыре ноги и хвост». Тот же подтекст имеют уподобления позднейших авторов «таковости» бытия спонтанным человеческим реакциям – например, «одеваться в холод и раздеваться в жару», «откликаться, когда окликнут» и т.п. Однако же биологические реакции и тем более автоматизм поведения только подобны состоянию духовной просветленности, но отнюдь не тождественны ему. В сущности, они противоположны этому состоянию как высшему продукту усилия самопознания, духовного бодрствования. К этим образам прибегают по необходимости – как к наиболее правдоподобному сравнению, но не более того. Речь идет о фигуре анафоры, соответствующей принципу недвойственности символического миропонимания, и этот неразличимый троп вкупе с сопутствующей ему и столь же неразличимой иронией пронизывает всю словесность Китая в ее качестве «речи о Пути».
Рассказ об учителе Ху-цзы ярко высвечивает еще одну важную черту жизненного идеала Дао: мудрец, усвоивший родовую силу жизни, способен жить непосредственным «сердечным общением» с людьми и покорять их сердца силой своего внутреннего совершенства дэ. Он воздействует на других не чем иным, как искренностью покоя, ведь он постиг и принял «неразличимую в своей утонченности» правду сердца. Оттого же он способен внушать подлинно священный ужас людям с ограниченным видением, замыкающим бесконечность мира в ограниченности понятий, ведь сам он являет собой абсолютное другое в образе обыденного и знакомого; сквозь его земной облик просвечивает небесная бездна. В даосских книгах отмечается – кстати, в полном согласии с нашим здравым смыслом, – что подлинный страх внушает не тот, кто пугает нарочно, а авторитет имеет не тот, кто заискивает. Сильнейшее воздействие на людей оказывает тот, кто умеет воистину переживать, переживать себя, что дает способность безупречно владеть собой и сохранять совершенно бесстрастный вид (отсюда, кстати, проистекает магия актерской игры). Одна из главных тем китайской традиции – неотразимое воздействие на окружающих мудрого правителя, подвижника, учителя – всякого, кто взрастил в себе «сокровенную жизненную силу». Человека, покоряющего сердца ненаигранным покоем, который неотделим от полного радушия. Тема практическая, но также этическая. Рассказ об учителе Ху-цзы – это, в сущности, рассказ о том, каким образом мера нашей сообщительности с другими может служить мерой нашего отличия от других. А заканчивается он стихотворным эпилогом, касающимся его ученика. Отметим, что вершина духовного постижения здесь оказывается неотличимой от чистой материальности Земли:
«Тут Ле-цзы понял, что еще и не начинал учиться. Он вернулся домой и три года не показывался на людях.
Сам готовил еду для жены.
Свиней кормил, словно гостей угощал.
О мирских делах думать перестал.
Роскошь презрел, вернулся к простоте.
Одиноко стоял, словно ком земли.
Не имел правил, но умел себя крепко блюсти.
Так он прожил до последнего дня».
Каким образом чистый аффект символического круговорота Великого Пути формирует культуру с ее ценностями, нормами и стилями? Это главная тайна китайской – и, в сущности, любой – духовной традиции. Первичный аффект самосознания делает возможным, согласно наставлениям китайских учителей, «доверие» (синь), или, точнее, внутреннюю уверенность в подлинности своего существования. Самое же протобытие круговорота Пути относится к области того, что в Китае называли «семенами» или «утонченной стороной» вещей – к «истокам» опыта, неким первичным микровосприятиям (если воспользоваться понятием Лейбница). Из океана этих «смутных», «утонченных» микровосприятий посредством дифференцированных связей с чувственными образами складываются те макрообразы, которые и составляют материал культуры. По своей природе эти микрообразы представляют собой динамическое соотношение сил и определенное качество состояния (именно: со-стояния), а по своей функции в культуре – символические типы, указывающие не сущность, а пределы вещей, силу жизненных метаморфоз. Они подобны музыкальной теме, развертывающейся в многообразии ее вариаций, или мотиву, представленному серией отдельных фрагментов. Здесь каждое явление напоминает о том, чего... никогда не было – о безмерности памяти и упований человеческого сердца. Отсюда же и преклонение китайских мудрецов перед незапамятной древностью. Позднейшие знатоки «науки сердца» говорили даже о способности сердца «превзойти великую древность».
Наследие традиции в Китае являло собой не что иное, как репертуар подобных символических типов: таковы типовые элементы китайской пейзажной живописи, категории материалов и изделий в китайских ремеслах, стильные предметы быта, нормативные аккорды в музыке и нормативные движения в китайской гимнастике и боевых искусствах и проч. В традиции стратегической мысли отличным образчиком подобного жизнепонимания является список «36 стратегем», получивший в последнее время широкую известность на Западе. Впрочем, в старом Китае гораздо большей популярностью пользовались антологии исторических примеров, иллюстрирующих те или иные типы ситуации.
Между тем чеканка и усвоение типовых форм, составлявшие сущность культурного творчества и образования в Китае, сопровождались последовательным повышением духовной чувствительности или, если угодно, прояснением внутреннего взора. Эти формы не имеют отношения к порядку представления, к репрезентации. Они указывают на событие духовного бодрствования, и их откровенная стильность, то и дело срывающаяся в гротеск и карикатурность, есть симптом необычайной интенсивности переживания. Китайское искусство – великий памятник духа, который ищет не самовыражения, а внутренней удовлетворенности покоя.
Отмеченные выше особенности китайского мышления обусловили и своеобразие китайских школ – этой подлинной основы традиционной китайской социальности. Школа в Китае была, по своей сути, продолжением усилия духовного совершенствования ее основателя как само-стилизации, возведения своей индивидуальности в надвременный тип. Соответственно, учение в старом Китае сводилось к усвоению всего арсенала типовых форм, составляющих наследие школы, а бытие последней являло собой череду моментов существования, отмеченных печатью одной и той же родовой индивидуальности. Правда, китайские учителя по уже известным нам причинам не могли объяснить секрет преображения микровосприятий в типовые формы культуры и потому ставили акцент на безусловном доверии к ним и практических эффектах занятий.
Корпорация в Китае (семья, религиозная община или даже династия) есть прежде всего личностный тип. Она предполагает наличие определенного этоса, модальности и стильности отношений, основанных на безмолвно-доверительных отношениях между ее членами. Это необъективируемое, интимно-внятное каждому, но свободное от субъективности поле междучеловеческой сообщительности и есть то, что в Китае называли «сердцем».
Коммерция и добродетель в старом Китае
Теперь рассмотрим подробнее, каким образом торговая и ремесленная деятельность в Китае соотносились с нормами конфуцианской морали. Выше уже говорилось, что к XVI веку в китайском обществе прочно укоренилось представление о том, что купечество имеет «одно сердце» с учеными мужами и способно на свой лад претворять идеалы Великого Пути. Эту мысль надо понимать так, что все люди, независимо от их занятий и положения в обществе, имеют равные возможности для познания своей природы и совершенствования себя. Исторически новый взгляд на человека, как легко видеть, отличался двойственностью: с одной стороны, он оправдывал возникновение принципиально нового уклада жизни, а с другой – утверждал преемственность этого уклада с ценностями и законами традиционного жизненного порядка. Пока невозможно дать однозначный ответ на вопрос, являлся ли подобный взгляд на купечество уступкой нарождавшимся капиталистическим отношениям или, наоборот, он в действительности ограничивал и сдерживал развитие этих самых отношений.
После всего сказанного выше о значении «сердца» в человеческой деятельности кажется самоочевидным, что ключ к общественному успеху китайцы видели во внутреннем, духовном состоянии человека, а смысл внутреннего опыта для них сводился к усилию нравственного совершенствования. Наибольшее значение здесь придавалось идеалу «внутреннего почтения» (цзин), каковое, по определению американской исследовательницы Дж. Берлинг, означало «серьезность, осторожность и искренность, которые господствовали в моральной жизни. Это было состояние сосредоточения и внутренней собранности, которые давали покой независимо от того, был ли ум деятельным или нет»[90]. Обладание «внутренней почтительностью» было главным отличительным признаком идеального человека в конфуцианстве – «благородного мужа», которому, по словам самого Конфуция, полагалось быть свободным от страстей и суеты мира и непрестанно пестовать свою нравственную волю. Это состояние внутренней свободы и безмятежности души дарило конфуцианскому мужу чувство морального удовлетворения, которое имело и вполне практическую значимость: усилие личного совершенствования приносило высоконравственному мужу всеобщий почет и давало ему возможность оказывать облагораживающее воздействие на общественные нравы.
Вот так, согласно незыблемым нормам конфуцианской традиции, внутренняя победа над своекорыстными поползновениями в душе оказывалась в конечном счете самым верным путем к общественному успеху. Автор классического альманаха для торгового сословия, У Чжунфу, на первой же странице своего сочинения утверждает, что сам он всегда держался скромно и вежливо и извлек из такой линии поведения большую выгоду. У Чжунфу признавал, что можно разбогатеть и не придерживаясь этих добродетелей, но подчеркивал, что путь «благородного мужа» не таков. Судя по литературе позднего средневековья, в те времена считалось общепризнанным, что только добродетель может служить прочной основой для семейного процветания. Существовало даже понятие «сокровенная добродетель» (инь дэ), обозначавшее скрытые истоки успеха и процветания в мире:
считалось, что истинно добрый человек живет до глубокой старости, не ведая болезней, а его потомки тоже будут счастливы.
Главным принципом пестования добродетелей считалось умение хранить «срединность в вездесущем» или, можно сказать, «центрированность в жизненном постоянстве» (чжун юн). (Этот принцип представлен в заглавии древнего конфуцианского канона, который обычно переводится на русский язык словосочетанием «середина и постоянство».) Речь идет о способности во всех жизненных ситуациях хранить душевное равновесие, умственную сосредоточенность и благообразие, а следовательно – избегать всяких крайних, чрезмерных проявлений чувств. Враг душевной «центрированности» – любая спешка и торопливость, отсутствие благоразумной размеренности в речи, внешности и манерах. Все эти огрехи поведения выдают неуважение человека к себе и другим и, что еще хуже, ведут к неудачам в жизни. К примеру, как говорится в том же альманахе У Чжунфу, «во все времена чрезмерная радость неизменно порождала волнение. Только если находить удовлетворение в срединном пути и сердечной гармонии, можно уберечь здоровье и достичь долголетия». Конфуцианская формула правильного поведения, бесконечно повторяющаяся в разного рода нравоучительных сочинениях, гласит: «Будь безупречен в своем одеянии и исполнен достоинства в своей позе». Вот как разъясняется смысл «срединного пути» в жизни торговца в одном из руководств по ведению торговли, составленном в середине XIX века:
«Тот, кто имеет дело с людьми в миру, должен следовать срединному пути. Он не должен притеснять других просто потому, что он могущественнее и влиятельнее, не должен обманывать других потому, что они богаты, и не должен унижать других потому, что они талантливы. Он не должен причинять вред другим из-за старой ссоры, не должен выдвигать других из корыстных побуждений и не должен хвалить других только потому, что они не пользуются расположением людей.
Только если держаться скромно и с щедростью распоряжаться своим богатством, можно будет избежать несчастий в жизни. Вот руководство к тому, как уберечь благоденствие своей семьи»[91].
Авторы нравоучительных сочинений для торговцев подчеркивают практическую значимость этих как будто отвлеченных советов. Только душевное спокойствие и эмоциональное равновесие позволяют торговцу правильно оценить характер и деловые качества своего партнера, что в деловой жизни имеет первостепенное значение. Еще Конфуций говорил: «Благородный муж доверяет всем, но первым замечает обман». В сочинении «Основы деловой жизни» та же мысль развивается подробнее: «Нужно быть прямым и хранить постоянство, быть вежливым, полным достоинства, говорить громко и четко. Имея просветленное сердце и ясный взор, можно отличать истинное от ложного и понимать, кто умен, а кто глуп»[92]. Соответственно, автор альманаха советует выбирать тактику действий в зависимости от того, с кем приходится иметь дело: «Если ты имеешь дело с мудрецом, следуй ритуалу и музыке. Если ты имеешь дело с негодяем, возьми в руки топор».
Пособия по ведению торговли, предназначенные для купцов и их семей, довольно подробно разъясняют методы и цели воспитания будущих торговцев. Как и следовало ожидать, они в основном совпадают с традиционными, конфуцианскими в своей основе, принципами китайского воспитания. Примечательно, что в этих альманахах не предусматривается никаких специальных занятий, касающихся практических знаний деловых людей, как то: счета, правил торговли, ведения бухгалтерии и т.п. Очевидно, такие знания и не считались частью школьного обучения, ими овладевали непосредственно в жизненной практике. Что же касается воспитания добродетели, то оно начиналось с усвоения простых правил поведения, учивших сдержанности и умению владеть собой. От ученика в лавке требовали «не смотреть по сторонам, не бегать, размахивая руками, и не выглядеть дурачком». Ему полагалось стоять всегда прямо, не облокачиваться на стену и так же прямо сидеть на стуле, не качая ногами. Он не должен был с жадностью набрасываться на еду и класть локти на стол. Более того, от него требовалось спать, лежа на боку и согнув колени, не храпеть и не разговаривать во сне.
Все это является частью общекитайской системы воспитания, включая даже требование не храпеть и не разговаривать во сне, ибо тот, кто овладел секретом духовного бодрствования, умеет владеть собой даже во сне (поэтому в китайских религиях человек ответственен даже за грех, совершенный во сне). Достаточно сравнить упомянутые требования с правилами поведения, принятыми в конфуцианских школах той эпохи:
«Когда сидишь, держи спину прямой и сиди на стуле прямо. Нельзя наклоняться на одну сторону, скрещивать ноги или класть ногу на ногу. Вечером нужно ждать, пока старшие не пойдут спать. После того, как они легли, нужно соблюдать тишину. Ходить нужно медленно. Когда же стоишь, держи руки сложенными перед собой. Не смей ходить или вставать в присутствии старшего. Не стой на пороге. Ни на что не облокачивайся. Суждения должны всегда соответствовать истине. Никогда не нарушай своих обещаний. Внешний вид должен быть серьезным и внушающим почтение. Нельзя судачить о соседях или участвовать в пошлых разговорах»[93].
Наряду с должным уважением к родителям и старшим в семье особое внимание уделяется личности учителя – главного источника авторитета в китайском воспитании. Безусловная преданность учителю объявляется непременным условием успеха в обучении и профессиональной деятельности. Со своей стороны, учитель предстает олицетворением всех мыслимых добродетелей и не в последнюю очередь – той самой благородной сдержанности, которая служит лучшей приметой «внутренней почтительности». Учитель имеет право и даже обязан строго наказывать нерадивого ученика, но он не должен давать волю гневу и другим эмоциям. Лучший способ воздействовать на ученика – кроткое увещевание один на один в вечерние часы.
Ценности, проповедуемые авторами нравоучительных альманахов, тоже не слишком отличаются от стандартного набора конфуцианских добродетелей. У Чжунфу просто перечисляет в качестве основных жизненных ценностей торговца пять традиционных «моральных постоянств» конфуцианского учения: человечность, справедливость, ритуал, мудрость и искренность. В других руководствах содержится перечень добродетелей, более приближенных к условиям жизни торговых людей. Так, в «Основах деловой жизни» особо выделяются такие свойства, как послушание, память, целомудрие и радушие: «Если он послушен, он будет исполнять приказы и распоряжения других. Если у него хорошая память, он не забудет того, чему научился. Если он целомудрен, он будет честен и не утратит чувства стыда. Если он радушен, он будет обладать привлекательной внешностью».
В других случаях особо ценными качествами торговца называются бережливость, честность, скромность, усердие, бдительность, уступчивость, умение приспосабливаться к обстановке и терпение. В специальном руководстве для ростовщиков на первом месте стоят усердие, бережливость и осторожность. За ними в порядке уменьшения значимости идут скромность, щедрость, честность, искренность, верность, справедливость, терпение и способность прощать[94]. Одну из немногих заметных лакун в подобных списках составляет чрезвычайно важное в конфуцианстве понятие «сыновней почтительности», что лишний раз напоминает об ориентации их авторов на практические вопросы жизни деловых людей. О том же напоминает и отсутствие в подобных альманахах упоминаний о «Великом Пути» конфуцианских мудрецов. В глазах их авторов образ жизни купцов, очевидно, не соответствовал высокому идеалу нравственного совершенствования, и речь шла именно о том, чтобы применять моральные нормы с наибольшей выгодой для себя. Недаром составители этих руководств нередко отмечают, что написали свои книги для нынешнего «упаднического века», когда в отношениях между людьми требуется хватка, напористость и превыше всего бдительность, умение защитить себя от разного рода плутов и мошенников. Порой в этих книгах прямо говорится о том, что ритуальная учтивость была хороша в благословенные времена высокой древности, но одной ее недостаточно для того, чтобы успешно вести дела в наши дни.
Насколько соблюдение предписанных конфуцианством норм поведения гарантирует успех в жизни и бизнесе? Очень щекотливый вопрос, учитывая заведомо формальный характер нравственных предписаний традиции. Составители коммерческих альманахов тем не менее настаивают на том, что скрупулезное исполнение норм нравственности способно обеспечить, по крайней мере, минимальный успех в профессиональной деятельности торговца. Как сказано в одном из подобных руководств, «благие помыслы способны рождать богатство». Обычно их авторы проводят различие между личным «усилием», приносящим ожидаемый результат, и «судьбой», над которой человек не властен. «Если кто-то стал большим богачом – это его судьба, – утверждает У Чжунфу. – А если кто-то стал маленьким богачом, – это его достижение». В другом месте своей книги У Чжунфу, следуя в общем-то традиционному мотиву, подчеркивает способность целеустремленного и упорного человека добиваться больших достижений – «летать по воздуху и ходить по волнам». Китайцам вообще свойственно на пуританский лад утверждать преемственность человеческого воления и воли высших сил: они с древних времен были склонны верить, что само Небо одарит богатством и славой того, кто достиг высот мастерства в своем деле. Более того, даже если морально совершенный человек не добился видимого успеха, это еще не значит, что он не взрастил в себе «сокровенной добродетели», которая проявится в счастливой судьбе его потомков. И наоборот: кажущееся преуспеяние дурного человека отнюдь не исключает ни его быстрого краха, ни скрытого возмездия, творимого Небом.
В этих рассуждениях о личном успехе и непостижимой воле Неба нетрудно увидеть своеобразный компромисс между нормами культуры и изменчивой действительностью – очередное проявление глубоко рационального, здравомысленного и оптимистического в своей основе склада китайского ума. Ссылки на небесные истоки земных событий вполне убедительно в глазах самих китайцев объясняли очевидные разрывы между желаемым и действительным, в то же время не требуя согласовать свои ценности с конкретными фактами истории. Человеческая деятельность получает здесь своеобразное религиозное обоснование, поскольку при любом раскладе рассматривается в перспективе справедливого воздаяния за поступки.
Сопоставление текстов разных нравоучительных книг позволяет оценить растяжимость традиционных представлений о соотношении индивидуального усилия и судьбы. В одном из ранних альманахов (1635 год) без лишних оговорок утверждается, например: «Небо дарует ранг соответственно таланту. Способные люди могут сделать состояние для своей семьи». В альманахе XIX века мы встречаем сходное, хотя и выраженное в несколько более осторожной форме, суждение: «Когда гордецы совершают ошибку, они склонны винить Небо, а не самих себя. Они не понимают, что Небо жалует богатство и славу тем, кто способен хорошо вести свое дело»[95]. Как видим, в обоих случаях оппозиция «небесной судьбы» и личного успеха снимается в понятии таланта. Таким образом, жизненный успех, по традиционным китайским представлениям, вполне можно рассматривать и как проявление «воли Неба». Более того, усердие в работе способно само по себе быть источником удовлетворения, и в некоторых альманахах для торговых людей акцент ставится именно на благих последствиях всякой «работы над собой»: «Независимо от того, принесет ли торговля доход или нет, ты должен сосредоточиться на совершенствовании своих навыков и усердия. Даже если тебе не будет удачи, ты сможешь выполнить свои обязанности». В то же время «воля Неба» не теряла своего значения неисповедимой судьбы. Ван Бинъюань, составитель руководства «Основы торгового дела» (1854 год) отмечает в одном месте: «Если ты, даже вникнув всем сердцем в торговлю, так и не привлечешь покупателей, то это воля Небес». Одним из важных следствий подобного миропонимания было прочно укоренившееся в китайском обществе представление о том, что богатство является результатом упорного труда и бережливости, тогда как бедность есть следствие нерадивости и лени. Или, как гласила народная поговорка: «Богатство происходит из усердной работы. Бедность происходит из лени». Иными словами, бедняк в своих несчастьях мог винить только себя. Такое мнение, несомненно, внесло свой вклад в поразительную стабильность традиционного китайского общества, почти не знавшего крупных конфликтов на сословной или классовой почве. Авторы альманахов для торговцев рекомендуют быть щедрым, но в разумных пределах, в рамках «срединного пути». Вообще щедрость считалась основной «скрытой добродетели», способной облагодетельствовать потомков.
Результатом конфуцианской выучки торговых слоев китайского города был весьма специфический тип делового человека, во многом копировавшего идеал конфуцианского «благородного мужа». Этот купец ведет строгий, размеренный образ жизни, отлично владеет собой, обладает ясным умом и учтивыми манерами. В руководстве Ван Бинъюаня читаем:
«Торговлю нужно носить в своем сердце и не позволять мыслям блуждать беспорядочно. Даже если тебя преследуют заботы и тревоги, их нужно изгнать из сердца. Правильно говорят: „ум не может заниматься двумя делами сразу“. Если твой ум будет занят другими делами, ты не сможешь успешно трудиться... Обслуживая покупателя, ни на что не отвлекайся. Стой у прилавка лицом к покупателю, и только когда станет ясно, что он не собирается покупать, займись другими делами».
И далее:
«Никогда не раздражайся и не поддавайся волнению, когда дел слишком много. В противном случае ты обязательно наделаешь ошибок».
Хороший хозяин, продолжает Ван Бинъюань, радушно встречает любого клиента, вежливо разговаривает с ним, шутит и сплетничает (непременное условие доверительных отношений в Китае) и делает все, чтобы покупатель чувствовал себя уютно[96].
О наглядных последствиях такой жизненной философии свидетельствуют иностранные наблюдатели, побывавшие в Китае в XIX веке. Англичанин Р. Форчюн писал о китайских торговцах: «Забавно было наблюдать бесстрастие этих людей по сравнению с пестрой толпой, окружавшей их лавки, где продавались шелка». В свою очередь английская писательница И. Бёрд описала лавки в городе Чэнду в следующих словах: «Внутри исполненные достоинства, богато одетые лавочники ожидают покупателей и обслуживают их с должным почтением, но не делают попыток заманить их»[97]. По свидетельству тех же иностранцев, торговцы, как правило, досконально знали положение дел в своей лавке – вплоть до количества продаваемых спичек. Более обдуманную характеристику китайским торговцам дает Г. Кайзерлинг. Вот что он пишет о своем опыте общения с ними в португальской колонии Макао:
«Среди европейцев, которые живут всецело внешне, бытие по необходимости находится под влиянием действия, и соответственно общение, как правило, бывает приятным только с человеком благородной профессии... На Востоке же, вообще говоря, не существует необходимой связи между профессиональной деятельностью и бытием. Я внимательно наблюдал, как торговцы с большим искусством вытягивали деньги из моего кармана: какую бы скидку ни делать на радушие как часть их деловой техники, я убежден в том, что многие из этих торговцев только делали свой бизнес и не отождествляли себя с ним».
И далее Кайзерлинг задумывается над моральной подоплекой такого миропонимания:
«Почему человек должен быть дурным, если он лжет и обманывает? Конечно, нужно принять меры, чтобы защитить себя, нельзя позволять себя обманывать, а если кто-то слишком могуществен, нужно сдержать его посредством закона. Но судить о человеке по его поступкам есть варварство. А там, где бытие и поступки разделены, тот, кто обманывает из-за того, что это разрешено обычаем, совершенно подобен тому, кто ведет себя честно вследствие тех же условностей. И для того, кто знает, что никто не является таким, каким он предстает в своих действиях, нет разницы между “опорой общества” и бесчестным торговцем...»[98].
Суждение Кайзерлинга указывает на характерный для китайской этики «лица» разрыв между публичной ролью индивида и его внутренним состоянием. Наличие такого разрыва – важнейший фактор общения вообще и стратегического действия в частности в Китае: в любом противостоянии побеждает тот, кто сумел лучше скрыть себя и заставил противника поверить в подлинность его видимых действий. Истинной коммуникации это не мешает, ведь коммуникация всегда символична, всегда происходит по поводу чего-то «иного» – неназванного и неизреченного.
Мы открываем здесь еще один аргумент в пользу того, чтобы идеология «конфуцианского торговца», представленная в соответствующих нравоучительных книгах, преследовала цель сделать купечество выразителем традиционных ценностей, а торговлю поставить на службу сложившимся общественным институтам. Эта позиция устраивала всех, поскольку по-своему облегчала коммуникацию. Не приходится удивляться в таком случае общей консервативной установке авторов нравоучительных книг, которые неизменно советуют торговцам не рисковать, ограничиваться минимальной прибылью и блюсти благочестие, чтобы не навлечь на себя недовольство общества. Забота о своей репутации, в их глазах, безусловно важнее любых материальных выгод. Создается впечатление, что торговый класс в Китае почти инстинктивно искал поддержку в нравах и мнениях общества, что не кажется странным, принимая во внимание правовую незащищенность и экономическую неустойчивость его положения. Разумеется, эта апелляция к общественному мнению имела и вполне наглядные формы. К примеру, в старом Китае было принято украшать вход в лавку разного рода морализаторскими надписями вроде: «Веди торговлю посредством истины и верности», «Во всех делах полагайся на человечность и справедливость» и т.п. Опять-таки нельзя видеть в такой позиции торговцев выражение какой-то особенной любви к добродетели. Просто любой обман торговцем покупателя мгновенно становился известным всей округе и грозил обманщику серьезными неприятностями. В условиях жестокой конкуренции и отсутствия защищенности хранить верность, хотя бы показную, правилам «честной торговли» было как раз очень выгодно. Аналогичным образом, нередко было предпочтительнее продать товар постоянному клиенту по самой низкой цене, чтобы сохранить его доверие.
Надо сказать, что и китайские представления о финансах и ценах тоже вписываются в русло консервативной идеи «срединного пути» и постоянного выравнивания богатства в обществе. Так, авторы пособий по торговле руководствуются простой идеей круговорота цен на товары: «Когда товары становятся крайне дороги, – пишет Ван Бинъюань, – они должны снова стать дешевы. А когда они очень дешевы, они должны снова стать дороги». Отсюда совет торговому человеку: внимательно следить за колебаниями цен и скупать товары, как только цены на них начинают подниматься. Когда же товары дороги, покупать их не следует: нужно ожидать падения цен. Подобная методика в особенности годилась для операций с зерном.
Разумеется, акцент на социальном мире и гармонии, характерный для конфуцианской традиции, не исключал и даже предполагал некоторые черты деловых отношений, которые на первый взгляд могут показаться полным отрицанием норм благочестия. Одна из таких черт – необходимость торговаться по поводу цены товара, проистекавшая, собственно, из неизменно личного характера отношений между людьми. Другими словами, цена в известном смысле была показателем статуса покупателя. Торговля в китайской лавке еще и сегодня может принять затяжной и притом удручающе мелочный характер, что объясняется не только решимостью китайского торговца отстоять каждую копейку, но и присущей китайцам щепетильностью в вопросах сохранения «лица». В любом случае, каждая сделка, по китайским понятиям, удостоверяет социальный статус вовлеченных в нее лиц.
Еще одна темная сторона деловой практики в Китае – выбивание долгов. Как ни странно, никто в Китае не предполагал, что долг будет возвращен в установленный срок, так что кредитор всегда был настроен на долгую тяжбу со своим должником. Объяснение этому нужно искать, вероятно, в том, что сам по себе долг находился вне сферы моральных отношений, признаваемых конфуцианской традицией. Ван Бинъюань в своих «Основах торговли» предлагает следующий метод возвращения долга, перерастающий в настоящую стратегию:
«В первый раз просто попроси свои деньги назад. Во второй раз окажи на него давление. В третий раз устрой скандал. В четвертый раз отправляйся к нему домой и преследуй его с требованием отдать деньги. Если должник скажет, что не может отдать деньги сейчас, но сделает это потом, то приди к нему в назначенный день и потребуй свои деньги. Если он по-прежнему не может заплатить и говорит, что сделает это через пять дней, а по прошествии пяти дней все еще не возвращает долг, не расстраивайся. Соглашайся на отсрочку платежа, но требуй установить точный день, когда ты сможешь получить свои деньги назад...
Усиливай давление на должника шаг за шагом. Только так он предпримет усилия для того, чтобы вернуть тебе долг»[99].
Подводя итог сказанному в этом разделе, надо отметить, что принципы нравственного совершенствования, принятые среди торгового сословия старого Китая, играли двоякую общественную роль: они позволяли торговцам осознать себя достойными и полезными членами общества, в немалой степени способствовали их самоорганизации и росту общественного самосознания, но в то же время препятствовали созреванию собственно капиталистического менталитета. В любом случае, для китайского купца отождествление себя с конфуцианским «благородным мужем» было жизненно важным условием его делового успеха и уверенности в себе. Каждый китайский торговец ожидал, что его высокие моральные качества будут конвертированы в звонкую монету, но непознаваемый характер этой метаморфозы питал представления о том, что последнее слово в человеческой судьбе остается за непостижимой «волей Неба». Разумеется, идеал «конфуцианского торговца» был взращен традиционным общественным укладом и, кстати сказать, во многом утратил свое значение, когда этот порядок стал быстро разлагаться в начале ХХ века. Тем не менее запечатленная в этом идеале связка торговли и морали стала одной из отличительных, и притом одной из самых жизнеспособных, черт китайской цивилизации. Поэтому она по-новому и в новых формах заявила о себе на новом витке исторического развития Китая – в современной идее «конфуцианского капитализма».
Мудрость руководства
Мы выяснили, что в китайском представлении секрет подлинного единства корпорации, то есть единства жизненного, динамичного, обеспечивающего единение внешней, формальной коммуникации с авторитетностью «мета-коммуникации», заключается в реализации «одного сердца» человечества – момента чистой сообщительности, присутствующего в каждом сообщении. Мы выяснили также, что эта реализация «одного сердца» носит характер самораскрытия человеческой природы, или, лучше сказать, пред-оставления человеком себе свободы быть тем, чем он может быть и потому – не может не быть. Если природа сердца подобна воде, то все, что можно с ним сделать, – это оставить его в покое, и тогда оно само по себе станет чистым. Или, как гласит китайская поговорка, «когда осуществлен Путь человека, Путь Неба осуществится сам собой». Такова очень скромная, почти неприметная, но великая, в своем роде вселенская миссия человека в китайской традиции.
Работа мудрого правителя, в китайском понимании, совсем не похожа на обычную деятельность; она качественно отличается от того или иного предметного действия. Речь идет об акте «распредмечивания», «развоплощения» действительности, освобождающем «источник жизненной силы» и вводящем в поле чистой сообщительности. В этом смысле работа правителя есть условие всякой деятельности. Она делает возможным всякое свершение, не имея отношения к какому бы то ни было деланию и оставаясь вечно незавершенной. Мудрый правитель, согласно «Дао-Дэ цзину», «все вбирает в себя, как мутный поток» и в этом качестве уподобляется «чистому зеркалу» мира, благодаря которому выявляются и опознаются все вещи. Сам он, разумеется, остается незамеченным. В даосском каноне «Дао-Дэ цзин» с несколько утрированной парадоксальностью о мудром правителе говорится:
- «Добьется успеха, сделает дело,
- А люди говорят: “Вот как хорошо у нас получилось!”»
Правитель в китайской традиции есть просто название того, кто познал и принял в себе чистый аффект «небесного импульса» жизни и потому приобщился к вечнопреемственности «таковости» – самой бытийственности бытия. У мудрецов всех времен – «одно сердце». Только изменчивые исторические обстоятельства (отметим: таинственным образом) по-разному типизируют, стилизуют «правду сердца», предопределяя своеобразие культурных стилей разных эпох. Как сказано в «Дао-Дэ цзине», мудрец, «даже обладая прекрасным дворцом, сидит безмятежно и возносится над всем в таковости».
Получается, что у правителя даже нет индивидуальной идентичности, или, точнее, сквозь его индивидуальность просвечивает «небесная бездна». В «Дао-Дэ цзине» о мудрейших правителях древности сообщается: люди просто знали, что они есть, но не знали, кто они. Правитель в Китае неслучайно носил титул «сын Неба», ведь он был поручителем небесных тайн. Отсюда проистекают сразу три постулата, по виду очень разные, китайской политической традиции:
Во-первых, правитель совершенно необходим обществу, ибо истинный правитель – это просто тот, кто открыл в себе «правду сердца» и так сделал возможным совместную жизнь людей. Упоминавшийся выше Ян Цзянь пишет об этом в следующих словах:
«Добродетель пребывает в человеческом сердце, и она есть у всех людей, а не только у одного правителя. Мудрый государь первым постигает то, что в его сердце подобно всем сердцам, и это как раз и является добродетелью... Импульс мудрого правления – одно сердце подданных и правителя»[100].
Во-вторых, правитель кардинально отличается от простых людей, ибо ориентирован на внутреннюю «правду сердца». Между руководителем и его подчиненными существует невидимая, но неустранимая пропасть. Правитель воплощает собой незыблемый покой, а его подданные потому и подчиняются ему, что уделом их является та или иная предметная деятельность. В 28-й главе «Дао-Дэ цзина» подобное размежевание – совершенно спонтанное, ненарочитое – сравнивается с разделкой цельного ствола дерева. Мудрость управления, утверждается здесь, в том и состоит, чтобы пользоваться предметами под знаком высшей цельности: «великий резчик ничего не разрезает». Наличие мира конечного не отменяет действия Небесного Пути.
В-третьих, личность правителя не имеет большого значения, и власть в Китае четко отделялась от ее физического носителя. Соответственно, допускались частые смены династий: династийный переворот был внешним свидетельством утраты свергнутой династией внутренней добродетели.
Сущность беспредметной, или символической, деятельности китайского идеала правителя хорошо отображена в знаменитом даосском принципе «недеяния» (у вэй). В «Дао-Дэ цзине» оно встречается дважды, и каждый раз, естественно, в парадоксальном контексте: «делай недеяние» и «Путь ничего не делает, но все делается». В китайской традиции «недеяние» имеет, как мы уже знаем, особый смысл, отнюдь не совпадающий с тем, который может приписать ему здравый смысл.
«Недеяние» не есть простое бездействие и тем более праздность.
«Недеяние» не есть какое-либо «естественное» или даже просто спонтанное действие – «естественность» и даже «спонтанность» лишены объективных критериев и являются частью идеологического истолкования мира.
«Недеяние» нельзя понимать и как действие, полностью адекватное обстановке и потому неопознаваемое в ее контексте, хотя подобное значение ему отчасти свойственно.
Строго говоря, «недеяние» есть анафорическое обозначение символической, само-отпускающей себя практики «таковости» бытия, предваряющей сущностное бытие и являющей собой чистую временность. В нем и посредством него осуществляется вечнопреемственность бытийственного самообновления или духовного бодрствования, на языке китайской традиции – сила «проницания перемен» (тун бянь). Оно также соответствует «пользованию без извлечения полезности», способности пред-оставить всему свободу быть, удостоверяющих полноту бытийствования в каждом моменте существования.
Как достигается такая способность? Особым способом развития духовной чувствительности, которая означает, по сути, способность проводить все более тонкие различия между вещами. А это, в свою очередь, предполагает и количественное наращивание знания. Во всяком случае, согласно военному канону «Сунь-цзы», мудрость полководца предполагает прежде всего умение собрать как можно более детальную и всестороннюю информацию о положении дел на театре военных действий. Из знания происходит то, что в «Сунь-цзы» именуется «разумностью» – плод умения сопоставлять и оценивать разрозненные факты. Вершины разумения, согласно Сунь-цзы, достигает тот полководец, который одновременно «знает выгоду и вред», «знает противника и знает себя».
Подобное отношение к знанию, заметим, соответствует символической форме коммуникации, которая дана в ритуале и предполагает обостренное чувствование конкретных свойств пространства и времени. Ритуалы вообще исполняются по-разному в зависимости от наличных обстоятельств, так что нормы нашего общения с другими людьми, подобно стратегическому действию в военном каноне, «не имеют постоянной формы», точнее – всегда выступают как вариация неявленной темы. А церемония, доведенная до ее логического предела и ставшая чистой сообщительностью, устраняет всякое противостояние и предстает именно как церемонность, то есть как умение свести любую тему к нюансам, исключающим столкновение.
Но каким образом сумма фрагментов знания превращается в безукоризненную точность понимания? Здесь действует уже знакомая нам парадоксальная логика «круговорота Пути»: чем больше различий нам доступно, тем отчетливее постигаем мы сокровенное единство бытия. В китайской картине мира каждая вещь имеет свой «внутренний предел», в котором она одновременно находит свое завершение и претерпевает превращение, переходит в «иное». В таком случае все есть только превращение, и единство бытия обеспечивается не субстанцией или сущностью, а чистым различием, различением без различаемого, нескончаемым саморазличением. Познание превращается в знание пределов вещей и, следовательно, знание одновременно присутствия и отсутствия сущего; оно становится, говоря языком китайской традиции, «знанием незнания» или «незнающим знанием». Самые качества вещей здесь, как в монадологии Лейбница, определяются только выбранной перспективой, местонахождением в пространственно-временном поле универсума. В этом видении единство мира столь же реально, как и уникальность каждого момента существования. Поскольку все бесчисленные вещи-события составляют здесь «одну вещь» (именно так, повторим, определялась реальность в китайской философии) или, можно сказать, Вещь-Событийность, мир предстает иерархией общих и частных категорий, что мы и видим на примере классификационных схем, создающих арсенал типовых форм традиции.
Дистанция самопревращения жизни предполагает созерцательную отстраненность, но это созерцание само скрадывается потоком вселенской со-бытийности и потому, как ни странно, неотделимо от помрачения, то есть вездесущей предельности существования. Свет разума здесь растворен во мраке всеобщей предельности и сливается с прахом чистой вещественности. Знание сходится с незнанием и пребывает в собственном пределе – вот почему, согласно китайским учителям, возможна «полнота знания». Ясно, что знание такого рода абсолютного (само)различения не принадлежит субъекту и не имеет своего объекта; его содержание – сама между-бытность или средоточие существования. В этом пункте знание достигает своего момента метанойи, «переворота», «само-превосхождения» ума. От чувственного восприятия и умозаключений оно восходит к самопревосходящей воле бодрствующего духа. Именно воля изначально несет в себе импульс к различению и воплощает в себе предел конкретности: она знает себя непосредственным и спонтанным образом. Знание, ставшее волей, достигает собственного предела, становится «доскональным» и в самом себе обретает собственное основание. Бытие воли всегда предполагает себя само и потому предвосхищает все сущее; оно есть единство предшествующего и последующего моментов существования, каковое и есть событийность. Оно есть своя собственная история и будущее, отпечаток одной и той же индивидуальности в череде явлений жизни.
В конфуцианской традиции, как уже было сказано, принцип мудрой жизни именовался «срединностью в обыденном» (чжун юн). Срединность здесь указывает на внутреннюю «собранность» сознания, его сосредоточенность на «небесном импульсе» жизни. Что же касается понятия «обыденного», то в китайской традиции оно отождествляется с полезностью (эти слова в китайском языке звучат почти одинаково) и, таким образом, обозначает чистую, не поддающуюся объективизации, дорефлективную актуальность практики. Такая актуальность соответствует уже известному нам моменту пред-оставления вещам безусловной «таковости» их существования, их свободе быть.
Каковы следствия рассмотренного здесь подхода к проблеме знания? Во-первых, речь идет о знании со-бытийности и, следовательно, схождении несходного. Это знание всегда оперирует (не)двойственностью внутреннего и внешнего, сущности и декорума, «своего» и «иного». Оно выявляет мир, где одно пребывает в другом, как бывает в китайском саду, где цветы выписываются белой стеной, а декоративный камень получает свое бытие от воды, в которую он смотрится. А в знаменитой даосской притче жизнь мудреца Чжуан-цзы проживается наивной бабочкой, которой Чжуан-цзы видит себя во сне. Воля принадлежит вечноотсутствующему континууму междубытности, виртуальному, или символически прикровенному, пространству тончайшего духовного трепета, который вызывается игрой воздействий и откликов, формируя модус предвосхищения и воспоминания в человеческом опыте и, следовательно, приводя в действие воображение и память.
Во-вторых, как знание беспредметной, но вездесущей предельности существования оно побуждает сознание открываться все новым нюансам опыта и так повышать свою чувствительность, свою степень бодрствования вплоть до обретения того, что в «Сунь-цзы» именуется «упреждающим знанием». Искусный стратег, не раз подчеркивает Сунь-цзы, обладает каким-то «утонченным» и «одухотворенным» (или «божественным»), недоступным «человеческой массе» знанием, которое предваряет всякое предметное знание. Таким же знанием обладает мудрый правитель в «Дао-Дэ цзине», который умеет «развязывать узлы прежде, чем они завяжутся»: совершенно необходимое умение и для современного менеджера, судя по отзывам многих из них. Наконец в трактате «Срединность в обыденном» источником такого предваряющего события знания названа «высшая искренность», то есть опять-таки способность к непосредственной и полновесной сообщительности.
И в «Сунь-цзы», и в «Дао-Дэ цзине», и в ряде других древних канонов предметом такой предвосхищающей предметное знание мудрости именуется нечто «неразличимо-малое» (вэй) — другое название «семян» вещей, к которым относится предбытие Великого Пути. Способность постичь этот сокровенный исток явлений отображается в невозмутимо-покойном виде, который свойствен мудрому (следовательно, правителю, подвижнику, учителю). Тот же покой, кстати сказать, позволяет видеть сокрытое и предвосхищать события. Еще Конфуций сказал, что благородный муж, постоянно пребывающий в покое, «доверяет всем, но первым распознает обман».
Так объясняется главное достоинство мудрого правителя в китайской традиции: умение предвосхищать события и даже скрытно направлять их течение, но внешне лишь как бы сообразовываясь с ходом вещей. Мудрое правление утверждает недвойственность пред-бытия и актуального существования в акте типизации, преображения вещей в надвременные типы. Мудреца отличает способность на-следовать неизбежному. Жизнь мудреца, по китайским представлениям, есть неустанное само-превозмогание и, следовательно, оставление, или, по-китайски, «опустошение» себя. Это путь от субъективного «я» к вечноживой самости существования. Поэтому китайский полководец есть тот же мудрец, который способен без принуждения вести за собой подчиненных. Ему свойственна ясность сознания, неведомая обыкновенным людям, – та ясность, которая позволяет мгновенно преодолевать, устранять все проявления субъективизма в себе. Оттого же бодрствующему сознанию свойственна безусловная открытость миру: оно свободно принимает все впечатления и воздействия и так же свободно дает излиться из себя своему содержимому – всем наполняющим его идеям, образам и страстям. Отсутствие же у мудрого правителя своекорыстного интереса и вообще стремления к выгоде обеспечивает ему безупречное доверие подчиненных.
Жизнь бодрствующего сердца проходит под знаком пустоты. Жить в бодрствовании – значит постоянно «убирать», «вбирать в себя» (шоу) то, что дается в опыте. Это значит: постоянно выявлять предел своего существования, преодолевать себя, «хоронить себя» (еще один образ Чжуан-цзы). Поэтому мудрец, живущий одной жизнью с Великим Путем, пребывает там, где «умолкают звуки и меркнут образы». Мы встречаем плоды такой работы устранения всего преходящего и субъективного в себе, когда читаем древние правила, относящиеся к полководческому искусству в Китае. Поражает простота и строгость этих наставлений, исполненных стальной непреклонности. В них как раз нет никаких хитростей, ничего нарочитого и показного. Главная добродетель полководца – прямодушие и честность, доходящие до полного пренебрежения личной выгодой и личным удобством. Только полное бескорыстие вождя может создать то поле столь же абсолютного доверия к нему, которое позволит ему повелевать без принуждения, вести за собой людей «силою сердца».
Только в поле этого великого бескорыстия способен проявиться и главный талант полководца – способность к предельно спокойной, трезвой и взвешенной оценке ситуации. Ибо мудрость китайского полководца состоит в том, чтобы делать только то, чего нельзя не делать. Истина столь же простая, сколь и трудная для исполнения. Но царственно щедрая: она одна обещает все богатства мира буквально ни за что – за ускользающий миг само-отсутствия. И притом эта великая добродетель китайского стратега лишена пафоса жертвенности, ибо его отсутствие в мире равнозначно его внутренней наполненности и, следовательно, подлинному счастью. В этом смысле «знающий стратег» у Сунь-цзы, подобно даосскому мудрецу, усваивает себе женские качества: покой, уступчивость, видимая скромность, которые скрывают в себе первозданную мощь бытия.
Европейская мысль охотно признает и даже оправдывает неизбежность присутствия зла в человеке – возможно, потому, что христианская традиция не признает за человеком способности самостоятельно одолеть свою греховную природу. Европейская политическая мысль никак не может примирить силу с добродетелью, пусть даже на латыни эти слова пишутся почти одинаково. Напротив, китайское стратегемное мышление всегда отстаивало единение силы и добродетели, даже если это единение относится больше к области идеальных представлений, нежели к реальному положению дел.
Тот, кто поборол свое корыстное «я» и открыл в своем опыте небесную глубину, умиротворен и безмятежен. Еще Конфуций называл непременной чертой высоконравственного мужа его непоколебимое спокойствие, а вечную озабоченность чем-то считал, наоборот, верным признаком душевной низости. Сунь-цзы тоже заявляет, что полководец должен быть «покоен» и «прям». Покой приходит тогда, когда нет беспокойства о своей личной судьбе. Прям тот, кто способен объять собою весь мир. Таков китайский мудрец – тот, кто убирает себя в себя, и так пред-оставляет (фан) всему пространство быть. Убирая себя из мира, он вбирает мир в себя. Мир расцветает в зеркале просветленного сердца. И тот, кто дал ему расцвести, не трогает его цветов. Для мудрого стратега величественное цветение жизни – само по себе высшая награда.
Вот так для китайцев пространство стратегического действия есть духовное поле воли, пространство «опустошенного сердца», высвобожденное, расчищенное от завалов предметности опыта усилием «самоустранения». Это по сути своей виртуальное пространство предвкушаемой жизни – лишенное протяженности, но всеобъятное, опознаваемое внутри себя и потому моральное, хотя и лишенное субъективности.
Подчеркнем, что жизнь в пустоте не подразумевает аскетического умерщвления чувственной природы. Пустотности бодрствующего сознания китайского мудреца-стратега соответствует, как уже говорилось, отнюдь не пустыня абстракций, а, напротив, царственное богатство бытия, «жизнь преизобильная» творческого духа. Не случайно в китайской культуре со временем развился тонкий вкус к эстетизации решительно всех моментов чувственного восприятия, всех проявлений телесной интуиции и всех деталей человеческого быта, к выстраиванию цельного и всеобъемлющего образа «изящной жизни». Достаточно даже краткого знакомства с интерьером китайского дома, с китайским садом или пейзажной живописью, чтобы убедиться: китайцы умели ценить свойства всякого материала и любить жизнь «во всех ее проявлениях». Предметная среда в китайском доме и саде складывается в бесконечно сложную паутину символических «соответствий» (в том числе, конечно, и литературных), и дух вольно скитается в этом пространстве непрерывного «самообновления» бытия, вечной свежести жизни, никогда не достигая пресыщения, постоянно пере-живая самого себя.
Мудрость китайского стратега есть, помимо прочего, необычайно обостренное чувствование эстетических качеств жизни. Но его чувствительность в конечном счете означает внимание к за-предельному в опыте, чувствование сокровенной глубины предсуществования, где река жизни растворяется в бездне вечности. Тот, кто живет «семенами» вещей, живет вечнопреемственностью духа.
Равным образом непрозрачность правителя, стратега, учителя для окружающих не имеет ничего общего с нарочитой скрытностью. Речь идет о строгой размеренности и выверенности поведения, отсутствии в нем каких бы то ни было излишеств и крайностей, уклонений от «срединного пути», которым удостоверяются вечноживые свойства вещей. Это поведение приводит все душевные состояния и наклонности к полному равновесию и поэтому предстает как бы лишенным отличительных качеств. Но оно – психологический прообраз «круговорота Пути» и устремленности к «срединному пределу», составляющих смысл управления в Китае. Оно исполнено огромной аффективной силы.
Правитель-мудрец открывает себя бездне неисчислимых перемен. В этом он утверждает свою свободу и свою мужественность. Как сказал Чжуан-цзы,
- Малый страх делает робким.
- Великий страх делает свободным.
Есть великая загадка в том, что для мудреца, «убравшего мир», поистине умершего для мира, мир открывается всем великолепием своих форм, красок и звуков: «все вещи проходят передо мной в своем пышном разнообразии, и я созерцаю их возврат к истоку», – сказано в «Дао-Дэ цзине». В этом огромном и красочном мире мудрый пестует великую беспристрастность: он идет «срединным путем», в силу своей безупречной со-средоточенности не выказывая никаких качеств, ничем себя не выдавая. У него нет ни воспоминаний, ни надежд – такова его плата за усилие само-превозмогания. Все вещи для него – только отблески вовек сокровенной и неизреченной глубины его просветленного понимания. Он сливается с несотворенным Хаосом. И, усвоив себе ужасающую мощь бытийственного рассеивания, прильнув к первозданной подлинности жизни, он с истинно царской щедростью дарит людям сокровище «единого сердца» – источник доверия и любви между людьми. Отринув в себе все «слишком человеческое», он становится «по-небесному человечным».
В книге Сунь-цзы, как и в других военных канонах Китая, большое внимание уделяется роли полководца на войне и его личным качествам. Иного и трудно ожидать от того, кто полагает, что сущность военной стратегии – непрерывные превращения и, следовательно, «у войска нет неизменной формы». Если истина есть свойство пространственно-временного континуума, ее претворение оказывается делом личного опыта. Истина вечнопреемственности жизни – не отвлеченная формула, а путь сердца. Сердца по определению бодрствующего, постигающего бездну «иного», пронизывающего все планы бытия, все моменты существования.
Сунь-цзы называет искусного полководца «сокровищем государства» и «опорой правителя», человеком, который способен водворить в царстве покой и благоденствие. Он настаивает на праве полководца обладать полной властью над вверенным ему войском и даже, если он сочтет это необходимым, не выполнять распоряжения государя – едва ли не единственный случай ограничения абсолютной власти правителя, допускавшийся китайской традицией. В свойственном ему ключе он педантично перечисляет добродетели, которыми должен обладать военачальник: разумение, доверие, человечность, мужество, строгость. Интересно, что три из этих качеств – человечность, разумение, мужество – признавались (в указанном здесь порядке) главными достоинствами человека в конфуцианстве. Однако Сунь-цзы ставит на первое место разумение – оно, несомненно, кажется ему более важным с практической точки зрения. Мнение патриарха китайской стратегии стало традиционным для военной мысли Китая. И уже знаменитый полководец рубежа II-III веков Цао Цао утверждал, что пять качеств полководца, называемых Сунь-цзы, составляют «полноту добродетели». Обозначим основные обязанности полководца, о которых сообщает Сунь-цзы. Военачальник должен первым делом выполнять правила, касающиеся набора и организации войска, военных учений и воинской дисциплины. Здесь не требуется какого-то особого искусства. «Управлять множеством – все равно что управлять немногими», – говорит Сунь-цзы: нужно только правильно разбить войско на отдельные подразделения и установить правильную субординацию. Но командующий должен добиваться строжайшего соблюдения дисциплины и воинского устава. Воины должны отлично знать правила боевого строя и отдельные маневры, значение разного рода боевых сигналов и приемы владения оружием. Необходимо решительно пресекать слухи и кривотолки в войсках, поощрять отличившихся подчиненных и наказывать нерадивых, при этом китайские знатоки стратегии, как и древние политики из числа поклонников закона, были убеждены в том, что наказания должны быть тяжелы, а награды – невелики. Впрочем, любые, даже самые суровые меры по наведению порядка будут бесполезны, если полководец прежде не завоюет доверие воинов справедливым и своевременным применением наград и наказаний. Полководец также не должен быть ни слишком расточительным, ни тем более скаредным, ибо скупость на войне в конечном счете обходится дороже всего. Его человечность проявляется в том, что он умеет беречь своих воинов и вникает в их нужды. Его мудрость состоит в том, что он умеет правильно оценивать способности людей и ставить каждого на подобающее ему место. А его личная храбрость помогает ему завоевать авторитет и уважение в войсках, без чего не может быть успеха на войне.
Особенное значение китайская военная традиция придает фактору сплоченности войска. Сунь-цзы называет «Путем управления», то есть высшим принципом стратегии, такое положение вещей, когда все войско «едино в храбрости, как если бы то был один человек»; когда полководец и все его люди действуют «как один человек». В другом трактате по военному искусству, «Шести секретах военного искусства», содержится не менее категоричное высказывание: «В Пути войны нет ничего более ценного, чем единство». Сплоченность же войска – это в первую очередь результат личных качеств его командира. Воины доверяют только тому командиру, который сам честен по отношению к ним, и преданы только такому военачальнику, который сам предан своим подчиненным. Хитрость и обман – необходимые принципы любой военной операции – неприменимы в отношениях со своими людьми. Ученый танской эпохи Пэй Синцзянь заметил по этому поводу: «В законах войны ценится обман: смысл его в том, чтобы посредством хитрого плана получить выгоду от неприятеля. Управляя же собственными людьми, нельзя обойтись без искренности и доверия». Сунь-цзы выражается еще решительнее: полководец должен «относиться к воинам как к младенцам, и тогда они пойдут с ним хоть в глубокую пропасть; он должен относиться к ним, как к любимым сыновьям, и тогда они будут готовы умереть вместе с ним».
Разумеется, отношения между командиром и его подчиненными – это не дружба, а война – не пикник. Между стратегом и исполнителями его плана не может быть равенства и полного взаимопонимания, и притом не просто в силу формальностей воинской субординации, а вследствие самого существа стратегического действия. Сунь-цзы не раз подчеркивает, что мудрый стратег обладает знанием, которое недоступно «множеству людей» (то есть не является общепонятным и общедоступным), что рядовые воины «могут одержать победу, но не могут знать причин победы». Не следует ли в таком случае предположить, что Сунь-цзы имел в виду именно то, что говорил, когда утверждал, что полководец – подобно, кстати сказать, добродетельному правителю – должен относиться к своим воинам «как к младенцам» и «любимым сыновьям»? Разве взрослые не любят в детях прежде всего их невинность, которая так часто предстает наивностью, то есть неким внутренним недостатком знания?
Собственно, доверие только и возможно там, где нет полного взаимопонимания. Более того, Сунь-цзы настаивает на том, что полководец просто обязан держать своих воинов в неведении относительно содержания и целей операции: он должен побольше говорить о выгодах, которые она сулит, и умалчивать о возможных опасностях. Если нужно, он может заставить своих людей проявлять чудеса храбрости, намеренно поставив их – в интересах общего дела – в безвыходное положение. Ибо там, где нужно выбирать между личными интересами отдельных воинов и судьбой всего войска, он без колебаний должен жертвовать первым.
Экскурс. Исторические корни японского менеджмента
Чтобы понять особенности японского капитализма и японского стиля менеджмента, нужно уяснить условия исторического развития японской культуры. Древние японцы получили письменность, а с нею свод классических для их культурной традиции сочинений от Китая (главным образом, через посредничество Кореи). На протяжении целого тысячелетия японцы оставались, в сущности, скромными, хотя и на редкость усердными учениками китайских учителей. Свою задачу они видели прежде всего в том, чтобы сделать для себя понятными заветы мудрецов Срединного царства и, следовательно, извлечь из них какие-то практические и осмысленные выводы. Этим объясняется преимущественно умственный, отвлеченно-рассудочный характер японского миросознания, в котором преобладает стремление не столько зафиксировать духовный опыт, сколько разъяснить его и извлечь из него полезный урок. Естественно, духовный опыт, наподобие рассмотренного выше постижения «небесного импульса» жизни в китайской традиции, неизбежно сводился в таком случае к интеллектуальной схеме, подкрепляемой истинами здравого смысла. Примечательно, что само слово «понимать» по-японски означает буквально «разделять» (ва-кару), тогда как в китайском языке «понимание» имело отношение к внутреннему «просветлению» (мин), предполагающему целостное постижение. Современный японский уклад жизни стоит на тщательном разделении иностранных заимствований и собственного культурного наследия, так что поразительная способность японцев перенимать элементы чужих культур, даже их тонкий вкус к иному видению мира не только не подавляет в них чувство собственной исключительности, но в действительности даже укрепляет его.
Множество свидетельств указывает на то, что культура японцев, воспринявших культурное наследие Китая в его зрелой форме буддийско-конфуцианского синтеза, являет собой пример сознательного проецирования понятийного каркаса традиции на общественную практику людей. Так, эстетический идеал японцев отличается последовательным выстраиванием иллюзии природного бытия, иллюстрирующей саму идею недуальности пустоты и формы, искусности и естественности. Достаточно вспомнить примитивистские фантазии «чайной церемонии» или так называемые «сухие сады», где водный поток символизируется «расчерченным» граблями песком. Если в Китае живопись называли «одной чертой кисти», то японские живописцы начали рисовать картины, буквально являвшие собой одну черту кисти, – круг или единицу. Если в Китае символизм пустоты не отлился в тот или иной образ и допускал сосуществование разных художественных стилей, то в Японии та же символика пустотности, или «значимого отсутствия», сама стала предметом означения и тем самым – частью идеологического истолкования мира. Ни один китайский учитель не мог бы сказать, как делает, например, Миямото Мусаси в заключительных строках своей «Книги Пяти кругов», что сознание, применение и действие – это все сущее, но «дух – это пустота». Ведь пустота беспредметна и не имеет имени. Примечательно, что японцы присвоили высокое звание «пути» (до) конкретным видам искусства и даже ремесла. Как следствие, в Китае искусство было продолжением жизни или, точнее, интуитивно постигаемой «подлинности» жизни. В Японии, наоборот, сама жизнь рассматривалась как продолжение искусства: японская жизнь – это, в сущности, мечта об искусно выстроенной жизни.
Соответственно, в Японии культурный стиль сводился к установленному набору аксессуаров, пренебрежение которыми порой каралось как уголовное преступление. Когда, например, мастер чайной церемонии Фурута Орибэ (умер в 1615 году) попытался превратить стиль церемонии из подчеркнуто натуралистического в маньеристски-стилизованный (за счет специальной обработки декоративных камней, высаживания мертвых деревьев и проч.), его новации были запрещены в официальном порядке, ибо они подрывали идеологические основы японского миропонимания. Одним словом, типовая форма так и не стала органической частью японской культуры, а к формам, заимствованным из Китая, в Японии подыскивались общепонятные и, в сущности, чужеродные им – идеологические или прагматические – обоснования.
Не была усвоена японцами и китайская терминология, указывавшая на символическую реальность «единого сердца». Показательный пример – японская традиция каратэ, восходящая к китайским школам кулачного боя. Если в Китае нормативные комплексы движений бойца складывались из целостных «ситуаций» (ши, цзя) и в совокупности представляли собой динамический «путь» (тао лу), то в Японии основным элементом боевых упражнений стали так называемые ката – статичные позы, имевшие чисто прагматическое значение. В результате символическая в своей основе практика «взращивания жизненной энергии» превратилась во вполне предметную и оправдываемую практической пользой практику спортивных единоборств. Поскольку же стилистика упражнений китайских боевых искусств изначально и не предназначалась для собственно физической тренировки, то не приходится удивляться тому, что в среде японских мастеров нормативные позы каратэ порождали немало недоумений[101].
В силу указанных обстоятельств культурная традиция в Японии, с самого начала складывавшаяся как сознательный традиционализм, стала мощным фактором развития национального самосознания и модернизации страны. В Китае в силу необъективируемости исходных посылок традиции переход к современной национальной культуре оказался крайне затрудненным и по сию пору незавершенным. Различие же исторических путей Японии и Китая можно охарактеризовать как различие между региональными, периферийными вариантами развития и «континентальной», «материковой» линией эволюции, в ходе которой культура не теряет внутренней связи с основами духовной традиции.
Проницательный наблюдатель Г. Кайзерлинг еще сто лет тому назад высказал такое суждение о японском пути в современном мире:
«Успех японцев выдает их ущербность. Энтузиасты прогресса стремятся как раз к тому, что лишило японцев их ценности как человеческих существ, ибо они добиваются чисто инструментального существования, каковое и воплощено в озападненном жителе Дальнего Востока. Сегодня он не имеет культурных ограничителей, видит в себе только средство стать могущественным и верит только в успех, чистый и легкий... Благодаря капитуляции перед внешним японцы за 30 лет добились того, к чему Европа со своими идеалами шла столетиями».[102]
Развитие японских взглядов на хозяйственную жизнь вообще и предпринимательство в частности подчиняется отмеченным выше закономерностям японского миросозерцания. Истоки собственно японской концепции капитализма можно проследить с XVII века, когда в Японии зародился местный вариант «науки сердца» (яп. сингаку). Это учение отобразило специфический японский синтез буддизма и конфуцианства, тогда как даосский компонент китайской традиции, в которой идея символической реальности выражена наиболее явственно, японцами как раз не был усвоен.
Идеология сингаку была плодом, с одной стороны, обмирщения буддийской религии, а с другой – приспособления конфуцианских ценностей к условиям и потребностям повседневной жизни – явление уже известное нам на примере идейных движений в Китае с XVI века. Сами создатели новой доктрины принадлежали к торговым слоям городского общества или вращались среди них. Характерным образчиком раннего «учения о сердце» стало мировоззрение монаха школы Дзэн (кит. Чань), носившего в миру имя Судзуки Сёсана. Основываясь на дзэнских постулатах, Сёсан проповедовал совпадение человеческой природы и природы Будды, доведя этот тезис до логического конца: человек не только может, но и должен достичь освобождения и вечного блаженства через свои повседневные занятия. Тяготы крестьянского труда, заявлял Сёсан, совершенно подобны монашеской аскезе, а снабжение общества продовольствием ничем не уступает сострадательным деяниям бодхисаттв. Сёсану принадлежит и прочувственная апология занятия торговлей. «Предайте себя мирским делам, – писал Сёсан, обращаясь к купеческому сословию. – Ради блага государства и народа отправляйте товары во все города и веси. Ваш труд – это святая аскеза, которая очистит вас от всякого зла... Если вы поймете, что эта жизнь есть лишь мимолетное странствие, и вы, отбросив страсти и корысть, будете усердно трудиться, вас будет беречь само Небо, и боги явят вам свою милость».
Само по себе отождествление трудовой деятельности и духовного совершенствования, как уже говорилось, не было новостью на Дальнем Востоке. За несколько веков до Сёсана китайские наставники Чань сочинили дидактическую поговорку: «Чудесное дело, утонченная полезность: носим воду и собираем хворост!» В монастырях того же чань-буддизма физический труд всегда был составной частью монашеской жизни. Да и собственно китайская мысль с древности держалась тезиса о «единстве небесного и человеческого» и о том, что, «когда осуществится Путь человека, Путь Неба свершится сам собой». Но Сёсан в чисто японском ключе смещает акценты: он делает предметную, даже профессиональную деятельность условием достижения религиозного идеала. Для него не действенность Пути оправдывает действие, но само действие делает возможным действенность. Вполне естественно, что Сёсан психологизирует духовную практику, настаивая, совсем как протестантский секуляризм в Европе, на абсолютной ценности субъективной веры, и притом веры в самого себя:
«Превыше всего вы должны верить в себя. Если вы действительно хотите стать Буддой, просто верьте в себя. Верить в себя – значит верить в Будду, ибо Будда внутри вас...» и т.д.
Другим влиятельным проповедником «науки сердца» был Исида Байган, всю жизнь прослуживший в торговой лавке. Байган вовсе отбросил религиозные предпосылки этого учения, заявив, что жить в этом мире по закону Будды – все равно что пытаться «пересечь океан верхом на лошади». Человек, учил Байган, сам должен приготовить лекарство, врачующее его душевные раны. Такое лекарство он видел в уже знакомом нам понятии «изначальное сердце» (яп. хонсин), которое теперь трактовалось в чисто предметном и психологическом ключе – как естественный инстинкт жизни. Детская непосредственность и естественные потребности телесной жизни были в глазах Байгана лучшим проявлением святости. Получение выгоды не нарушает естества человека, если оно является результатом честного труда. Более того, честность есть лучшая гарантия процветания, поскольку она обеспечивает добрую репутацию. Человека украшает скромность и бережливость, чему живым примером был сам Байган, ведший жизнь нестяжателя и умерший в суровой бедности.
Взгляды Байгана полны кричащих противоречий. Не так-то просто совместить детскую непосредственность с прилежанием в работе и к тому же способностью сочувствовать другим. Но сама их противоречивость отображала основные мотивы духовной традиции Дальнего Востока, а их успех был предопределен состоянием японского общества того времени. Главный тезис «науки сердца» – абсолютная, в равной мере религиозная и общественная, ценность добросовестного и самоотверженного труда – оказал, быть может, решающее влияние на национальный характер японцев. Труд, по японским представлениям, сам по себе служит источником морального удовлетворения, а заслужить за свою работу похвалу от старшего – приятно вдвойне. Правда, эти положения касаются только японского общества – круга тех, кто посвящен в неизъяснимую (во многом вследствие врожденной противоречивости) истину «изначального сердца». Подобно тому, как «внезапное прозрение» дзэн-буддизма, обнажая пустотность всех понятий, высвечивает только материальные (точнее, квазиматериальные) обстоятельства духовного бытия, японская традиция, по сути, выставляет в качестве неустранимой иллюзии и в этом смысле абсолютизирует японский быт как таковой и в конечном счете – физическую Японию. Можно сказать, что нет более точного и полного выражения японского духа, чем сами Японские острова со всеми их природными особенностями и культурным своеобразием. Не здесь ли нужно искать глубинные причины неудач японцев колонизовать сопредельные страны, а также нежелание и неумение японцев сотрудничать с другими странами, их равнодушие к деятельности международных организаций, что, конечно, не мешает их ревнивому вниманию к иностранцам, в котором угадывается страх перед нежеланием или неспособностью иностранцев принять правила игры, которые предлагает им японское миропонимание. Ведь эти правила не подлежат разъяснению и держатся безмолвным пониманием «изначального сердца»...
Занятно наблюдать, как скрытые посылки японского миросозерцания вновь заявляют о себе в формах организации и деятельности современных японских корпораций и в самом стиле японского менеджмента. Следует учитывать, конечно, тот хорошо известный факт, что современный японский менеджмент многим обязан западным влияниям, и это обстоятельство отлично согласуется с исконно рефлексивным складом японского мышления: японцам присуще стремление зафиксировать и даже абсолютизировать их отношение к миру, сведя жизненный опыт к набору нормативных ситуаций. Отсюда свойственная японцам четкость в исполнении при отсутствии вкуса и навыка к творческому решению проблем.
Важнейшая, почти инстинктивная потребность японцев в сфере общественной деятельности заключается в выявлении наличествующего типа ситуации, в рамках которого становится возможным интеграция, согласование, взаимодействие, одним словом – консенсус индивидуальных мнений и воль. Такой консенсус сам по себе предстает как неопределенность и двусмысленность в человеческих отношениях, недоговоренность в высказывании, безмолвный фон всякого сообщения. Правила японской беседы позволяют с необыкновенной утонченностью выражать эту атмосферу неопределенности и недосказанности, которая в действительности не разобщает, а именно объединяет. Главной ценностью здесь выступает непосредственное переживание реальности как «текущего момента», длящегося события, которое по определению невозможно помыслить, формализовать, описать как предмет. Событие не может быть предметом познания или решения. Как отмечается в одном западном исследовании, «традиция восточного менеджмента воспитывает в менеджерах скептическое отношение к иллюзиям господства и к представлению о том, что нечто действительно „решается“ в тот или иной момент времени»[103].
В качестве примера обратимся к стилю менеджмента, принятому в наиболее, по общему мнению, показательной японской корпорации, основанной едва ли не самым примечательным японским предпринимателем ХХ века К. Мацуситой. Свою компанию (электротехническую) Мацусита основал в 1918 году, но его кредо как предпринимателя сформировалось лишь спустя 14 лет под впечатлением от посещения храма одной религиозной секты, которая располагала и собственными мастерскими. Мацусита вдруг осознал – как мы уже знаем, в чисто японском ключе, – что предпринимательство есть воистину священное занятие, поскольку оно, подобно религии, имеет целью благоденствие людей, ибо люди нуждаются в материальном благополучии не меньше, чем в духовном умиротворении.
В организационном отношении корпорация Мацуситы предстает в значительной мере как воплощение личности ее создателя и в этом смысле несет на себе явный отпечаток его индивидуального стиля. Начать с того, что детище флагмана японского бизнеса отличается высокой, неизвестной ни на Западе, ни в Китае степенью централизации: субсидирование проектов ее отдельных подразделений осуществляется через общий банк, все кадровые назначения и прием новых служащих также проходят утверждение в центральных органах управления компании. Подобная постановка дела не снижает энтузиазма работников, ибо детальный учет заслуг только подогревает их усердие. Кстати сказать, в японских компаниях принято поощрять служащих к подаче разного рода рационализаторских предложений и проектов, что не влечет за собой автоматического повышения по службе, но, как считается, создает «хороший климат» в коллективе. Сам Мацусита был известен своей способностью создавать доверительные отношения со всеми людьми независимо от их положения. Его авторитет, говорят, во многом держался на безукоризненно исполняемом перед каждым, даже простой уборщицей, приветственном поклоне, а во время посещения цехов он нередко восклицал, показывая пальцем на первого попавшегося рабочего: «Вот мой лучший управляющий». Впрочем, при случае он и в самом деле мог обеспечить стремительный карьерный рост способного служащего.
В производстве корпорация Мацусита ориентируется на совершенствование уже имеющихся видов продукции, приобретая с этой целью лицензии у иностранных фирм. Такая направленность компании в известном смысле составляет параллель процессу личного совершенствования, который тоже имеет дело с «готовым материалом» – физическими и духовными особенностями личности. В области маркетинга и продаж Мацусита выделяется своей агрессивной политикой, направленной на завоевание как можно более широкого сегмента рынка за счет демпинга и сокращения транзакционных издержек. Кстати сказать, Мацусита известен созданием собственной сети розничной продажи своих товаров – существенный шаг к оптимизации системы сбыта продукции.
Сам К. Мацусита, имея перед глазами пример новых религиозных сект, всегда проявлял большую заботу о важности духовного сплочения и всеобщего энтузиазма в коллективе. С этой целью он со временем выработал свою собственную жизненную философию, так называемый «путь Мацусита», осуществление которого рассчитано на 250 лет. Жизненные принципы главы корпорации организованно внедряются в сознание ее работников на разного рода семинарах и курсах повышения квалификации. Постоянное обучение и обмен мнениями – одна из обязанностей всех членов «семьи Мацусита». Многочисленные церемонии и пение гимна корпорации перед началом каждого рабочего дня призваны укрепить чувство корпоративной солидарности у персонала.
В качестве основных принципов управления своей корпорацией Мацусита выделяет следующие:
1. Люди по своей природе в основном добры и наделены чувством ответственности. Следовательно, людям можно и нужно доверять.
2. Человеческий род обладает способностью как к духовному, так и к материальному развитию.
3. Люди имеют право и возможность выбирать, поэтому они могут и должны быть хозяевами своей судьбы.
4. Люди могут направить все умственные и материальные ресурсы на улучшение жизни.
5. Люди могут решить все свои жизненные проблемы, если обладают открытым миру, по-детски непосредственным сознанием.
Кодекс корпорации, составленный ее основателем, выглядит следующим образом:
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БИЗНЕСА:
Сознавать свою ответственность как производителя, способствовать прогрессу, повышать благосостояние общества и посвящать себя развитию мировой культуры.
КРЕДО РАБОТНИКОВ:
Развитие возможно только благодаря совместным усилиям каждого члена нашей Компании. Каждый из нас должен постоянно помнить об этом, заботясь о совершенствовании работы Компании.
СЕМЬ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:
Служение государству посредством производства.
Честность.
Согласие и сотрудничество.
Вежливость и смирение.
Приспособление и усвоение.
Благодарность.
Западные авторы обычно скептически относятся к подобным формам корпоративной индоктринации, усматривая в них инструмент манипуляции сознанием или, в лучшем случае, пустые и бесполезные лозунги. Но в японском обществе такого рода кодексы воспринимаются с полной серьезностью и служат могучим средством корпоративного и, шире, общественного сплочения. Их банальность обладает особой притягательностью для японского ума, вдохновляющегося нерукотворным и неуничтожимым, но неизъяснимым Присутствием реальности.
Как раз эта ориентированность японцев на непосредственное, младенчески-целомудренное восприятие действительности, что в японской традиции соответствует, как нам уже известно, раскрытию «изначального сердца», и составляет незримый стержень корпоративного этоса, культивируемого в компании Мацусита. Глава компании поставил во главу своей жизненной философии принцип сунао, что означает открытое, не замутненное субъективными идеями и представлениями, абсолютно искреннее отношение к миру. Смысл этого отношения выражен в непритязательном афоризме Мацуситы, одном из самых его любимых: «Если пошел дождь, раскройте зонтик». Истинно эффективное действие остается совершенно естественным и даже неприметным, потому что оно полностью соответствует обстановке. Именно таков смысл знаменитого принципа «недеяния», проповедовавшегося родоначальником даосизма Лао-цзы. Но секрет действенности подобных трюизмов остается неуловимым для постороннего: он заключен все в том же «безмолвном понимании», которым держится всякий культурный стиль и, как следствие, всякая корпорация, наследующая этому стилю.
Не следует забывать, впрочем, о принципиальных различиях между японским и китайским миросозерцанием. Японцы стремятся определить, дать предметное выражение той миро-человеческой цельности, которая называется на Востоке «пустотой», а равно сопутствующим ей формам духовной практики. Китайская же традиция допускает и даже исповедует ускользание от всяких культурных кодов и приятие чистого события в его вечнопреемственности. Об особенностях организации и стиля менеджмента в Японии и Китае, вызванных в конечном счете различием этих двух подходов, Чэн Чжунъин пишет в следующих словах:
«Хотя в Японии подчеркивают важность духовных целей, это часто остается лозунгом. Японцы относятся к культуре как к инструменту и не обладают истинным проникновением в духовную сущность культуры... Хотя японские менеджеры много говорят о „предпринимательской культуре“, они не в состоянии предложить японскому обществу путь творческого развития и способствовать общему совершенствованию человечества. Япония может быть экономической державой, но не может быть державой культурной»[104].
Глава третья
«Пространство сердца»: стратегия
Об удовольствии мясника и смысле стратегии
В 3-ей главе даосского канона «Чжуан-цзы» есть удивительный рассказ про царского мясника, который с необыкновенным искусством разделывал бычьи туши. В этом сюжете – в своем роде классическом и хорошо известном каждому образованному китайцу – с редкостной выразительностью запечатлелись важнейшие посылки того мудрого действия, или «действия, претворяющего Великий Путь», которое лежало в основе китайской концепции стратегии во всех ее преломлениях – военном, политическом, коммуникационном и проч. Приводим этот рассказ целиком.
Повар на кухне разделывал бычьи туши для царя Вэнь-хоя. Взмахнет рукой, навалится плечом, подопрет коленом, притопнет ногой, и вот: вжик! бах! Блестящий нож словно пляшет в воздухе – то в такт мелодии «Тутовая роща», то в ритме песнопений Цзиншоу.
– Прекрасно! – воскликнул царь Вэнь-хой. – Сколь высоко твое искусство, повар!
Отложив нож, повар сказал в ответ:
«Ваш слуга любит Путь, а он выше обыкновенного мастерства. Поначалу, когда я занялся разделкой туш, я видел перед собой только туши быков, но минуло три года – и я уже не видел их перед собою! Теперь я не смотрю глазами, а полагаюсь на осязание духа, я перестал воспринимать органами чувств и даю претвориться во мне духовному желанию. Вверяясь порядку, устроенному Небом, я веду нож через главные сочленения, непроизвольно проникаю во внутренние пустоты, следуя лишь непреложному, и потому никогда не наталкиваюсь на мышцы или сухожилия, не говоря уже о костях. Хороший повар меняет свой нож каждый год – потому что он режет. Обыкновенный повар меняет свой нож каждый месяц – потому что он рубит. А я пользуюсь своим ножом уже девятнадцать лет, разделал им несколько тысяч туш, а нож все еще выглядит таким, словно только что сошел с точильного камня. Ведь в сочленениях туши всегда есть зазор, а лезвие моего ножа не имеет толщины. Когда же то, что не имеет толщины, вводишь в такое вот полое место, ножу всегда найдется предостаточно места, где погулять. Вот почему даже спустя девятнадцать лет мой нож выглядит так, словно только что сошел с точильного камня. Однако же всякий раз, когда я подхожу к трудному месту, я вижу, где мне придется нелегко, и собираю воедино мое внимание. Пристально вглядываясь в это место, я не делаю быстрых и резких движений, веду нож старательно, и вдруг туша распадается, словно ком земли рушится на землю. Тогда я поднимаю вверх руку, с довольным видом оглядываюсь по сторонам, а потом вытираю нож и кладу его на место».
– Превосходно! – воскликнул царь Вэнь-хой. – Послушав своего повара, я понял, как нужно вскармливать жизнь!»
Немного отыщется в древней литературе примеров столь вдумчивого и углубленного наблюдения над работой необразованного простолюдина, человека физического труда, да еще такой «низкой» и «грязной» профессии, как мясник. И уж полным скандалом кажется сделанный царем вывод о том, что презренный работник кухни научил его искусству «вскармливания жизни» (хотя между кухней и питанием существует прямая связь). Автор этого рассказа, впрочем, и не претендует на какие-либо метафизические или нравоучительные обобщения. Он говорит только о результатах долгого – девятнадцатилетнего – опыта работы мясника и этими чисто практическими рамками ограничивается. Его интересует только природа мастерства. Успех, как будто хочет он сказать читателю, является плодом не абстрактных размышлений и вычислений, а усердия, терпения, кропотливого совершенствования своих технических навыков; он не познается одномоментным усилием «чистой мысли», а, подобно живому плоду, долго вызревает во времени. Он есть именно плод труда, но такого, в котором предметная, материальная сторона постепенно утончается, сходит на нет, уступая место безошибочной, уверенной в себе интуиции. Недаром говорят: «Дело мастера боится».
Не так ли должна постепенно проявляться, выстраиваться стратегия, которая по необходимости определяется всей совокупностью относящихся к делу обстоятельств и тем не менее не сводится к ним, но имеет свой особенный смысл и требует как бы особенного знания?
Но каким образом великое множество предметных единиц мира – вещей, идей, образов, понятий и проч. – смогут превратиться в единое беспредметное поле стратегического действия? Только благодаря преодолению формальной логики умозрения, логики тождества и различия и вхождению в интерактивный модус существования. Между тем дело менеджера как раз и состоит не в «планировании, контроле, организации» и проч., а именно в общении, ибо менеджер, достойный своего имени, есть душа корпорации. Общение само создает взаимодействующие стороны, определяет их поведение. Оно по своей сути есть самотрансформация, которая вводит вещи в безначальный и бесконечный континуум операциональной, сугубо действенной по своей природе реальности. В рамках самопревращения любое, даже малейшее, изменение охватывает весь мир, в нем сущность становится качеством, и во всем сущем выявляется нечто вечносущее.
Как явствует из рассказа мясника, акт самотрансформации есть нечто в высшей степени естественное, непроизвольное, имманентное существованию; он есть сама природа и естество жизни. По словам этого маэстро кухни, он просто отрешается от чувственного восприятия, то есть не ищет реальность вовне себя и «дает претвориться одухотворенному желанию» в себе. Он отпускает хватку сознания, освобождает сознание от диктата интеллекта, или, как сказал бы Розанов, «распускает себя». Даже на уровне здравого смысла понятно, что, обретя виртуозное мастерство, «вжившись» в свой материал или «сжившись» со своими орудиями, мы перестаем быть отдельным «лицом» и «субъектом», или, как говорили древние даосы, «забываем себя и мир». Что, конечно, не означает того, что мы перестаем быть или теряем сознание. Напротив, «распуская себя», мы удостоверяем вечноживые качества нашего существования и обретаем необыкновенную ясность самосознающего сознания. Кто здесь сознает и что сознается? Это не так уж и важно. Важнее, что нечто воистину есть или, точнее, происходит, свершается.
Мясник говорит, что «полагается на небесную истину» или «небесный принцип», присутствующий в туше. О чем идет речь? Комментаторы единодушно утверждают, что здесь имеется в виду «таковость» существования. Мнение, скорее всего, верное, но все еще слишком отвлеченное. Учитывая, что мясник уже не полагается ни на чувственное восприятие, ни на умозрение, остается предположить, что он просто возвращается к истоку восприятия, к некоей изначальной данности и даже, скорее, за-данности всякого существования – к тому, что по-китайски называлось «семенами», «завязью» вещей, к внутреннему «импульсу» жизни. В европейской мысли аналогом этой реальности можно считать, вероятно, предельно тонкие восприятия, petits perceptions, из которых, согласно Лейбницу, непостижимой алхимией сознания составляются видимые образы мира. Заслуживает внимания и то, что говорит по поводу истоков символизма Г. Башляр, указывающий, что в состоянии необычайно обостренной духовной чувствительности мы возвращаемся в мир «сигналов», которые ничего не представляют и не обозначают, но воплощают среду некоего чистого взаимопроникновения, вездесущей Метаморфозы бытия, какой-то всеобщей «алхимии вещей»[105]. Наконец уместно вспомнить – тем более в связи разговором о ремесле мясника – и о том, что М. Мерло-Понти говорит о «плоти мира» как первичной реальности восприятия. И Башляр и Мерло-Понти подчеркивали, что мы упираемся здесь в некое «твердое дно» опыта, безусловную опору, порождающую ощущение прочности и безопасности. Мясник Чжуан-цзы тоже «следует неизбежному» и исполнен безмятежного покоя.
Нет оснований видеть в понятии «небесной истины» некий метафизический принцип – поиски такового чужды мировоззрению даосов, которые не доверяют чистому умозрению, но позволяют сознанию погрузиться в темные глубины жизненного опыта, постигают «сокровенный импульс жизни». Отрешаясь от субъективного умозрения и столь же субъективного восприятия, премудрый мясник возвращается к чистой актуальности переживания, которая есть абсолютное событие как всеобщая со-бытийность. Разделка туши выступает здесь прообразом акта рассеивания бытия, обретения все большей дифференцированности, конкретности опыта. Пределом мастерства и одновременно духовного совершенства, то есть духовным действием в его чистом виде, предстает здесь «осязание духа», или «духовное соприкосновение» (шэнь хой) — состояние духовного трепета в пространстве вселенской сообщительности, вершина духовного бдения. Это событие можно описать как встречу открытого с открытым в зиянии полной открытости бытия. Здесь сознание и объект, нож и рассекаемая им туша взаимно исчезают друг для друга в беспредельном континууме ритмизированной пустоты. «Не имеющий толщины» нож повара – символ этой вечно-отсутствующей реальности как бесконечно малого расстояния. И прообразом той же пустоты, но на сей раз как бы бесконечно большого расстояния, выступает разделываемая поваром туша, сведенная к сплошному «промежутку» (цзянь), к всеобъемлющей полости. Нож и туша являют образ пустоты в пустоте, ибо пустота, чтобы быть собой, должна опустошаться. При этом они вовлечены в отношения взаимопроникновения, высветляют друг в друге вечноотсутствующую «подлинность» бытия, позволяют опознать землю как Землю, то есть предельную цельность всего сущего. Примечательно, что разделываемая туша от одного неуловимого движения вдруг распадается, «как ком земли рушится на землю». Этот образ напоминает о том, что событийность есть не что иное, как всеединство рассеивания, ограничение ограниченного. Он указывает на присутствие символической глубины опыта: сокрытия в сокрытии, пустоты в пустоте, еще большего покоя в покое. Таков акт самовосполнения в саморассеивании, который соответствует постижению предельности во всяком пределе, бесконечной действенности в каждом конечном действии. Один из китайских комментаторов написал, что бык даже «радуется» такой разделке. Еще бы! Нож чудесного мясника возвращает его к «подлинности» его существования – к пустотной «единотелесности» всякого существования, каковая в китайской традиции и соответствует Великому Пути. Но мы можем сказать по этому поводу лишь то, что мясник и бык, перестав быть объектами, взаимно растворяются в событии «самопревращения» как сокрытия зримых фигур, в чистом различии как различении тождественного, чистой трате как потере отсутствующего. Сокрытие образов – признак аскетического самоконтроля духа – неожиданно высвобождает силу воображения. Нет ничего более фантастичного, чем первичная правда жизни. И фантастический колорит рассказов об учителе Ху-цзы или чудесном мяснике тоже по-своему напоминает об этом.
В любом случае мастер разделки вещей (и, как мы догадываемся, понятий) как будто не воздействует на тушу, а лишь внимает неразличимо-тонкой музыке творческих метаморфоз жизни. Его чуткое вслушивание в музыку жизни и предельная сосредоточенность духа открывают ему таинства «небесного устроения» (тянь ли) тел. Его нож повинуется не расчету, не правилу, а неформализуемой, подлинной музыкальной логике ритмической паузы, формирующей преемственность вообще. Устраняя тело как образ и идею, этот (не)нож действует внутри теневого космического тела, не имеющего анатомии, вполне пустотного.
Абсолютная открытость просветленного духа как раз и делает возможным предельную концентрацию воли в решающем, недоступном постороннему взору движении ножа. Что означает эта «особенная тщательность», которой добивается мясник перед решающим ударом? Дело в том, что духовная просветленность имеет, конечно, разные степени интенсивности. Как и в известном нам рассказе об учителе Ху-цзы, Чжуан-цзы дает понять, что бесконечно разнообразная музыка «духовных соответствий» хранит в себе «тайну тайн», некую паузу всеединства – вечно отсутствующую, но бесконечно эффективную, держащую всякий ритм, дающую всякую силу. Речь идет, надо полагать, о достижении абсолютного покоя, соответствующего отрешенности от самой оппозиции покоя и движения и самой идеи взаимодействия. Такова высшая стадия духовного постижения – «потеря потери», «опустошение пустоты», «отказ от отказа» – известная во всех мистических традициях.
Ключ к пониманию природы такого высшего (не)действия содержится во фразе, непосредственно предшествующей рассказу чудесного повара. Она гласит: «Если твердо следовать срединному пути, то можно уберечь себя». Подлинное действие всегда устремлено к внутреннему пределу существования, приобщает к «срединности» и потому всегда свершается внутри существующего.
Магическая сила вещей проистекает из их причастности к силе срединности-событийности – этому темному, вечно отсутствующему, но всеобъятному и всепроницающему двойнику физических тел. Вот почему в работе мясника по претворению «срединности» видимые знаки разрешаются как бы в орфическом рассеивании тела. Отдельный субъект уступает здесь место несотворенному «подлинному человеку Пути», Адаму в раю – настолько чистому и открытому миру, что он как бы лишен кожи и, по словам Чжуан-цзы, «дышит из пяток» или, можно сказать, «всем существом». Таков смысл даосского понятия «превращения тела» (хуа шэнь), иными словами, превращения физического тела в вечноотсутствующее и всеобъемлющее «тело Пути». Но пробудившееся сердце хранит в себе нечто другое. Каждый из нас одновременно вмещает в себя мир и сам охвачен миром. Диалог «я хоронящего» и «я схороненного» знаменует в даосской литературе собирание небесного и человеческого, божественного и земного, познания и рождения в целостности Великой Пустоты. Он сообщает о рождении нового человека и о рождении слова в человеке: он требует говорить, по выражению Чжуан-цзы, словами «новыми, как брезжущий рассвет».
Китайская традиция утверждает, что человек – не сущность, а Встреча и что он может быть действительно разным человеком, что в потоке сознания нет ни субъективного, ни объективного порядка и цена любого мгновенного впечатления – вечность. И, открывая себя себе, просветленное сознание само себя охватывает и оберегает свою целостность. Искусный мясник достигает истинного свершения, ибо он опознает подлинность своего существования. Вот почему, разделав тушу, он чувствует подлинное удовлетворение.
Итак, речь мясника-виртуоза указывает не на объекты, даже не на состояние, а на отношение: некую символическую глубину опыта, родовой момент бытия, в конечном счете – саму жизнь духа, или чистое дыхание жизни, в «едином теле» Пути. Мы встречаем в рассказе повара основные приметы этого духовного преображения: отрешенность от чувственного восприятия, а если говорить точнее, освобождение жизни чувств от диктата интеллекта, очищение желания от всех субъективных примесей и восстановление его изначальной миссии – быть вестником бесконечного в человеке. Согласно классической формуле Чжуан-цзы, у мудрого «тело подобно высохшему дереву, а сердце – остывшему пеплу». Но такой человек – как раз живее всех живых. Тому же Чжуан-цзы принадлежит поразительная характеристика мудреца, со всей очевидностью вводящая тему сокровенно-виртуального преображения:
«Сидя недвижно, как мертвец, он являет драконий облик.
Храня глубокое безмолвие, он издает громоподобный глас...»
Для даосских мудрецов высшей ценностью является сама жизнь, вернее, символическая (не)жизнь, некая сверх-жизнь, которую обретают через потерю жизни конечной. Таков смысл таинственных слов Лао-цзы: «мудрый, умирая, живет вечно». Не кто иной, как разделыватель туш, несущий смерть, способен преподать урок «взращивания жизни». Жизнь вечная не отличается от жизни физической, и духовное деяние мудрого не отличается от виртуозной работы мясника, как невозможно отделить друг от друга внутреннее до-понимание абсолютного события и знание внешних предметов, индивидуальное сознание и его «небесную» матрицу – то, что в Китае называли «изначальным сердцем».
Рассказ о премудром поваре царя Вэнь-хоя, как бы ни был он темен и загадочен для нас, хорошо показывает подход к проблеме стратегии, принятый в китайской традиции. Каким образом этот подход соотносится с пониманием стратегии в современной теории менеджмента? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется для начала заново оценить и отчасти переосмыслить основные положения западной теории стратегии.
Вообще говоря, с тех самых пор, как термин «стратегия» впервые вошел в употребление в Древней Греции на рубеже классической эпохи, он всегда нес на себе груз трудноразрешимых противоречий. Как иначе мыслить знание, которое стремится связать воедино четко сформулированную, неизменную цель с изменчивыми обстоятельствами жизни? Достаточно вспомнить классическое описание стратега у Ксенофона. Стратег, утверждал Ксенофон, «должен быть сообразительным, энергичным, осмотрительным и обладающим ясным умом, любящим и строгим, прямодушным и сообразительным, бдительным и хитрым, готовым рискнуть всем и получить все, щедрым и скупым, умеющим доверять и подозрительным». Не слишком ли много взаимоисключающих качеств на одного человека? Правда, Фемистокла современники считали отличным стратегом только за одно качество: умение «делать то, что нужно, в нужное время». Но такое качество и есть не что иное, как высшая мудрость – дар вообще крайне редкий среди людей. По той же причине стратегическая мудрость в разных культурных традициях оставалась, как правило, накрепко привязанной к той или иной конкретной личности, в действиях которой она внезапно и непредсказуемо проявлялась. Но единичные примеры успешной стратегии еще не составляют материала для установления каких-либо общих закономерностей стратегического действия. Древние греки и римляне довольствовались составлением жизнеописаний великих стратегов, то есть сборников отдельных, часто откровенно анекдотических «случаев» проявления стратегического гения. Точно так же, только с присущим им большим усердием, поступали китайцы, создавшие грандиозные компендиумы исторических примеров, иллюстрирующих эту непостижимую загадку – стратегическую мудрость.
Конечно, в литературе можно найти остроумные общие определения стратегии, которые трудно оспорить. Вспомним знаменитое суждение К. фон Клаузевица: «Стратегия – это использование действия в целях войны». Еще более емкое и точное определение стратегии высказал Наполеон: «Стратегия – это способ использования пространства и времени». К сожалению, подобные абстрактные дефиниции ничего не говорят о том, как выстраивать стратегию в конкретных обстоятельствах «пространства и времени». Более того, углубленное знакомство с понятиями стратегии, бытовавшими в разные времена и в разных обществах, убеждает, скорее, в невозможности отыскать какую-то общую для всех эпох и народов идею этого предмета.
В теории и практике бизнеса понятия «стратегия управления» и «корпоративная стратегия» приобрели широкую популярность с конца 1950-х годов. Событие в своем роде примечательное, ибо хронологически оно совпало с возвышением нового класса профессиональных менеджеров, сменивших «боссов» старого типа – непосредственных хозяев компании, а часто и глав семьи, ею владевшей. Разговоры о стратегическом планировании и его рациональных и научных критериях, как легко видеть, были эффективной формой легитимации привилегий новых управленцев, выходцев из среднего класса. Аналогичным образом в начале XIX века создание классической теории военной стратегии в Пруссии служило оправданием претензий прусского офицерского корпуса на роль профессионалов во всех делах, касающихся армии и войны. А в Древней Греции само появление термина «стратегия» было связано с возникновением полиса и слоя профессиональных администраторов.
За несколько десятилетий своего существования теория менеджмента успела обрасти несколькими, во многом взаимоисключающими подходами к понятию стратегии. Классическому – позитивистскому и инженерно-техническому по своему характеру – менеджменту естественно сопутствовала и классическая, в своем роде позитивистская, концепция корпоративной стратегии. В ряду ее наиболее влиятельных разработчиков можно назвать И. Ансоффа, А. Чендлера, А. Слоана, М. Портера и др. Ядро этой концепции составляет рациональное планирование и логика эффективности, основывающаяся на естественной технологической цепочке: ресурсы компании – хозяйственная деятельность – выход продукции. Само планирование мыслилось, разумеется, как оптимальное сочетание некой долгосрочной цели и изменяющихся средств ее достижения посредством рационального анализа. Согласно А. Слоану, бывшему президенту крупнейшей автомобильной корпорации «Дженерал Моторс», основная стратегическая проблема заключается в позиционировании фирмы на рынке с целью получения наибольшей прибыли. Классической концепции стратегии присуще стремление проводить отчетливое различие между собственно стратегическими целями корпорации (А. Слоан называл это «политикой» корпорации) и ее текущей деятельностью. М. Портер выделил пять важнейших факторов, определяющих эффективность деятельности компании: первые два относятся к способности поставщика и покупателя влиять на цену поставляемого сырья, третий фактор – появление новых привлекательных возможностей в бизнесе, четвертый – угроза появления на рынке аналогичных товаров, пятый фактор – конкуренция между существующими производителями.
Наконец, даже беглое знакомство с любым сегментом потребительского рынка позволяет уловить основные закономерности позиционирования отдельных компаний. М. Портер предложил различать в этой связи два главных фактора: стремление захватить как можно более широкий сегмент рынка и ставка на производство специфической, даже уникальной в своем роде продукции[106]. Возьмем для примера автомобильную промышленность. Такие гиганты автомобильной индустрии, как «Дженерал Моторс», «Форд», «Тойота», «Фольксваген», стремятся выпускать автомобили массового спроса и за счет больших объемов продаж, разветвленной сети сервиса и других преимуществ получают прибыль даже при сохранении относительно низких цен на свою продукцию. На противоположном конце спектра находятся такие фирмы, как «Ягуар», «Роллс-Ройс», «Феррари», в известной степени «Мерседес-Бенц» и др., ориентирующиеся на производство представительских и спортивных автомобилей. Ясно, что, к примеру, «Форд» и «Феррари» даже не являются конкурентами по отношению друг к другу.
Главный персонаж классической теории стратегии – это идеальный «экономический человек», олицетворение отвлеченно-рационального мышления, который единолично принимает «единственно правильные» решения и руководит корпорацией, как генерал командует войском. Его главным достоинством, совершенно в духе либеральных представлений Адама Смита, является «предусмотрительность», означающая прежде и превыше всего способность предвидеть последствия своих действий и отделить долгосрочные интересы от сиюминутной выгоды.
Довольно скоро, однако, вместе с кризисом классического менеджмента пошатнулось доверие и к классической концепции корпоративной стратегии. С середины 80-х годов прошлого столетия все больше авторов стали подвергать сомнению пользу и эффективность разного рода абстракций, в изобилии порождавшихся классическим подходом к выработке стратегии. Разрыв между планами и действительностью был слишком заметен и реален, чтобы его можно было долго игнорировать. Все чаще стали звучать призывы оставить формальные расчеты и руководствоваться «самой жизнью» со всей ее неопределенностью и непредсказуемостью. Так, Р. Стейси в 1990 году заявил, что он считает стратегическую формалистику в стиле Ансоффа и Портера «нереалистичной, непрактичной и глубоко косной» и что «действительный смысл стратегического менеджмента заключается в способности иметь дело с неведомым»[107]. Такой подход к стратегии обычно связывают с так называемой Американской школой Карнеги (Р. Сайерт, Дж. Марч, Г. Саймон) и особенно с именем Г. Минтцберга, который еще в начале 1970-х предложил считать основным предметом стратегии «спонтанно возникающие обстоятельства» и выстраивать стратегию не сверху – административно-командным способом, а снизу – исходя из актуального положения дел.
Этот, как его называют, «динамический», или «процессивный», подход к стратегии ставит акцент на ограниченности познавательных способностей человека. Он предполагает, что полностью рациональный «экономический человек» есть не более чем фикция. Стратегия – это в большей степени предмет неявленных «намерений» и «неписаной модели поведения», в которых отделить знание от действия отнюдь не просто, если вообще возможно. Само понятие «стратегическое планирование», утверждал Минтцберг, есть оксюморон, сочетание несочетаемого. Стратегии вообще не вычисляют и не выбирают; они программируются историческим бытием корпорации и ее менеджеров, вырабатываются в повседневной деятельности компании и выстраиваются снизу вверх. Г. Минтцберг определяет стратегию просто как «навык» мастера, так что, с его точки зрения, мясник из книги «Чжуан-цзы» заслуживал бы звания идеального стратега. Соответственно, успех отдельного менеджера определяется на самом деле не его безупречной рациональностью, а личными качествами, часто не поддающимися никакому рациональному объяснению. Но люди наделены способностью поступать разумно и находить приемлемый компромисс в любых обстоятельствах, что, собственно, и делает нашу деятельность «эффективной». В реальной же экономике рынок не предъявляет слишком жестких условий к его участникам, и нередко бывает так, что компания, плохо действующая с формальной точки зрения, вполне процветает.
Стратегии, таким образом, представляют собой способ упростить и упорядочить реальность, недоступную пониманию. В значительной степени они сводятся к своего рода терапевтическим процедурам и ритуалам, призванным укрепить в членах корпорации уверенность в себе. Отсюда не следует, что на долю менеджера остается только тактическая сноровка и приспособление к обстановке. Решающее значение здесь имеют практический опыт, внутренняя компетенция, нарабатываемые в течение длительного времени – подобно тому, как мяснику из притчи «Чжуан-цзы» понадобилось два десятка лет для того, чтобы стать виртуозом в своем деле. Путь к успеху корпорации лежит через совершенствование профессионального мастерства, внимательное изучение рынка с целью наиболее выгодного позиционирования и гибкое приспособление к меняющимся условиям хозяйственной деятельности.
Еще один подход к выработке стратегии можно назвать «эволюционным». Он предполагает соответствие между эволюционной теорией в биологии и законами экономики: в условиях рыночной конкуренции выживает компания, которая наилучшим образом оптимизирует свою деятельность. Главным требованием к стратегии в таком случае является дифференция и приспособление к хозяйственной среде. Сама же стратегия, по существу, оказывается здесь способом выживания корпоративного «организма» и поэтому носит консервативный и пассивный, защитный характер. Она становится почти неотличимой от тактики, имеющей целью выживание компании, в далекой перспективе – практически безнадежной.
С начала 90-х годов прошлого века все большее влияние приобретает подход к стратегии, который делает акцент на социальных и культурных предпосылках деятельности отдельных корпораций. Его иногда называют «системным»[108]. Его сторонники вообще отрицают существование какого-либо универсального критерия экономической эффективности и «рационального планирования». Для них классическая концепция управленческой стратегии – плод определенных исторических условий, существовавших в Северной Америке в середине XX века, а также ряда особенных, даже уникальных в своем роде, политических и экономических традиций, свойственных англосаксонской цивилизации. Классическая концепция стратегии, по их мнению, отобразила глобальную экспансию и совершенно особый, одновременно оптимистический и консервативный, дух американского капитализма[109]. Но то, что считается рациональным и эффективным в одной стране, совсем не обязательно является таковым в другой, а игнорирование общепринятых, пусть даже и неписаных, правил деловой деятельности может оказаться фатальным для нарушителя. Культурные нормы предопределяют не только представления о разумном и должном, но и познавательные способности человека в широком смысле. Японские корпорации могут казаться весьма неэффективными с американской точки зрения, но они совершенно адекватны своей общественной среде, а попытки навязать им чужие правила игры, как показывает практика, способны вызвать серьезный кризис экономических и политических институтов Японии. Те же японские кэйрэйцу могут вообще не иметь стратегии в ее классическом американском понимании, но их приверженность поставленной долгосрочной цели вкупе с присущим их деловому стилю тесным взаимодействием руководства с персоналом способна порой давать блестящие результаты.
В последнее время наблюдаются попытки синтезировать указанный здесь «культуроцентристский» взгляд на стратегию с классической теорией стратегического управления. Так, С. Каммингс полагает, что стратегия должна вырасти из самобытного этоса корпорации и быть выражением корпоративной идентичности, но понятийный аппарат стратегического планирования должен задавать формы и направление этого процесса корпоративного самопознания. Концепции классической стратегии, по мнению С. Каммингса, должны сыграть роль эвристического инструмента, выстраивающего подобие рационального дискурса с целью интуитивно постигаемой и доступной лишь метафорическому выражению идентичности (в данном случае – идентичности компании), каковая является единственной неотчуждаемой (ибо неформализуемой) реальностью экономической деятельности в условиях информационной цивилизации[110]. В терминах аристотелевской этики, стратегия должна стать способом обретения компанией своего телоса — понятия, созвучного китайскому представлению о дэ как внутреннем совершенстве вещей. Телос и дэ являются подлинными гарантами идентичности именно потому, что служат средством и самой средой сообщительности личности с миром – реальности, напомним, всецело символической. И эта сообщительность есть сила преображения личности в ее вечносущий, надвременный тип. Ибо наша идентичность – это вестник вечности в нас, или, говоря языком Чжуан-цзы, сила «живой жизни».
Возвращаясь к рассказу о чудесном поваре из книги «Чжуан-цзы», мы можем сказать теперь, что его мастерство принадлежит эпохе «постклассического менеджмента»: герой этой притчи сочетает безусловную приверженность практике с особого рода внутренним – духовным и интуитивным – знанием, которое дается именно открытием своей идентичности («подлинности»); открытием, дарующим истинное счастье и потому знаменующим высшую точку нравственно значимой жизни. В этой точке чистый дух сходится с неисчерпаемой конкретностью существования. Следует внимательнее приглядеться к этому примечательному совпадению: в нем содержится оправдание всей человеческой практики.
Основные понятия китайской стратегии