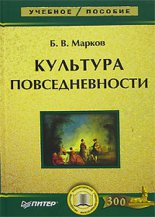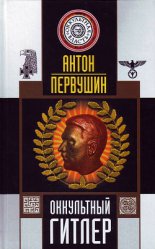Китай управляемый: старый добрый менеджмент Малявин Владимир
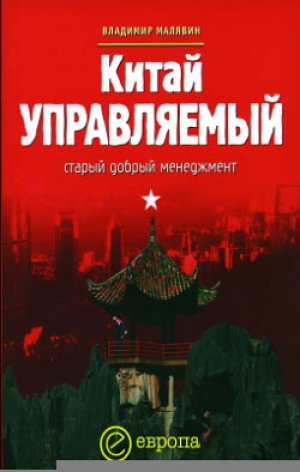
В противоположность субъективному действию, которое как бы накладывается на мир и в пределе способно этот мир сотворить из своего замысла, событие есть внутренне присущая миру со-бытийность. Его природа по-своему диалектична, ведь оно само в себе отсутствует и само собой не владеет. Оттого же в китайской традиции теория события сводится, по сути, к семантике соответствующих понятий: превращение, чтобы быть собой, должно само превратиться и стать... постоянством. Аналогичным образом, сокрытие должно себя сокрыть и предстать полной несокрытостью. Даосские патриархи уподобляли эту внутреннюю структуру события (или круговорота Великого Пути) отношению зародыша в эмбриональной стадии и его матери. Мать, как воплощение женственности, выступает здесь символом пассивности и бесконечной уступчивости (а также, заметим, сопутствующей ей нежности), но из пустоты ее утробы рождается все сущее. В широком же смысле мифологема мировой «единотелесности» как своего рода «двухслойного» тела матери-ребенка, не отменяя иерархических отношений старшинства, указывает на недвойственность истока жизни и ее завершения, начала и конца.
Китайская мысль выработала оригинальный, не имеющих аналогов в европейской философской традиции способ соединения субъективного и объективного, внутреннего и внешнего измерений бытия посредством не отвлеченного познания вещей в данности трансцендентального опыта, а как бы «самораспускания», само-высвобождения сознания в состоянии именно соучастия, со-бытийственности со всем сущим в акте (само)превращения; состояния как со-стоятельности. Речь идет об акте «(само)опустошения», или раскрытия в своем роде универсального «(само)отсутствия» (у). Это означает, что действительным условием события и, следовательно, всякого свершения и успеха является отнюдь не действие, а, напротив, покой. Последний, как хорошо известно, только и делает возможным творчество, поскольку оправдывает неисчерпаемое богатство разнообразия бытия. Но по той же причине покой, как говорили древние даосы, не может успокоить сам себя, подобно тому, как чистота не может стать совершенной сама по себе. Как заметил Морис Бланшо, «покоя никогда не может быть достаточно». Та же мысль угадывается в загадочном наставлении из «Дао-Дэ цзина»: «Собирая энергию и достигая мягкости, можешь ли стать как младенец?»
К предельной мягкости, как и к высшей гармонии, можно идти, но ими нельзя обладать как вещами. В духовной литературе Китая по этому поводу говорится о необходимости «приводить к покою покойную воду».
Покой сверх покоя – вот совершенство вольного, «самораспускающегося» духа. Он достигается, говоря языком даосов, «еще большим одухотворением духовного». Речь идет об импульсе чистой самотрансформации, превосходящем всякое тождество, о безмерной творческой мощи самой жизни. Главный принцип реальности как события, согласно классической формуле «Книги Перемен», есть «животворение живого», самопорождение жизни (шэн-шэн). В уже известной нам древнедаосской книге «Чжуан-цзы» мы находим классическое описание реальности как события. Бытие здесь уподобляется цельности всего сущего, неотличимой, с одной стороны, от пустоты мировой утробы, а с другой стороны, от вселенского ветра – апофеоза мирового динамизма. Взаимодействие ветра и пустоты задает тональность человеческого существования, рождает неповторимый голос человеческой индивидуальности. Чжуан-цзы прибегает к языку иносказаний:
«Великий Ком выдыхает воздух, зовущийся ветром. Изначально недвижим, бездеятелен он. Но вот вдруг приходит в движение, и тотчас взволнуются, зазвучат на все лады бесчисленные отверстия природы. Кто не слышал этого громоподобного пения? Вздымающиеся гребни гор, дупла исполинских деревьев в сотню обхватов – как нос и рот, и уши, как горлышко кувшина, как чарка для вина, как ступка, как омут или лужа. Наполнит их ветер – и они завоют, закричат, заревут, заухают, залают. Могучие деревья шумят грозно: у-у-у! А молодые деревца жалобно откликаются им: а-а-а! При слабом ветре – гармония малая, при сильном ветре – гармония великая. Но стихнет вихрь, и все отверстия замолкают. Не так ли раскачиваются и шумят на ветру деревья?»
Бытие, сообщается нам в этом пассаже, есть вселенская гармония – типично китайский тезис. Но эта гармония имеет разные уровни и проявления. Как поясняется в тексте, вездесущая musica mundana исполняется на одном и том же инструменте, но в трех его разновидностях: флейте Человека, флейте Земли и флейте Неба: первое – это просто «бамбуковая трубка с отверстиями», второе – всевозможные отверстия и каверны в природном мире, а третье – само присутствие бесконечного разнообразия голосов мира, которое становится возможным, мы могли бы добавить, благодаря бескрайней, всеобъемлющей пустоте небес.
В этой замечательной игре метафор нам представлены три важных мотива китайской идеи события: во-первых, событие, строго говоря, не имеет причины, но случается «вдруг», «внезапно» среди первозданного покоя бытия. Покой не является причиной действия, подобно тому, как ночь не является логическим следствием дня, а смерть – жизни. Он лишь увеличивает вероятность изменения, которое рано или поздно «внезапно» случается. Изменение в данном случае соответствует некоему бесконечно малому увеличению вероятности, не поддающемуся точному количественному выражению: первый момент дуновения «почти» не отличается от покоя предельной цельности бытия. Этот переход от покоя к движению относится к тончайшему трепету, составляющему природу одухотворенной жизни. В объективном же смысле он есть несчислимая неизбежность. Мы уже встречали подобное отношение к действительности в учении об очень постепенном, бесконечно долгом «накоплении» стратегического преимущества («потенциала обстановки»), которое внезапно в неуловимо-стремительном выпаде. Так действует и сама жизнь или, точнее, принцип «животворения живого»: множество незаметных перемен, достигнув некоей критической массы, как бы внезапно порождают видимую трансформацию. Аналогичным же образом китайцы мыслили накопление «жизненной силы», или «внутреннего совершенства» (дэ), которое происходит незаметно для обыкновенных людей. Отметим, что накопление «жизненной силы» соответствует как раз «опустошению» сознания, его освобождению от бремени предметности.
Во-вторых, единство мироздания, а также нераздельность бытия и человеческой практики (символизируемой игрой на флейте) осуществляется посредством именно пустоты, определяющей и форму вещей, и качество их существования на шкале интенсивности («малая» и «большая» гармонии). Пустота есть то, что соединяет безусловной связью артефакты культуры и природные вещи, выступая необъективируемым условием человеческой деятельности. В пустоте, согласно древним даосским трактатам, осуществляется «сокровенное тождество» всего сущего – еще одно название для «таковости» существования. Эта пустота есть одновременно среда и средоточие (в своем пределе – равно пустотные), фон и фокус – в равной мере лишенные предметности. И предстает она как своего рода срединное бытие, мезокосм, предел смешения всего сущего – подобно тому, как сила-дэ, согласно классической формуле из «Книги Перемен», «происходит из смешения вещей». В этом смысле она выступает другим названием уже известного нам принципа «срединности» со всей его метафизической значимостью.
Примечательно, что и китайская медицина обращает внимание прежде всего на пустоты и отверстия в человеческом теле: суставы, жизненные точки, в которых каналы циркуляции жизненной энергии сообщаются с внешним миром, и т.д.
Наконец, третий важный аспект китайской феноменологии события заключается в том, что всякое изменение в его свете есть результат не воздействия извне, а внутреннего преображения, каковое можно мыслить лишь как самоограничение, дифференциацию изначальной цельности, но речь идет, в сущности, об ограничении безграничного, которое устраняет само себя, стирает собственные следы. Такое преображение есть условие культурного творчества как акта – точнее, именно события – типизации, стилизации нетематизируемой заданности опыта. Типизация отличается от действия своим объективным характером: она выявляет – едва ли даже создает – всеобщие и непреходящие качества существования. Формы китайской культуры потенциально, а на поздней стадии китайской истории уже и актуально имели характер символических типов, которые и составляют действительный фонд традиции[132].
Это обстоятельство напоминает также о том, что событие есть в равной мере событие внешнего мира и внутренней жизни, еще точнее – усилия прояснения сознания, возрастания интенсивности переживания. Мировой ветер, как недвусмысленно намекает автор приведенного отрывка из «Чжуан-цзы», соответствует душевным порывам человека и самой жизни сознания. Нетрудно в таком случае понять, что покой Великого Кома указывает на покой «изначального сердца» как своего рода бытийственного «дна», исходной за-данности сознания, которая является условием всякого существования, делает возможным всякий опыт.
Теперь мы можем подробнее рассмотреть структуру события в китайской мысли в ее темпоральном (временном) измерении. Основные понятия, относящиеся к ней, восходят к древнейшему китайскому канону «Книга Перемен», и, пожалуй, наиболее общим и емким среди них является выражение тун бянь, которое по-русски можно передать словосочетанием «вечнопреемственность в переменах» или «проницание всех перемен мира». Проницаемость есть главное свойство пустоты, которая способна, с одной стороны, все в себя вмещать, а с другой – всюду проникать и все проницать.
Недаром в Китае было принято называть реальность, помимо прочего, «всепроницающим отверстием». Такое отверстие должно быть, разумеется, предельно малым и уподобляется порам на теле или отверстию от иглы.
Уже в «Книге Перемен» со всей ясностью указывается внутренняя связь перемен и постоянства в понятии события. Там сказано: «Исчерпав себя, превращается; претерпев превращение, все проницает; проницая все, существует вечно». В позднейших памятниках чаще подчеркивается универсализм превращения, так что «вечнопреемственность» получает значение «досконального проникновения в превращения» мира. В главе, посвященной этому принципу в средневековом «Каноне суждений от обратного», говорится, например:
«В старину прежние правители устанавливали законы в соответствии с временем и занимались делами по мере необходимости. Если закон соответствует времени, он истинен. Если заниматься делами по мере необходимости, то будет успех. А нынче законы не меняют в соответствии с течением времени и занимаются делами по старинке, не замечая изменения обстоятельств, отчего законы расходятся со временем, а поступки не согласуются с необходимостью. Если не копировать древность, не мудрствовать в современности, а добиваться успеха в соответствии с обстоятельствами времени, тогда даже в трудном положении избегнешь неудачи...»
И далее в трактате подчеркивается объективный характер знания того, что требует время:
«Человеческое знание вещей не проникает глубоко. Желать озарить светом своей мудрости мир и вместить в себя всю тьму вещей и притом не следовать истине и полагаться только на личные способности – значит никогда не достигнуть своей цели. Государь в своем знании мира должен опираться на знание других людей.. .»[133].
В очередной раз мы сталкиваемся с фундаментальной для китайской традиции идеей нераздельности знания и действия, но достигаемой не умозрительно-диалектически, а посредством своеобразной редукции одного к другому через преодоление или, лучше сказать, отстранение, освобождение сознания от оппозиции субъекта и объекта, мысли и предмета, возвращение к состоянию, предшествующему индивидуальной рефлексии. Здесь отсутствует тождество знания и бытия, но то и другое пребывает, пользуясь термином Хайдеггера, во взаимной «близости», в бесконечно малом пространстве духовного «трепета», соответствующего средней области между действием и бездействием, не-различению (но и не субстанциальному единству) покоя и движения. Великий Путь, говорится в «Дао-Дэ цзине», «пребывает в малом». Бытие в китайской традиции воспринимается в экзистенциально-динамическом модусе и трактуется как бесконечно малая «щель», «перерыв» (цзянь, си) в существовании. Тот же Чжуан-цзы уподобляет жизнь «прыжку скакуна через расщелину» или «мельканию солнечного луча в щели». В трактате «Гуй Гу-цзы», как мы помним, стратег пользуется «трещинами» в позиции своих соперников, и хотя речь там идет о практической эффективности дипломатии или политики, мы чувствуем, что в подобных советах присутствует своя метафизическая глубина.
Сказанное означает, что бытие в китайской мысли наделяется аффективной природой: оно непрерывно ускользает от себя, чтобы прийти к себе, возобновляет свое присутствие, охватывая собой нечто «иное». Тем самым оно собирает мир, выявляя его неисчерпаемое разнообразие. Оно есть неведомая неизбежность, интимно внятное Другое. Чжуан-цзы, напомню, отзывается о мудреце в загадочных и исполненных внутренней силы словах:
- «Сидя недвижно, как мертвец, он являет драконий образ.
- Храня глубокое безмолвие, он издает громоподобный глас... ».
Мудрый не имеет своего «я», противостоящего миру. Его знание проистекает из непристрастного, всеобъятного, пан-оптического взгляда на мир, в котором нет «предметов» созерцания, но все явления разлагаются на конкретные моменты восприятия – неуловимые «точки» трансформации, подобные точке как порогу улавливания изменения в процессе сканирования. Эта операция, которая соответствует приращению знания, воплощает также аффективную природу сознания и акт типизации как созидания культуры. Это означает, что мудрец никоим образом не вмешивается в течение событий (отчего он всегда «соответствует времени»), не пытается ничего изменить силой. Он просто позволяет быть бытию, что значит: пребывает в символическом круговороте Пути, с непостижимой быстротой перемещаясь от (не)себя к (не)Себе – и, разумеется, нигде при этом не находясь. Прописная буква во втором случае – в точке не-возврата праведного Пути – призвана напомнить о том, что в этом круговом движении есть своя ось возрастания качества, соответствующего повышению чувствительности, последовательному прояснению духа.
Китайский стратег не лелеет мечты «схватить случай». Он не столько пользуется случаем, сколько использует себя по случаю. Подобно младенцу, прильнувшему к матери (даосская литература изобилует подобными образами), он приникает к течению событий в его бесконечно увеличивающейся дробности и, вникая в мельчайшие подробности «текущего момента», не будучи ничему подобным и потому не имея внешней идентичности, уже не отделяет себя от всеобщего хода вещей, оберегает его, как мать ребенка, и поэтому в каком-то смысле направляет его, что, впрочем, никому не может доставить беспокойства и даже остается незамеченным. Китайская мысль склонна отождествлять бытие с действенностью. Она говорит о чистом, бытийственном успехе, в котором не бывает победителя.
Утверждение Ф. Жюльена о том, что знаток стратегии в Китае пребывает в режиме пассивного ожидания, вводит в заблуждение. Идеальный стратег на китайский лад в своем роде очень деятелен, ибо практикует «самоопустошение» и «накапливает» в себе силу сообщительности с миром, дарующей способность предвосхищения событий. Как точно определяет Лао-цзы, он «делает неделание» (вэй у вэй). И он совершенно покоен, потому что для него мгновение растянуто в вечность.
Итак, первичный аффект Пути относится к некой символической реальности прото-бытия, первозданной алхимии самой жизни, где все существует только как сигнал, указание, ориентация и исчезает прежде, чем обретет внешнюю форму.
- «Пускай в душевной глубине встают и заходят оне.
- Безмолвно, как звезды в ночи...»
В китайской мысли этот экзистенциальный круговорот или срединное пространство, «срединность» во всяком бытии описывали в понятиях «ось Пути», «раскрытия-закрытия Небесных Врат», «воздействия-отклика», «утонченного отклика» или «утонченного совпадения» (ничего ни с чем). Его действие уподобляли «полету птицы в воздухе», не имеющему признаков и не оставляющему следов.
Таково действие «просветленного сердца», тайно преобразующего мир. Это сокровенное микровоздействие, почти что не-действие, обозначается в китайской литературе термином хуа. Последнее противопоставляется макропревращениям (бянь), доступным чувственному восприятию и умозрительным расчетам. Отсюда традиционное выражение: «тысяча перемен, десять тысяч превращений». Например, в медицинском каноне Китая «Книге Внутреннего» сказано: «Рождение вещи есть действие микропревращения (хуа), а когда существование вещи достигает предела, происходит макропревращение (бянь). Когда микропревращения переходят в макропревращения, проявляются симптомы болезни».
Мудрый правитель, по китайским представлениям, управляет миром посредством микропревращений – точнее, своего знания их как умения позволять свершаться благим тенденциям и пресекать зло еще до того, как оно проявится. Самое понятие благого правления в Китае обозначалось термином хуа. Речь идет об очень тонких и постепенных изменениях, непостижимых для тех, кто не имеет длительного опыта духовного просветления. Мудрец воздействует на мир, «как весеннее солнце растапливает лед». Его воздействие ощущается всегда, всюду и всеми, но проявляется и опознается лишь время от времени, и это становится в мире подлинным событием. Именно в этом смысле китайские учителя, начиная с Конфуция, утверждали, что простой народ непременно пойдет за мудрым государем, но не сможет понять его мудрости. А Лао-цзы утверждал даже, что люди вообще не замечают присутствия мудрого государя и считают его свершения собственной заслугой (что, разумеется, мудреца ничуть не огорчает).
Созерцание мира под знаком микропревращений предполагает одновременно способность некоего целостного, беспредельного или, как говорили в Китае, «великого» видения и видения точечного, обращенного к самой предельности опыта. В любом случае оно исключает фиксированность взгляда на отдельных привилегированных образах, «зрелищах» – возвышенных или, как в сегодняшней культуре, нарочито низменных. Китайская литература, как известно, не знает эпоса и, начиная с древнейших своих канонов, являет, в сущности, образы управленческой рутины, поток житейской trivia. В этом пункте конфуцианские каноны с их «срединностью в обыденном» сходятся с программой «Гуй Гу-цзы», требующей совершенно незаметно претворять стратегические планы. Следуя этой установке, китайцы, к частому удивлению европейцев, настаивают еще и на неоспоримой нравственной значимости любой мелочи жизни. Мы знаем теперь почему.
Разлагая или, вернее, растягивая все видимые превращения на долгий – в сущности, бесконечный – ряд микро-превращений, мы вписываем событие в один вечнодлящийся процесс, в сокровенный континуум вечнопреемственности. Еще одна классическая сентенция из «Книги Перемен» содержит максимально широкое определение связей между двумя разрядами превращений, постоянством и собственно событием:
«Отметить микропревращение – значит перейти к макропревращению. Длить его осуществление – значит все проницать. А его явление миру называется событием».
Возможность взаимного преобразования единичного явления, или происшествия, и преемственности процесса есть, пожалуй, важнейшая отличительная черта категории события, внутренне ему присущая. Одно сводится к другому не диалектическим путем и не по аналогии, а именно по пределу своего существования: В Одном (то есть также сплошном, непрерывном) Превращении (и хуа) мира, где превращение одной пылинки равнозначно мировой катастрофе, все подобно друг другу ровно в той мере, в какой уникально. И чем больше человек осознает свое ничтожество перед творческой мощью бытия, тем больше оснований он имеет считать себя великим благодаря своей сопричастности вселенскому танцу вещей. Таким он и предстает на старинных китайских пейзажах: песчинка мироздания, которая, однако, выступает внутренним фокусом композиции картины.
Способность проявить в своем восприятии всеобщую среду-событийность вещей, прояснить в своем опыте момент самоаффектации «животворения живого» как раз и дает мудрому правителю-стратегу способность «опережающего знания» – непостижимое для обыкновенных людей умение предвосхищать события. В китайских канонах это прото-бытие систематически обозначается с помощью определенного ряда понятий, которые указывают на разные аспекты события. Это неудивительно, ведь последнее не имеет субстанциальной идентичности. Таково понятие «семени» (цзин) вещей, «утонченного» или «великого» единства (мяо и, тай и), превосходящего формально-логическое единство, а также понятие «неисчислимо-малого» (вэй), знакомого нам по военному канону Китая. В «Книге Перемен» последний термин определяется как «мельчайший признак движения».
Важное место в этом ряду занимает понятие «импульса» (цзи), выступающее в словосочетаниях «жизненный импульс», «небесный импульс», «сокровенный импульс», «глубинный импульс». В «Книге Перемен» мудростью называется, помимо прочего, «знание импульса, „сбережение постоянства“. Этот термин обозначал также спусковой крючок арбалета и механические устройства вообще. Примечательное обстоятельство, поскольку речь идет об импульсе, который действует в пространстве жизненного трепета и, следовательно, некоего сопряжения сил, в бесконечно малом зазоре между покоем и движением. Недаром в древних текстах он взаимозаменяем с близким ему по звучанию и написанию знаком, который обозначает близость. По Чжуан-цзы, постичь истину Пути – значит пребывать „вблизи“ нее (или претворять в себя изначальный „импульс“ бытия). Тот же Чжуан-цзы часто говорит об „импульсе жизненной“ силы», но произносит гневную тираду против «механического сердца» (цзи синь) — сознания, порабощенного, как мы сказали бы сегодня, механическим и инженерным способом мышления.
В средневековом даосском трактате «Инь Фуцзин» мы находим, наконец, осмысленное соединение в понятии «импульса» субъективного и объективного измерений мира. Импульсом названа здесь сама природа «человеческого сердца», то есть сознание (которое в Китае всегда мыслилось как укорененное в телесном опыте) способно воспринять динамизм бытия и притом утвердить его как основу именно человеческого существования: в китайском тексте далее говорится, что нужно «установить путь Неба, дабы утвердить человека». Ниже сообщается, что импульс (устройство) сознания позволяет человеку «украсть», тайно перенять силу мировых перемен. Так человек соединяется с Небом, то есть с изначальной матрицей своего существования.
В китайской традиции способность следовать жизненному «импульсу» соответствовала постижению мельчайших «семян» явлений, истоков всех событий и, как следствие, умению входить в непосредственный контакт с действительностью, прозревая благодаря полному покою духа предельную деятельность мгновения. Значение «жизненного импульса» для стратегии хорошо описано в трактате Цзе Сюаня «Военный канон в ста главах» (XVII век):
«Импульс – это то, что находится прямо перед нами. Стоит нам отвернуться – и мы уже упустим его. Протяни руку – и ты схватишь импульс. Отвлекись хотя бы на мгновение – и ты упустишь его»[134].
Чтобы импульс почувствовать, надо вникать глубоко и скрываться тщательно.
Умение схватить импульс идет от большого знания, а выгода от этого знания дается быстрым решительным действием».
Вечнопреемственность события в ее аффективном измерении обозначается в китайских текстах также термином и, который относится к первичному динамизму жизни-события и одухотворенной воле мудрого правителя. Этот динамизм проистекает из «движения сердца» и, согласно преобладающему взгляду, вторичен по отношению к пустотности «изначального сердца». Но речь идет об абсолютной скорости духовного аффекта, «воздействия себя на себя» (смысл временности по Хайдеггеру), неизмеримо превосходящей все скорости физического мира. В приведенной выше притче о «флейте Небес» этот динамизм духа символизирует мировой Ветер, который «внезапно» возникает в первозданном покое и в конце концов в него возвращается. Тот же жизненный динамизм соответствует существу осмысленной речи, каковая есть, в понятиях современной феноменологии, «всеобъемлющая предвосхищающая истолкованность мира» (Г.Г. Гадамер). Согласно остроумной формуле Чжуан-цзы, тот, кто «постиг смысл (и), забывает слова». В позднейшей даосской литературе эта точка смыкания смысла и бытия относится к вечнопреемственности жизни, достигаемой духовным просветлением. Отсюда формула: «когда в воле нет воли – вот подлинная воля». Ученый-живописец Шэнь Чжоу (XV век) в надписи к одной из своих картин отмечал, что одухотворенная воля (Шэнь Чжоу употребляет здесь конфуцианский термин – чжи) рождается из ясного сознания различия между воздействием вещей и откликом на них, то есть в символическом, «междубытном» пространстве духовного трепета или «чудесного соответствия» различных моментов существования. Именно континуум воли-и составляет духовный субстрат чистой сообщительности, восприимчивость к которой делает возможным «упреждающее знание». О результатах его постижения сообщает уже знакомая нам старинная поговорка мастеров боевых искусств Китая: «Он не двигается, и я не двигаюсь. Он сдвинулся – а я сдвинулся прежде него».
Итак, между событием и смыслом существует глубинное родство, которое обусловлено все тем же символическим круговоротом Пути. Смысл события как раз в том, что оно всегда предваряет, упреждает само себя и вместе с тем – себе на-следует. Мудрец потому и мудр, что никуда не торопится, но, по словам Лао-цзы, «изготавливается прежде других». В изречениях чань-буддийских учителей та же мысль выражена так:
- «Прежде чем открыть рот, ты уже все сказал.
- Прозрение приходит быстрее, чем можешь понять...»
Зафиксируем это взаимопроникновение постоянства и проистечения: событие опознается только в соположенности состояний «прежде» и «после», предвосхищения и завершения. Его всегда «уже нет» и «еще нет». Китайские каллиграфы и мастера боевых искусств говорят, в частности, о «голове» и «хвосте» действия «силы обстоятельств». По той же причине, как уже говорилось, событие как таковое не может быть «предметом рассмотрения». Его идеальный предел – безмятежный покой «мира в целом», покой мировой пучины, поглощающий любое воздействие.
Если вещь ценна своей метаморфозой, то событие ценно самоупразднением. Семиолог Р. Барт замечает по поводу японского мировосприятия: «Событие не относится ни к какому виду, его особенность сходит на нет; след знака, который, казалось, намечался, стирается: ничто не достигнуто, камень снова был брошен напрасно: на водной глади смысла нет ни кругов, ни даже ряби».
Смысл человеческой деятельности, согласно китайской традиции, есть не что иное, как «удержание», «сбережение» (шоу). Реальность – это то, что остается, даже когда все пройдет: бездонный резервуар, «Волшебная Кладовая» (Чжуан-цзы) абсолютной потенциальности, которая, однако, неотличима от бесчисленного множества мировых свершений.
Время события
Здравый смысл говорит нам, что каждое событие происходит во времени, имеет свое время. Размышление же над природой события приводит к выводу о том, что на самом деле время является условием всякого события или, еще точнее, событие и есть время.
Событие и время совпадают в том, что и то и другое превосходят оппозицию субъекта и объекта или, если высказать этот тезис в положительной форме, утверждают преемственность опыта и бытия, восприятия и действительности. Событие и время относятся к области «междубытного», переходного, динамического состояния. Перемена, изменение и, следовательно, отсутствие самотождественной сущности – их важнейшее свойство. Их природа парадоксальна: они есть именно тогда, когда их нет или, по крайней мере, они не улавливаются чувственным восприятием или мыслью. Но это означает также, что понять природу события – значит понять переживаемое во времени личное существование в его всеобщих, объективных основаниях. Отсюда следует, помимо прочего, что событие и время определяют личную идентичность.
В китайской традиции не возникло сколько-нибудь подробной теории времени, причину чему следует искать, вероятно, как раз в практической направленности китайской мысли, ее стремлении отождествить реальность с событием. По той же причине время для китайцев остается наиболее общим и не поддающимся объективации и анализу, ускользающим от понятий условием мышления и действия. Понимание времени в китайской традиции выражено в отрывочных, туманных, часто иносказательных формулах, которые не описывают и разъясняют, а указывают и напоминают. Эти высказывания обращены к опыту непосредственного переживания времени; они – только вехи сокровенного духовного пути. Их смысл приходится постигать, прибегая к максимально широкому контексту китайской и мировой философский мысли.
Примечательно, что древнейшая и наиболее почитаемая каноническая книга Китая называется именно «Книгой Перемен» (И цзин, Чжоу И). Основу этого загадочного памятника составляют даже не письменные тексты, а 64 комбинации из шести черт, так называемые гексаграммы. Сами черты бывают двух видов: сплошные (обозначающие активное, светлое, мужское начало Ян) и прерывистые (соотносящиеся с пассивным, темным, женским началом Инь). Основной корпус «Книги Перемен» сопровождается разнообразными комментариями и за три тысячелетия истории китайской цивилизации породил массу толкований. Но во все времена он служил материалом для особого рода гаданий, позволявших определить характер наличной обстановки и адекватный способ поведения в ней. Таким образом, постижение смысла гексаграмм «И цзина» носит характер вникания в мировой процесс изменений, открытия в нем все более утонченных и глубоких смыслов.
По сути дела, каждая гексаграмма «И цзина» обозначает определенную динамическую ситуацию и протекающий в ее рамках процесс изменений в его непрерывно утончающихся нюансах. Эти изменения создают условия для плавного перетекания одной ситуации в другую. Реальность, согласно «И цзину», есть постоянное «рождение жизни» или «животворение живого» (шэн-шэн). Эта формула совпадает с принятым в современной феноменологии определением времени как «аффектации себя самим собой», единство возбуждающего и возбуждаемого, переход от одного настоящего к другому как абсолютный феномен, конституирующий сам себя. Время, понимаемое таким образом, неотделимо от сознательного переживания: «суть времени в том, чтобы быть не просто действительным временем или временем, которое течет, но еще и временем, знающим о себе, ибо взрыв или раскрытие настоящего к будущему представляет собой архетип отношения себя к себе и обрисовывает некое внутреннее, или самость».[135]
Понятно, почему время или, точнее, сама временность существования как «импульс» перемен воплощает, в понимании китайцев, само существо бытия. Классический толкователь «И Цзина» Ван Би (III век) так и говорит: «Гексаграмма – это время, а отдельные черты гексаграммы – это соответствующие времени изменения». Весь мир подчиняется действию времени: «Небо движется временем, Земля тоже движется временем. Небо не забегает вперед и не отстает, и Земля тоже не забегает вперед и не отстает».
Наше рассмотрение понятия времени в китайской традиции будет опираться, главным образом, на постулаты этой необычной книги.
Отметим, что исходный смысл термина «время» (ши) в китайском языке относится к длине тени на солнечных часах, то есть к движению солнца на небесном своде. Значение, как видим, соотносящееся с объективными природными процессами и к тому же вполне практическое: измерение отдельных временных отрезков годового круга и календарных циклов было делом первостепенной важности в земледельческой цивилизации. Вполне естественно, что китайцы связывали время именно с «небесными» факторами человеческой деятельности: в древнекитайском языке часто употребляется словосочетание «небесное время» (тянь ши), обозначающее периодические законы природного мира. Как говорится в «Книге Перемен», «солнце, достигнув зенита, клонится к горизонту. Луна, став полной, идет на ущерб. Наполнение и убыль Неба и Земли соответствуют действию времени». Наконец, у термина ши имелось и более узкое значение: трехмесячный временной отрезок, то есть сезон, время года.
Вполне естественно, что главным свойством времени в Китае признавалось именно изменение, перемена, так что в китайских текстах часто говорится об «изменениях времени» (шибянь, шихуа). Вот типичное в своем роде суждение из средневекового сочинения:
«Небо благодаря времени порождает и благодаря времени убивает. Деревья и травы рождаются по времени и по времени умирают. Вода в соответствии со временем замерзает, и в соответствии со временем тает лед. Все это – небесное время».
Такое понимание времени как процесса означает, в сущности, что время неотделимо от перемен и, следовательно, само «случается», является чистым событием, обладающим уникальными свойствами. Здесь китайское понятие времени – быть может, незаметно даже для самих китайцев – вдруг совпадает с мгновением. Более того, в рамках времени-события последовательные моменты существования, которые постороннему аналитическому взгляду кажутся разделенными, в действительности проницают друг друга, составляя одно динамическое целое – то, что китайские мыслители называли «Одним Превращением» всего сущего. Авторитетнейшему неоконфуцианскому ученому Чжу Си (XII век) принадлежит, например, такое высказывание:
«В то время, когда с деревьев опадают пожелтевшие листья, на них уже зарождаются почки. Более того, у вечнозеленых деревьев зимой сначала появляются почки, а потом с них облетают желтые листья. Если говорить об изменениях времени, то нет такого момента, когда Небо и Земля не претерпевали бы изменений»[136].
Впрочем, за тысячу лет до Чжу Си упоминавшийся выше Ван Би рассуждал о природе изменений следующим образом:
«В пользовании нет неизменной истины, в делах нет постоянного порядка: движение и покой, растяжение и сокращение соответствуют изменениям. А посему, когда определяешь свою гексаграмму, счастье и несчастье встают на свои места. Когда ведаешь свое время, покой и движение сообразуются с их пользой. Когда благодаря названию гексаграммы познаешь счастье и несчастье, а благодаря времени познаешь движение и покой, то можно прозреть перемены Единотелесности»[137].
Подобный взгляд на время опять-таки близок современной феноменологии, которая видит во времени «то, что есть, что делает возможным и осуществляет возвращение того же самого»[138]. Время в таком случае оказывается творческим началом мира или, скорее, «серией начал» (Г. Башляр). В качестве «логико-онтологического генезиса» мира оно обуславливает «появление других фигур и, следовательно, других определений; мысль о том, что нечто существует как временное, требует мыслить его как нечто, порождающее другие модусы бытия»[139].
Процитированное суждение со всей очевидностью выявляет одно важное следствие представления о времени как исходной реальности, конституирующей все сущее: отсутствие в китайской мысли сколько-нибудь внятно очерченной трансцендентной перспективы, которая могла бы служить всеобщей точкой отсчета для определения и оценки мировых явлений. Об отсутствии такой точки зрения говорит уже самое название «Книги Перемен», где понятие «перемены» означало также «отсутствие усилий», «спонтанная метаморфоза». Тот факт, что для Ван Би все перемены происходят в конечном счете в среде Одного Тела, то есть в рамках некоего вселенского организма, лишний раз напоминает о том, что метаморфозы в китайской картине мира носят имманентный и спонтанный характер. Вот почему они не столько представляют некую умопостигаемую реальность, сколько скрывают ее, переводя ее в имманентность опыта. Перемены происходят «сами по себе» во всем их неисчерпаемом разнообразии и притом одновременно, то есть в плоскости временности как таковой. Другими словами, никогда не равная себе временность времени есть то, что объединяет все сущее в мире. Это время как «единый взрыв или единый напор», пронизывающие все временные измерения и всегда тождественные себе, имеет характер, по выражению М. Мерло-Понти, «временного стиля мира». Оно есть некая живая целостность мира, подобная Великому Кому в притче Чжуан-цзы, проявляющемуся через человеческие переживания и само лицо человека. В конечном счете, время есть «некто» (Мерло-Понти), некое всеобщее «мгновение ока», Augen-blick (Хайдеггер), «субъект=Х» или «темный предшественник» (Делёз), чему в даосской традиции соответствует понятие «верховного прародителя» (цзун).
Чтобы читатель имел конкретное представление о характере такой «временности времени», приведем в качестве примера краткое описание ситуации, обозначаемой первой гексаграммой, носящей название Цянь (Творчество). Она целиком состоит из сплошных черт и, таким образом, представляет собой идеальную модель развития ситуации в ее деятельностном модусе. Сквозным для нее символом является дракон – олицетворение творческой силы мироздания. Общий ее смысл тоже трактуется как чрезвычайно благоприятный для действия. В буквальном переводе этот заглавный афоризм звучит приблизительно так: «Изначальное проникновение. Общеполезная праведность». С глубокой древности в Китае было принято считать, что эта формула исчерпывает смысл всего канона.
Значение начальной черты (отсчет черт в гексаграммах ведется снизу вверх) выражено афоризмом: «Затаившийся дракон; ничего не делается». Комментаторы поясняют, что речь идет о преддверии активности, приуготовлении к действию: подобно тому, как царственный дракон, прежде чем взлететь в небеса с приходом весны, таится в пучине вод, выжидая благоприятный момент для действия, так и благородный муж занимает низкое положение и не выказывает себя, но не оставляет подготовки к грядущей деятельности. Поскольку единица открывает ряд нечетных чисел, соответствующих деятельному началу Ян, первая черта символизирует здесь начало и совершенство (дэ) всего сущего.
Значение второй черты выражено в афоризме: «Узреешь дракона в полях; встретить великого человека – большая удача». Дракон переместился на поверхность земли – большое достижение! Мудрый властитель явил себя миру и готов взяться за дело. Он, как поясняется в комментариях, «распространяет всюду свою добродетель». Такое положение, поясняется далее, означает, что «время благоприятствует». По мнению многих комментаторов, неблагоприятный порядковый номер черты – второй – указывает на то, что успех в этом положении будет сопутствовать только истинно добродетельному мужу.
Третья черта сопровождается афоризмом: «Благородный муж действует день напролет и с наступлением ночи не теряет бдительности. ОПАСНОСТЬ. НЕСЧАСТЬЯ НЕ БУДЕТ». Это высказывание всегда воспринималось как классическая формула неустанного духовного совершенствования, претворения праведного Пути, которое, согласно древнейшему толкованию, означает здесь «возвращение к Пути». Теперь благородный муж «достигает предела знания, и с ним можно толковать об импульсах событий». Наличие опасности лишь усиливает его бдительность и внутреннюю сосредоточенность. Кроме того, речь идет о третьей, центральной черте гексаграммы. Это означает, что такое состояние соответствует идеалу срединности или, лучше сказать, центрированности в духовной жизни.
Афоризм, относящийся к четвертой черте, гласит: «Иногда подпрыгивает над волнами. НЕСЧАСТЬЯ НЕ БУДЕТ». На этом этапе непрерывно возрастающая активность уже превзошла идеальную срединность, дракон находится в несколько неустойчивом положении, порою он излишне ретиво рвется ввысь, но все-таки еще не вполне оставил землю и не потерял чувства меры. Вот почему его напористость не сулит ему несчастий.
Пятая черта сопровождается таким афоризмом: «Дракон взлетает в небеса; встретить великого человека – большая удача. Итак, потенциал обстановки раскрылся до конца, и дракон занял подобающее ему место в поднебесье и своей активностью утверждает согласие в мире (число пять, которому данная черта соответствует, относится, как все нечетные числа, к началу Ян, так что освящаемая ею бурная активность не противоречит естественному порядку вещей, а потому сулит удачу). Благородный муж „владеет временем“, – поясняется в комментариях. Это значит, что мудрый в данном положении „ставит себя прежде Неба, и Небо не восстает против него. Ставит себя после Неба – и сообразуется с небесным временем. Если Небо не восстает против него, то тем более это касается людей и духов!“
Смысл последней, шестой черты раскрывается в следующем афоризме: «Дракон залетел высоко. Будут неприятности». Ситуация благоприятная для действия перезрела и исчерпала себя, или, как говорится в комментариях, «время достигло своего предела». Дракон, до сих пор не знавший неудач, увлекся деятельностью, отступил от «небесного порядка», и это сулит ему неприятности. «Время ставит предел», – говорится в комментариях. Развитие событий в рамках данной ситуации пришло к своему логическому концу, наступает неотвратимый упадок, и теперь должно народиться новое «время», новый контекст действий.
Общий смысл гексаграммы выражен в несколько загадочном изречении: «Зришь всех драконов без головы. УДАЧА». Согласно древнейшему комментарию, «Небесное совершенство (дэ) не имеет головы» (то есть начала). Позднейшие комментаторы добавляют, что драконы, не имеющие головы, означают могущественного владыку (девять драконов – символ императорской власти), не впавшего в гордыню и потому способного достичь успеха. В этой гексаграмме все шесть черт-позиций «свершаются сообразно своему времени».
Такова матрица события в его наиболее общем и чистом виде. Это событие протекает во времени, во всех своих моментах обладает временностью, причем одновременно в объективном (процессы физического мира) и субъективном (путь нравственного совершенствования) измерениях. Сама временность предстает здесь как сложная структура, которая определена взаимным наложением полярных состояний и тенденций, относящихся притом к разным планам бытия. Поэтому она не является сущностью и не имеет своей идентичности. Мы можем воспринимать ее посредством определенной соотнесенности ее границ – то, что в Китае называли, как уже было отмечено выше, «головой и „хвостом“. Однако эта соотнесенность имеет, по сути, металогическую природу, ибо сами понятия „начала“ и „конца“ остаются условными, соответствующими той или иной перспективе созерцания. Время делимо до бесконечности, и ни один из его моментов не может считаться ни его началом, ни его концом. Отсюда следует, что время есть, как говорили в Китае, „непрестанное обновление“, и каждое его мгновение обладает уникальными свойствами. Другими словами, начало мира пребывает в безначальности каждого момента существования. Именно с таких позиций ученый Ху Сюнь (XVII век) толковал начальное и заключительное пояснения к уже известной нам первой гексаграмме „И цзина“:
«Изначальное – это покой деятельного начала. Пребывает само по себе внутри и не проявляется вовне. Проникновение – это действие творческого начала. Можно зреть Небесное сердце, ибо оно уже проявилось. ..
Видеть всех девятерых драконов и называть их безголовыми – значит проводить различие между покоем и движением. Голова – это изначальное. Отсюда ясно, что время относится к «проникновению», а не к «изначальному»...»[140] .
Суждение Ху Сюня подтверждает высказанный выше тезис о том, что время или, точнее, временность события предполагает и даже каким-то образом включает в себя вневременной покой, ежемгновенно переходящий в конкретные качества существования во времени. Ситуация уже знакомая нам по рассмотренной в предыдущей главе притче о «флейте Неба» из даосского канона «Чжуан-цзы».
В понятиях «Книги Перемен» конкретные свойства времени определены положением отдельных черт в рамках гексаграммы и в этом смысле обладают пространственными параметрами. Но все изменения в мире погружены в единый континуум самоконституирующейся временности. Мир «И цзина» как универсум в китайском представлении есть именно пространственно-временной континуум. Как говорит Ху Сюнь, «надобно знать, что есть время в положении черты и есть положение черты во времени. Поэтому, говоря о времени, мы подразумеваем место, а говоря о месте, подразумеваем время». В соответствии с дуальной (точнее, как мы сейчас увидим, дуально-иерархической структурой) китайского универсума Ху Сюнь соотносит временность с деятельным началом Неба, а пространственность – с пассивным началом Земли, так что время для него «растекается по всем шести чертам» гексаграммы.
Итак, китайское понимание времени соответствует именно принятому в современной феноменологии понятию «внутренней временности», которая опознается не как цепочка обособленных моментов настоящего, но как взаимное наложение, даже взаимопроникновение прошлого и будущего. Такое восприятие времени запечатлено, в частности, в понятии «выжидания», «предвосхищения» (дай), которое имеет сходное со знаком «время» начертание и в древности было взаимозаменяемым с ним. Вместе с тем время в традиции «И цзина» часто ассоциируется с «накоплением», то есть удержанием прошлого, что вообще считалось в Китае одним из признаков «добродетели» как внутреннего совершенства вещи. Как говорится в комментарии к одной из гексаграмм, «когда накапливаешь сообразно времени, можешь стать великим». Суждение, имеющее самое непосредственное отношение к принципам менеджмента в Китае.
Предвосхищение и накопление, взаимно обуславливая и дополняя друг друга, очерчивают рамки третьего и, пожалуй, главного модуса времени, который представлен в известном нам понятии «срединности» (чжун). Это понятие имеет также значение адекватности и «точного попадания» во что-то, то есть речь идет о безупречном «пребывании во времени». Один из комментаторов «И цзина» заявил даже, что весь смысл этого канона выражен в понятии «срединности во времени» или «попадания во время». Но самое интересное заключается в том, что эта «срединность» отождествляется комментаторами с «пределом» того или иного состояния. Другими словами, она неотделима от непрерывного (само)превращения Пути. В этом смысле «срединность во времени» совпадает с «импульсом времени» (ши цзи), означающим порождающий момент бытия, сам акт временения времени. Время в китайском понимании есть «точность временения», для которой в русском языке отсутствует точный эквивалент. Смысл этого понятия лучше всего выражается английским словом timing.
Последний термин обозначает, как известно, точность действия во времени или, лучше сказать, его идеальную встроенность в ситуацию. Точное соответствие «обстоятельствам времени» не требует усилий, напротив – оно предполагает полный покой и предел духовной восприимчивости. Речь идет, в сущности, о дифференциальной связи двух модусов длительности или двух видов движения: движения физического и движения духовного, ибо жизнь духа есть именно движение, и притом, как указывали в Китае, «движение пустотное», способное обладать абсолютной скоростью. Постижение «самоконституирующей временности» соответствует восприятию предельной длительности творческого мгновения, в которую вписывается движение физического предмета. Примером владения искусством timing'а может служить способность некоторых мастеров боевых искусств на Востоке как бы без усилия уворачиваться от летящих пуль. Все дело в том, что пуля, летящая по заданной траектории, предстает почти неподвижной для одухотворенно-бодрствующего сознания, способного на «ежемгновенные превращения». В даосской традиции это называлось: «следуя импульсу жизни, соответствовать переменам».
Итак, дух всегда упреждает вещи, и прозрение приходит прежде умственного знания. Более того: «пустотное движение» (еще одна даосская формула) или самоаффект духа не просто опережает, но в известном смысле и предвосхищает физическое действие, является истинной матрицей мира. Одухотворенности сознания невозможно научиться или, точнее, ей можно научиться, только разучившись всему, чему человек сознательно научился в своей жизни. Речь идет о возвращении к врожденной жизненной «сути», спонтанному «разуму тела».
«Разделяй и властвуй», – говорили древние. Властвует тот, кто овладел интуицией дифференциального единства, кто воплотил в себе ужасающую мощь вечнотекучего Хаоса, бытийственного рассеивания, которое, как ни странно, служит собиранию мира, ибо вездесущее различие уже неотличимо от всеобщности. В даосской литературе в этой связи говорится о согласовании двух измерений всеобщего Пути: движения «поступательного» – эволюционного и нисходящего – и движения «возвратного», возвращающего к изначальной цельности бытия. Подступы к этой теме в западной философии можно найти в книге Ж. Делёза «Складка», где складчатость, или символическая глубина бытия описывается как соотнесенность актуализации (дух) и реализации (тело), и эту связь свершение не может полностью актуализовать, а осуществление – реализовать[141].
Главное понятие и одновременно высшая ценность здесь – это жизненная гармония, несотворенная, беспредельная, всеобъемлющая. В мгновении как непрерывно возобновляющейся совместности актуального и виртуального измерений бытия сходятся все предвосхищаемое и удерживаемое в мировом бытии, которое само оказывается здесь не чем иным, как «местом резонанса ритмов мгновения»[142].
Таким образом, понятие «срединности» подводит нас к сердцевине проблематики времени в китайской традиции: к внутренней связи без-временной или до-временной реальности с временностью. Двуединство этих модусов бытия отображено в широко употребительной оппозиции понятий «прежденебесное» (сянь тянь) и «посленебесное» (хоу тянь) существование. Оба понятия наделены в китайской традиции очень широким спектром значений – от космологии до духовной практики. В самом общем виде «прежденебесное» относится к бытию в состоянии покоя, цельности, непроявленности и процессу инволюции, возвращения к истоку, а «после-небесное» обозначает движение, разделение, явление и эволюционный процесс, раскрытие вовне. Великий Путь, как считали в Китае, потому и зовется великим, что знаменует «двойное движение», то есть движение по кругу, а точнее – двойной спирали, где поступательному движению всегда соответствует движение возвратное. Другой его геометрический образ – квадрат (Земля), вписанный в круг (Небо). Мы знаем уже, что этот принцип синхронности разнонаправленных движений (кстати сказать, лежавший в основе китайских практик личностного совершенствования) делал возможным само существование китайской науки стратегии.
Китайское время-временность предстает, таким образом, как бы двухслойной реальностью, оно имеет внутреннюю глубину, несет в себе свое «иное», свою трансценденцию. В этом отношении оно обладает явным сходством с понятием времени в экзистенциальной феноменологии Хайдеггера, для которого «время исходно как временение временности» и «временность временит исходно из будущего»[143], то есть, говоря в понятиях «Книги Перемен», «растекается» бесчисленным множеством возможностей, содержащихся в творческих метаморфозах жизни. Время-событие есть и обетование, и пришествие.
В китайских текстах мне известен, по крайней мере, один пример явного употребления термина «время» в указанном здесь смысле внутренней трансценденции времени как акта его самоконституирования, то есть сущности времени как временения. Известному комментатору даосских канонов и «И цзина» У Чэну (начало XIV века) принадлежит такое суждение (в буквальном переводе): «Вся тьма перемен и превращений времени неисчерпаема, а то, благодаря чему я временю свою время, – это только единое и не более того»[144]. Временность времени, таким образом, оправдывается собственной предельностью, что делает ее началом всякого существования, но не позволяет ей принадлежать только субъективному или только объективному плану бытия. Она есть, строго говоря, бесконечность конечности и в своем основании – именно внутривременность, собственная трансцендентность мира как «временная определенность внутримирного сущего» (Хайдеггер).
Теперь не будет удивительным узнать, что китайское восприятие времени характеризуется нежеланием различать между мгновением и вечностью или, что то же самое, стремлением совместить объективность вечности с субъективностью момента, то есть совместить «перемены» в трансцензусе, дарующем безмятежный покой. Этот момент динамической всеохватности и есть то, что можно назвать временем события. Пожалуй, с наибольшей отчетливостью о нем сказано все в той же книге «Чжуан-цзы», во 2-ой главе которой мы встречаем ряд высказываний, уводящих по ту сторону здравого смысла:
«Мудрый действует, не умствуя, и для него десять тысяч лет – как одно мгновение...
Есть великое пробуждение, после которого узнаешь, что в мире есть великий сон... Эти слова кажутся загадочными, но если по прошествии многих тысяч поколений вдруг явится великий мудрец, понимающий их смысл, для него вся вечность времен промелькнет как один день!»
Вечность как «один день» – очень сильный образ, сопоставимый по своей силе разве что с Евангельским «днесь», «днем Бога», который требует веры, но освобождает от обремененности мирским. Таково истинное событие: «чудесное схождение» противоположностей, которое обновляет целый мир, но не имеет видимых признаков и не оставляет следов, подобно «полету птицы в воздухе». Чжуан-цзы обозначал его понятием хуа, которое относилось, как мы знаем, к микропеременам, недоступным чувственному восприятию, но улавливаемым духовным ведением в глубине внутреннего опыта. Недаром это понятие часто употреблялось в словосочетании «духовные перемены». Впрочем, не будем упускать из виду, что мельчайшее здесь сходится с величайшим: эта «предельно малая» («Дао-Дэ цзин») перемена равнозначна превращению всего мира, являет собой вселенскую катастрофу. Мир для Чжуан-цзы и есть неисчерпаемое разнообразие «переменчивых голосов» (хуа шэн), бесконечно тонкие модуляции нетематизируемого трасцензуса: предельная конкретность как всеединство. Тот же термин «микроперемена» (хуа) употребляется в знаменитой притче о Чжуан-цзы и бабочке: однажды Чжуан-цзы увидел себя во сне бабочкой, а когда проснулся, не мог понять, то ли он – Чжуан-цзы, то ли – бабочка. Микропеременой в этом сюжете названа внезапная смена жизненного мира бабочки (которая «вольно порхает среди цветов в свое удовольствие») жизненным миром философа Чжуан-цзы, внезапно ощутившего необходимость понять, кто же он на самом деле. Это состояние экзистенциального изумления соответствует, помимо прочего, открытию внутренней трансценденции временности. Оно свидетельствует о невыразимом прозрении бытийной идентичности в самом опыте разрыва, «промелька» в существовании, трещины бытия, делающих возможным сознание. Недаром тому же Чжуан-цзы принадлежат слова о том, что мудрый постигает истину посредством «великого сомнения» (которое есть в своей глубине восхитительное прозрение), а в духовной традиции Китая закрепилась формула: «Малое сомнение – малое постижение. Великое сомнение – великое постижение». В других памятниках времен Чжуан-цзы тоже можно встретить утверждение о том, что «мудрость – это знание микроперемен (хуа) времени». Классический комментатор «Чжуан-цзы» Го Сян (III век) развивает эту тему, вводя понятия «сокровенной перемены» или «единственной перемены», что можно понять и как «перемены единственного» (мин хуа, ду хуа). «Единственность» в данном случае имеет отношение, надо полагать, к монадической природе мгновения как способа бытия или, точнее, осуществления («превращения») всеединства. Согласно Го Сяну, мудрый «приобщается (букв. „становится одним телом“) с превращениями и все проницает» посредством того, что «забывает и себя, и мир». Истина, таким образом, не открывается в неподвижности умозрения, а именно переживается в опыте временности, открытости мировым превращениям, где любой образ настоящего уже неадекватен действительности и само бытие существует «вне себя», в модусе зеркальности, будучи воспринимаемым лишь во взаимных проекциях прошлого и будущего. Это обстоятельство лишает бытие материальности, делает его «тенью» и, как следствие, придает ему эстетическое качество. Бытие и красота неотделимы друг от друга в китайской традиции.
Го Сян (как и почти все китайские мыслители) в особенности подчеркивает, что ни одно явление мира не является продолжением другого. Из чего следует, что превращение в данном случае означает чистую, самоконституирующуюся временность. Другими словами, «единственная перемена» есть подлинное существование, которое укоренено в самом себе, пронизывает всю толщу времен, и это свойство экзистенциального времени побудило Мерло-Понти назвать его «складкой бытия». Впрочем, выражение «единственная перемена» у Го Сяна есть не более чем парафраз формулы времени в «Книге Перемен»: «изменения во всепроницающем».
Позднейшие поколения китайских ученых-подвижников оставили немало описаний своего опыта переживания «Единственного Превращения» бытия. Они на удивление похожи и, как правило, содержат указания на то, что в пробудившемся сердце «сходится все древнее и настоящее», то есть акт приобщения к временности позволяет охватить всю толщу времен, но при этом сам прозревший, в согласии с идеей внутривременного транцензуса, ощущает себя пребывающим вне мира. Такое существование значимо не данностью субъективно воспринимаемого настоящего, а реальностью вечноотсутствующего и представляет собой длящуюся прерывность или непрерывное пришествие, бесконечно возобновляющуюся конкретность. Как «внутримирная трансцендентность», оно делает возможным саму предъявленность мира. Отсюда понятно, почему в китайской традиции, утверждающей, что все есть перемена, упорно повторяется тезис о том, что переход от одного состояния к другому не имеет отношения к действительному протеканию времени. Каждое мгновение несет в себе совершенную полноту бытия, но притом «не держит» себя, разлагается на множество еще более кратких мгновений и т.д. Ведь и творчество, и творение мира ассоциировались в Китае с «рассеянием». Поэтому мгновение здесь есть обетование всей бездны возможностей бытия. Понятия «обращение в небытие» (у) или «сокрытие» (мин) характеризуют природу временения как «усвоение» или, лучше сказать, вживление вещей в чистый динамизм «единотелесности» мировых превращений – стало быть, их развоплощение, утончение до полной пустотности, состояния самоотсутствия. Так, искусный мясник из притчи Чжуан-цзы не видел перед собой туши быка. Да и мир виделся древним даосам как облако бесконечно тонкой пыли.
В такой картине мира несовпадение отдельных моментов существования как условие возникновения времени оказывается снятым в акте «утонченного соответствия» заведомо несходного. Постижение же чистой (вне)временности знаменует движение, противоположное развертыванию мира, тогда как последнее, будучи выявлением и оплотнением динамизма духа, означает последовательное разложение, ослабление чистоты изначального события. Вот показательное изречение из даосского трактата «Гуань Инь-цзы», имеющее вид священной загадки: «Одна искра огня может спалить всю тьму деревьев, но когда деревья сгорят, где пребывать огню? Мельчайшая прерывность Пути может обратить в небытие всю тьму вещей, но когда исчезнут вещи, где пребывать Пути?» Событие и мир соотносятся по известному нам принципу самодостаточной «таковости» бытия: одно подобно другому не по ассоциации, а по своему пределу.
«Единственная перемена», возобновляющаяся в самой невозможности своего повторения, не имеет длительности и фиксируется только внутренним опытом. Она носит, несомненно, характер первичной самоаффектации, порождающей самое сознание, и стоит в одном ряду с такими фундаментальными понятиями китайской мысли, как «непрерывное животворение живого», «утонченное соответствие», «духовное соприкосновение», «сердечная встреча» и проч. Когда же это первичное время проявляет себя в сознании? Вопрос, по существу, бессмысленный, но в своем роде поучительный. Заметим, что именно проблема связи «вневременного» (Unzeitige) и субъективного «внутреннего времени» (Innerzeitige) стала камнем преткновения для феноменологического проекта Гуссерля и продолжателей его дела.
Китайская традиция не знала апории временности и вневременного, поскольку никогда не субстантивировала реальность, а видела в ней именно «Одно Превращение» – само по себе безусловное, несотворенное и нескончаемое. Первичный аффект есть чистое событие, в котором сознание ускользает от себя только для того, чтобы вернуться к себе. Он свершается с абсолютной, немыслимой скоростью и потому представляет собой лишь символически выражаемое, предположительно-предположенное всему состояние предвосхищения, пред-чувствия всего сущего, где все возникает и гибнет прежде, чем обретает внешнюю форму, и где, стало быть, ничего не начинается и не кончается. «Сокровенный импульс», говорили в Китае, «во всякое время проявляется и во всякое время исчезает» (читай: каждое мгновение проявляется-исчезает и потому не проявляется и не исчезает). Но он также «выходит и уходит вне времени».
Исходное событие проявляется в сознании как внезапное явление, предстающее как бы случайным, но опознаваемое как абсолютно неизбежное и оставляющее в сознании опыт чистой качественности бытия.
В этом бесконечно малом круговороте Великого Пути, предваряющем протяженность и длительность, еще нет разделения на актуальное и виртуальное измерения бытия, нет разницы между сущностью и образом, действительностью и проекцией. Видимый мир, как мы уже могли отметить, предстает здесь только тенью, следом самоскрывающегося проявления Одного (в смысле также сплошного) Превращения. Но это тень и след, не имеющие прототипов в природном мире, ничего не замещающие в нем и потому, строго говоря, не являющиеся иллюзией. Как материал культуры, лишь символически данные среда и средство человеческого общения, они совершенно реальны. Эта двусмысленность статуса образов культуры, которая фактически являлась ценой отсутствия в китайской мысли апории безвременного времени, служила прочным фундаментом китайской традиции.
Вот здесь мы открываем подлинную ценность сведения бытия к событию в Китае. Эта важнейшая особенность китайского миропонимания имела прежде всего практическое значение и служила воспитанию той духовной чувствительности, которая является необходимой предпосылкой успешного правления или стратегического действия. Самоаффектация вводит в то состояние бодрствования, неустанного прояснения сознания (в сущности, главная тема «Книги Перемен»), когда, как сказал поэт,
- … всечасно жду удара
- Или божественного дара
- Из Моисеева жезла...
«Благородный муж укрепляет себя, не прерываясь», – гласит классическая формула «Книги Перемен». Теперь мы знаем, что он укрепляет себя в бодрствующем выжидании, в котором сознание на-следует источнику несотворенного круговорота бытия и потому всегда возвращается, движется в направлении, обратном вектору мировой эволюции – к тому, что предваряет все явления и дарит пред-чувствие мира. Бодрствование должно быть неустанным и все более тщательным: достаточно пропустить импульс хотя бы одной ситуации, и будет потеряна вся внутренняя нить событий. Развитию этой внутренней чувствительности как раз и должно было способствовать чтение «Книги Перемен», носившее характер, по существу, созерцания, интуитивного проникновения в структуру гексаграмм.
Этому состоянию духовного бодрствования свойственна определенная пассивность эго, ибо мы должны отказаться от субъективной воли и открыться миру до такой степени, чтобы быть способными даже в ударе открыть дар. Такое бодрствование взращивается опытом безмятежного покоя и не имеет никакого «предмета», ни на что не направлено, не знает пристрастий и потому не терпит ущерба, совершенно целостно. В Китае это называли «сосредоточенностью на едином». Но это покой динамический, всегда сопряженный с внутренним превращением. Уместно привести в этой связи разъяснение общего смысла 2-ой гексаграммы «И цзина» Кунь (Земля), которая целиком состоит из прерывистых черт и потому являет апофеоз пассивности, полярно противоположный 1-ой гексаграмме Цянь. Оно гласит:
«Кунь предельно мягко, но в движении жестко, предельно покойно, но совершенством своим распространяется во все пределы. Следует за правителем и пребывает вечно, вмещает в себя всю тьму вещей и производит жизненные превращения (хуа) всего света. Путь Кунь, поистине, в наследовании! Оно принимает Небо и осуществляет по времени».
Итак, у Чжуан-цзы открытие «микроперемен» не случайно связывается с пробуждением – событием всегда внезапным и непредсказуемым. Пробуждение – единственный способ опознания всего действительно про-исходящего, то есть того, что действительно захватывает нас, в отличие от перемен во внешнем мире, к которым мы обычно относимся с полным равнодушием. Но пробуждение дает и знание бесконечности и, главное, неодолимости покоя сна – того, что никогда не есть, но вечно остается; что останется даже тогда, когда все пройдет. Вот почему Великое Пробуждение на самом деле удостоверяет присутствие Великого Сна – реальности извечно самоотсутствующей. Недаром «Книгу Перемен» было принято читать перед сном – несомненно, для активизации подсознания, приуготавливающей опыт духовного пробуждения.
Покой и реализация – этот удар-дар – вместе составляют природу события-времени как самопревращения, неуклонного уклонения. Нет необходимости разъяснять, что это событие воспроизводит известную нам структуру стратегического действия как взаимоперехода потенциала обстановки и решающего удара. Мир культуры вырастает из него посредством спонтанного укрупнения микровосприятий, так что в нем каждый образ имеет свой внутренний и притом зеркально противоположный прототип. Вот почему мудрый стратег в Китае способен предвосхищать и упреждать явления, оставаясь свободным от общего хода событий. Кроме того, просветление сознания – процесс последовательный и необратимый. Чжуан-цзы, пробудившийся от сна о бабочке и не отрекающийся от него, уже никогда не будет прежним Чжуан-цзы. Более того, он готов, по его собственным словам, быть «таким, каким еще не бывал», быть каким угодно. Но только «небывалый», даже «невозможный» человек в действительности «не может не быть». Этот неизбежный вывод из метафизики внутренней глубины «микроперемен» представлен в одном из афоризмов писателя-моралиста Хун Цзычэна (начало XVII века), где приводится древнее изречение: «Тот, кем я был раньше, уже не тот, кто я есмь сейчас. А тот, о ком никто не знает в настоящем, станет неведомо кем в будущем». И Хун Цзычэн добавляет от себя: «Тот, кто поймет смысл этих слов, развяжет все путы своей души».
Мы приходим к выводу о том, что время события есть на самом деле высшее испытание духовных сил человека. Оно представляет собой не предмет теоретического знания, а самый могучий импульс просветления сознания. Чуткое вживание в него воспитывает способность пользоваться временем, а в перспективе даже в известном смысле овладеть им. На эту возможность, кстати сказать, указывает М. Мерло-Понти. «Течение времени, – говорит он, – не есть простой факт. Я могу найти прибежище от него в нем самом... То, что называют пассивностью, не есть восприятие нами какой-то чуждой нам реальности: это наше вовлечение, наше бытие в ситуации, прежде которого мы не существуем, которое мы все время возобновляем и которое конститутивно по отношению к нам»[145]. Сходная оценка временности присуща и китайской мысли. Как замечает в своих толкованиях на «Книгу Перемен» Ван Би, «порядок того или иного времени можно осознать и использовать». В середине XVII века Ван Фучжи поясняет подробнее: он называет мудрейшими из людей тех, кто умеет «владеть временем», на второе место он ставит тех, кто способен «предвосхищать время», а на третье – умеющих действовать «в соответствии с обстоятельствами времени». Первое дает человеку власть над миром, последнее – способность «избежать несчастья».
Здесь мы открываем для себя стратегическое измерение времени, которое опять-таки имеет самое близкое отношение к духовному совершенствованию. В книге Чжуан-цзы можно встретить утверждение о том, что мудрый «сам устанавливает срок своего ухода из мира». Речь идет, несомненно, об овладении чистой временностью как «импульсом перемен» и конечностью существования. В даосской традиции опознание своего срока означало знание момента метаморфозы – в сущности, разрыва в данности опыта, – который является дверью в вечность и тем самым вводит в жизнь вечную в духе загадочного суждения Лао-цзы: «Мудрый, умирая, живет вечно».
Мы знаем, что способ владения временем, или безупречное чувство «временения временности», в китайской стратегии определялся как «действие наоборот» (фань). Именно это слово употребляет Ван Би в цитированном выше суждении. В другом месте Ван Би определяет это «возвратное действие» как «возвращение к сердцу Неба и Земли». Мы можем теперь определить точнее природу этой загадочной мудрости. Речь идет о на-следовании вечнодлящейся прерывности, которое позволяет нам «быть впереди Неба»: предвосхищать, упреждать действия окружающих, обладая лишь одним оружием, – полной открытостью миру просветленного духа. Как сказано в «Книге Перемен», «польза времени опасности – самая большая». Опасность здесь полезна именно потому, что она побуждает «возвратиться к истоку» и тем самым – уберечь себя навек. Поэтому в отличие от европейской феноменологии экзистенциального времени, ставящей акцент на конечности (смертности) человека, китайское учение о наследовании несотворенной самоизменчивости утверждает преемственность духовного опыта в круговороте жизни и смерти. Этот круговорот Великого Пути предстает, как уже говорилось, вечнодлящейся прерывностью, неизмеримо тонкой щелью бытия, в которой незапамятное прошлое уже неотличимо от невообразимого будущего. Постигнуть Путь, согласно Чжуан-цзы, означает «становиться таким, каким еще не бывал», и в то же время «обрести свое первородство». Открываясь неизведанной будущности, мы возвращаемся к истоку своего существования. Таким образом, мы идем путем, обратным эволюционному движению мира и жизни. Таков смысл несколько загадочной сентенции древнего комментария к «Книге Перемен», которая гласит: «Кто знает прошлое, движется поступательно. Кто знает грядущее, движется наоборот. Вот почему “Перемены” – это знание обратного движения».
В «Книге Перемен» путь постижения времени как абсолютной временности выражен в формуле «идти вспять к истоку, возвращаться к концу». Комментаторы толкуют эту фразу как наставление постигать конец, возвращаясь к началу, и прозревать начало в познании конца. Речь идет, несомненно, о познании преемственности в круговороте бытия, которая в конечном итоге предстает первичной самоаффектацией бытия. На языке китайской традиции это называлось «познать матерь, чтобы узнать ее детей». Концы и начала всего даны именно «здесь и сейчас», что, однако, не является статической данностью. Ван Фучжи разъясняет:
«Начало Неба и Земли дано сегодня. Конец Неба и Земли дан сегодня. Но их начала и конца люди не видят. Не видя их, люди полагают, что начало было в какой-то непостижимо далекой древности, а в каком-то отдаленном будущем наступит конец всех вещей. Как они невежественны! Досконально вникнув в истину, можно постичь судьбу и познать неисчерпаемую правду круговорота. Тогда можно понять смысл жизни и смерти и побороть волнения».
Реальность – это только настоятельное в настоящем. «Книга Перемен», как вся китайская мудрость, учит не изощренному умствованию или пустым мечтаниям, а умению жить «текущим моментом», что значит: неизмеримо превосходить тесные рамки «наличных обстоятельств». Эта мудрость есть не что иное, как «встреча» с бездной времени. Но эта бездна не имеет глубины.
Менеджмент от Хаоса
Теперь, дойдя до конца книги, попробуем дать общее имя той реальности, с которой имеет дело китайское миропонимание вообще и китайская практика организации, управления и стратегии, в частности. Эта реальность обычно именуется по-русски хаосом (китайское название: хунь тунь). Такое имя условно сразу в двух смыслах: относительном и абсолютном. Оно относительно условно потому, что нам еще предстоит уточнить значение понятие хаоса в китайской мысли. И абсолютно условно потому, что хаос, воплощающий чистую текучесть бытия, принципиально не поддается определению. Хаос, вообще говоря, не может быть, но именно поэтому он не может не быть. Тема хаоса в последнее время широко обсуждается в самых разных областях естественных наук – от физики и математики до биологии и общей теории систем. Здесь нет необходимости рассматривать эти дискуссии. Достаточно сказать, что к настоящему времени в науке прочно укоренилось мнение о том, что хаос является необходимой предпосылкой как физического мира, так и самой жизни и, главное, природной эволюции. Здесь, правда, нужно оговориться, что речь идет не об антитезе всякому порядку и ценности, – то, что греки называли «мрачный тартар», а в более поздние времена часто именовалось небытием, – а именно о совокупности всех возможных порядков, не поддающейся упорядочиванию. В этом смысле хаос – условие всякого порядка и важная часть теории так называемых сложных систем, которые нельзя свести к тем или иным формальным правилам.
В этом последнем смысле понятие хаоса отнюдь не чуждо и современным представлениям об организации и менеджменте. Одно из самых популярных пособий в этой области призывает как раз «набираться сил от хаоса», то есть уметь использовать с неизбежностью присущий любой организации и деятельности элемент неопределенности, противоречия и двусмысленности[146]. Вспомним, что глава преуспевающей компании «Силикон Графикс» Эдвард Маккракен называет секретом успеха в бизнесе умение не просто приспосабливаться к хаосу, но самому творить его. Надо признать, впрочем, что подобные призывы в большинстве случаев – это лишь более или менее талантливые обобщения практического опыта, апеллирующие, в сущности, к здравому смыслу. Их назначение состоит в том, чтобы поощрять читателя – а таковым, как правило, является профессиональный менеджер – к выработке нового, свежего взгляда на свою работу. Каждый из своего повседневного опыта знает, что кипение творческих сил и ни с чем не сравнимая радость свободного и искреннего «общения душ» так или иначе предполагают беспорядок и неожиданность, тонкое чувство уникальности каждой личности и своеобразия того или иного момента времени. Но такая «интуиция хаоса», как бы ни была она полезна и приятна в жизни, сама по себе не может дать систематического понимания управленческой деятельности и таких важнейших ее категорий, как риск, случайность, успех и т.п.
Неудивительно, что многие специалисты по менеджменту предостерегают от излишнего увлечения хаосом в управлении и корпоративной культуре. «Опыт истории, – пишет один из них, – подсказывает, что от хаоса нужно держаться на приличном расстоянии. В условиях соперничества и неравенства люди стремятся поддержать некий уровень порядка в человеческих отношениях и стараются сохранить чувство порядка в своих отношениях с миром. Трудовые организации тоже принимают в этом участие и подвержены хаосу не меньше любой другой части человеческого общества»[147].
Сторонники учета «хаотического» элемента в управлении обычно указывают на то, что любая организация имеет как формальный, так и неформальный аспекты. К первому относятся общие принципы организации и регламенты ее деятельности, официальная стратегия и т.п., ко второму – неформальные связи членов корпорации, уровень взаимного доверия, потребности в личной защищенности и проч. Именно этот неформальный аспект корпорации имели в виду китайские теоретики управления, когда говорили, что жизнеспособный коллектив имеет «одно сердце». Ритуал как условие сплочения людей тоже относится к неформальной системе. Не следует, однако, забывать, что организациям, как и любому организму, свойственно сохранять и по возможности укреплять свой внутренний порядок, свой «устойчивый архетип». Но этот архетип претворяется во времени, он есть постоянство в изменениях, что, как мы знаем, точно соответствует китайскому представлению о реальности. В теории систем мы как раз находим соответствие такой идее реальности в понятии хаоса, или «странного аттрактора», то есть парадоксального архетипа, который отличается устойчивыми границами и формой и полной нестабильностью, непредсказуемостью его проявлений[148].
Большинство западных авторов отмечают, что для любой организации наиболее плодотворно находиться в состоянии «ограниченной нестабильности» или, по-другому, пребывать на «краю хаоса». Согласно одному определению, речь идет о «сложном поведении, одновременно устойчивом и неустойчивом, когда связи между причинами и следствиями по практическим соображениям исчезают и, следовательно, невозможно предсказать конкретные результаты»[149]. Действие Хаоса проявляется в так называемых «рассеивающих структурах», в дифференциации и моментах бифуркации систем, что опять-таки заставляет вспомнить китайское представление о творчестве как акте «рассеивания» и о фигуре даосского властителя, воплощающего взрывчатую силу бытия и оттого внушающего священный ужас своим подданным.
С этой точки зрения Хаос может проявляться в дестабилизирующих переменах, ведущих к переформатированию всей организации, в разного рода неформальных практиках или так называемых «творческих конфликтах». Следовало бы говорить в таком случае не столько о хаосе как таковом, сколько о преемственности хаоса и космоса (то есть упорядоченного мира), о своего роде хаосмосе. В частности, это понятие Ж. Делёз употребляет для обозначения мира множественности без объединяющего субъекта, который предполагает соположенность несопоставимых перспектив созерцания, разъединяющее утверждение всех моментов существования.
Со своей стороны, американский теоретик менеджмента Д. Хок создал неологизм «Chaordic Leadership», где в первом слове соединены понятия «хаос» (chaos) и «порядок» (order), что по-русски соответствовало бы слову «хапор». Согласно Д. Хоку, «хапор» означает «самоорганизующиеся, самоуправляемые, изменчивые, нелинеарные, сложные организмы, организации, сообщества или системы»[150].
Идеи «хаосмоса» или «хаотического порядка», как легко видеть, близки китайскому представлению о «бытии самом по себе». При этом хаотическое начало всегда предстает воплощением спонтанности и сопутствующего ей творчества. Теоретически и отчасти практическими опытами установлено, что предельно сложные системы обладают способностью к самоорганизации и спонтанному поддержанию динамического равновесия, что дает основания поставить пределы авторитарному правлению. Вместе с тем чрезмерная «хаотизация» системы, выражающаяся в необычайном разнообразии взаимосвязей внутри нее, делает систему слишком изменчивой, гиперактивной и фактически размывает ее.
Для управления организацией «на краю хаоса» требуется не просто формальное знание, но то, что принято называть мудростью, то есть умение «соответствовать обстоятельствам», понимать «текущий момент», другими словами – находиться в дифференциальной связи с отдельными факторами развития ситуации. Мудрость, в отличие от теоретического знания, целиком принадлежит времени; подобно плоду, она во времени рождается и созревает.
Китайская традиция предлагает в своем роде систематический взгляд на такой смутный и ускользающий предмет, как хаос в мире и человеческой деятельности. Мы уже легко можем догадаться, что в китайской мысли понятие хаоса естественно сопутствовало истолкованию реальности как события – всегда единичного, даже уникального и поэтому не допускающего общей меры. Но природа события, как мы выяснили выше, есть со-бытийность или, еще точнее, неизмеримый разрыв, пустотное средоточие-среда в истоке жизненного опыта как чистого динамизма превращения. Хаос никогда не равен себе, не имеет ни формы, ни идеи, ни субстанции, ни сущности. Он представляет, конечно, предел неопределенности, но неопределенности творческой, чреватой всеми возможностями жизни. Эта безграничная мощь хаоса может и должна быть использована в политике. Большая сила и правда заключены в лозунге Мао Цзэдуна: «Велика смута в Поднебесной. Положение благоприятное!» Оставляя в стороне бесплодные и фиктивные расчеты эффективности, мы можем сказать, что действие может быть успешным только тогда, когда возникает разрыв между исчерпавшей себя ситуацией и ситуацией назревающей, когда время становится Кайросом, «импульсом перемен» – моментом резкой смены нашего видения мира, моментом создания нового мира. В этом смысле хаос становится синонимом творческого начала мироздания.
В древнекитайской философской литературе классический пассаж о Хаосе содержится все в той же книге «Чжуан-цзы». В конце седьмой главы этого даосского канона помещен следующий сюжет:
«Владыкой Южного Океана был Спешащий, владыкой Северного Океана был Торопливый, а владыкой Середины Земли был Хаос. Быстрый и Стремительный время от времени встречались на земле Хаоса, а тот принимал их с необыкновенным радушием. Быстрый и Стремительный захотели отблагодарить Хаос за его доброту. – Все люди имеют семь отверстий, благодаря которым они слышат, видят, едят и дышат, – сказали они. – Только у нашего Хаоса нет ни одного. Давайте продолбим их в нем! Каждый день они стали проделывать по одному отверстию, а на седьмой день Хаос умер».
В этом странном рассказе нашли отражение едва ли не все основные темы китайского учения о мире и бытии. Хаос, пребывающий «в центре» мироздания (соответствующем стихии Земли), есть условие существования всех вещей: недаром «на его земле» встречаются олицетворения мировых стихий. Принимает же их хозяин с «необыкновенным радушием» (букв. «высшей добротой»), благодаря которому воцаряется вселенское согласие: Юг в китайской космологии соответствует стихии Огня, Север – стихии Воды, а их встреча в центре, то есть в стихии Земли, считалась в даосской традиции главным условием зарождения в теле подвижника Дао так называемого «золотого эликсира» – вечноживого эмбриона. Однако Хаос воплощает качественно иной, более высокий порядок бытия по сравнению с физическим космосом, отчего владыки мировых океанов не могут его понять и, как можно догадаться, оценить по достоинству его доброту, что значило бы оставить Хаос в покое. Ибо Хаос воплощает абсолютно внутреннее, высшую полноту и самодостаточность, тогда как проделывание дырок в нем соответствует проецированию на Хаос человеческих понятий, попытку переделать его по образу и подобию человека. Ограниченность правителей Севера и Юга заключается как раз в том, что они хотят, как принято среди людей, отблагодарить хозяина за милость. Однако очеловечивание Хаоса равнозначно его гибели. Древнейший комментатор «Чжуан-цзы» Го Сян так и говорит: «Нарочитое делание губительно». До некоторой степени китайское предание о Хаосе составляет интересную антитезу библейской легенде о сотворении человека за одним важным исключением: смерть Хаоса, превращенного в человека, означает не преднамеренное убийство (ср. убийство Авеля или даже убийство Бога у Ницше), а забвение истоков бытия в мире гуманитарного знания. Человеческие понятия и сама предметная практика людей есть не что иное, как отрицание, хотя и непроизвольное, первозданной цельности мира-хаоса. Как заметил один из китайских комментаторов рассказа о Хаосе, «с древних времен не было ни одного человека, который не проделывал бы дырки в Хаосе».
Из этого рассказа можно заключить, что очеловечивание Хаоса – процесс неизбежный и даже естественный. Другое дело, что мудрость Великого Пути заключается, собственно, в знании до-человеческих, «хаотических» корней знания, и сама реальность, в китайском представлении, есть не что иное, как Хаосмос, преемственность хаоса и космоса. В средневековой литературе, причем не только даосской, венцом познания часто называется способность «сердцем укорениться в Хаосе». Как нам уже известно, познание в китайской традиции требует духовного совершенствования, соответствует утончению и просветлению духовной чувствительности вплоть до опознания абсолютного мрака вездесущей предельности существования, то есть выведения на свет открытости бытия мирского праха. А применительно к теории систем это означало бы создание открытой, способной к творческому обновлению организации.
Как бы там ни было, Хаос на самом деле доступен внутренней интуиции «семян» или «импульсов» самой жизни в состоянии полного покоя духа, позволяющего отвлечься от данных чувственного восприятия и умозрения. Например, в традиционных комплексах нормативных движений начальная поза символизировала как раз состояние хаотического всеединства, или Беспредельного. В позднейшей литературе, причем не только даосской, венцом познания часто называется способность «сердцем укорениться в Хаосе». Как говорит в своих комментариях к приведенному сюжету Ван Фучжи, «Хаос существует постоянно в способности соответствовать вещам и не умирает. Не нужно ни просвещать народ, ни оглуплять его». Хаос потому и не противится своему погублению, что, как сам Путь, не отличается по существу от человеческой деятельности. Как говорит другой комментатор, «каждый человек носит в себе Хаос». Хаос сам есть предел «на-следования Иному». Действия недальновидных владык Севера и Юга, проделывающих дырки в Хаосе, заставляют вспомнить притчу о «флейте Неба», где пустота отверстий в сделанной человеком флейте едина с пустотой земных каверн и пустотой самого неба.
Состояние Хаоса есть не что иное, как действие «импульса времени», который представляет собой, как нам уже известно, не-двойственность актуальных и виртуальных качеств бытия. Оно в высшей степени неопределенно именно потому, что это действие занимает время более короткое, чем самый короткий из доступных восприятию отрезков времени. В нем все проходит прежде, чем обретет зримый образ, и этим не-мыслимым потоком происходящего хранится бездна бытия, непреходящее Неизбывное.
Неформализуемое присутствие Хаоса дает о себе знать в известной нелюбви китайцев к теоретическим определениям, каковые подменяются перечнями прецедентов, наделяемых значимостью символического типа. Именно так составлены старинные китайские энциклопедии, где вместо описаний читателю предъявляются примеры употребления данного термина авторами предшествующих эпох, нередко совершенно случайные. Мы имеем дело с классификацией скорее музейного и археологического свойства, то есть такой, которая основана на побочных признаках. Так, древние сосуды принято классифицировать по их отдельно взятым и притом чисто формальным особенностям конструкции или декора. В этом смысле культура тоже есть образ Хаоса, но только хаоса эстетически свободной жизни, пропущенной сквозь фильтры пробудившегося, укорененного в нравственном усилии сознания. Хаос первозданный, несотворенный, и вторичный Хаос подобны окультуренной жизни не по аналогии, а так, как только и может быть подобен никогда не равный себе, вечнотекучий, не имеющей формы хаос: они едины по своему пределу, в акте самопреодоления. Что же касается тех, кто привязан к предметности знания, то им встреча с Хаосом, как мы знаем из рассказа об учителе Ху-цзы и посещавшем его физиогномисте, несет переживание невыносимого, первобытного ужаса. Но так бывает лишь в редкие моменты переживания внутреннего откровения самой жизни. На поверхности же бесформенный и анонимный Хаос, который неспособен отделиться от природных процессов и человеческой деятельности, предстает величием и многообразием жизни «как она есть». Никаких олицетворений и устрашающих аллегорий. Когда один средневековый художник захотел изобразить первозданный Хаос, он создал умилительную картину цветов и насекомых, а присутствие Хаоса обозначил кругом на пустом месте свитка, сопроводив его пояснительной надписью.
Китайской культуре можно с полным правом присвоить парадоксальное определение культуры хаоса. В ней человеческое творчество и творческая мощь природы (Небо) существуют наравне и преемствуют друг другу. Ее главный (не)принцип – спонтанное рассеивание (сань) знаков сообразно неодолимой (но вечно отсутствующей) мощи мировой гармонии. Мудрый мясник из притчи Чжуан-цзы разделывает быков, не затупляя ножа, потому что умеет следовать абсолютному ритму жизни и тем самым – давать ему волю. От правителя или стратега, воплотивших в себе это «сокровенное совершенство» бытия, веет ужасающей мощью творческого начала бытия, неостановимой «цепной реакции» духа, в которой все и вся «теряет» себя. В противоположность обыкновенным людям, которые собирают, то есть приводят в порядок и разграничивают, но теряют «внутреннее совершенство», человек Пути расточает, тем самым сберегая жизненную силу-дэ. Недаром в даосской литературе действие Пути уподобляется огню, бесконечно перекидывающемуся с одной вещи на другую. Но в этом акте расточения, самораспускания, утверждается величие – и, следовательно, вечность – жизни, проживаемой в ее возвышенных и интенсивных качествах.
Тайваньский ученый Оу Чунцзин говорит о существовании в китайской традиции особого рода «хаотического» или «подлинного» знания, которое противостоит инструментальному, предметному, объективному, гуманитарному знанию, которое составляет основу классической науки и техники, индивидуального и общественного самосознания[151]. Такова, в частности, оппозиция «большого» и «малого» знания у того же Чжуан-цзы. В оригинале она сформулирована в довольно туманных фразах: «Большое знание безмятежно-покойно. Малое знание ищет, к чему приложить себя» (последнее предложение в более буквальном переводе означает: «ищет для себя щели», «суетно», то есть стремится наполнить собою некое умозрительное пространство, «выдолбить дырку» и так задать себе некое предметное содержание). Однако нужно иметь в виду, что Хаос не противостоит человеческой практике и сопутствующее ему знание не исключает «малое» знание.
По-видимому, как раз в таком смысле Хаос поминается в другом рассказе из книги «Чжуан-цзы». В нем говорится о некоем крестьянине, который поливал свой огород, нося воду ведрами, вместо того чтобы пользоваться водоподъемным колесом. Старик объяснил ученику Конфуция свое нежелание пользоваться плодами технического прогресса так: «У того, кто пользуется механизмами, сердце тоже становится механическим». Когда Конфуцию рассказали про странного старика, он заметил, что этому огороднику «ведомо искусство Хаоса» и ему, Конфуцию, с ним не сравниться, но все-таки старик «знает одно и не знает другого». Большинство комментаторов согласны в том, что знаток «искусства Хаоса» тоже не свободен от некоторой ограниченности, поскольку не понимает возможности сосуществования знания «хаотического», то есть бытийственного и совершенно самодостаточного, и знания «технического», ориентированного на эффективность.
Теперь в порядке предварительного вывода отметим основные свойства Хаоса как познавательной парадигмы:
Первое. Хаос воплощает первозданную цельность опыта и самого бытия. Он пропадает там, где в нашем опытном мире появляются «ниши» предметного знания, что означает, по сути, нанесение ущерба бытию.
Второе. Хаос соответствует неисчерпаемой конкретности существования и, следовательно, силе творческих метаморфоз жизни, моменту (само)превращения, времени события. В этом смысле он является принципом творчества и практики как чистой текучести, неотделимой от динамизма жизни, воплощением бесконечной изменчивости, уступчивости, «самопотери» всех форм.
Третье. Хаос включает в себя бесконечное множество частных порядков бытия и в этом смысле является условием внутренней устойчивости, состояния динамического равновесия сложных систем. Он воплощает абсолютный покой в самом пределе мирового движения.
Четвертое. Хаос есть (не)принцип неопределенности, бытия как бесконечной множественности. Он превосходит все нормы и закономерности и является средой не соположения и соподчинения, но чистой сообщительности как предела всякого сообщения. Оставаясь для всех безвестным, он тем не менее интимно внятен каждому.
Пятое. Хаос есть принцип «инако-действия» и «инако-мыслия» и, как воплощение инаковости, не имеет формальной идентичности, будучи реальностью абсолютно внутреннего и тем самым – возвращаясь к первому пункту – условием внутренней полноты бытия.
Мы уже знаем, где в человеческой практике локализуется Хаос, «великий и ужасный». Он таится как раз в собственной дис-локации, в своем неизбывном экс-центризме! Он пребывает в моменте собственного смещения, в неуловимом мгновении творческого события, всевременной временности превращения, нерукотворной трещине бытия, благодаря которой выявляются, как образы в зеркале и тени на стене, все вещи в мире. Хаос в китайском понимании есть именно Альфа и Омега всего сущего, условие и среда всякого существования, которые сами не поддаются тематизации, не могут быть объективированы, предстают как среда-средоточие, вечная между-бытность, нескончаемое интермеццо, антракт, и потому выглядит (а точнее, незаметен) на поверхности жизни как безмятежный покой, «праздность», нечто остающееся «за кадром», нечто такое, что никогда «не есть», но вовеки остается. Всегда находясь за гранью воспринимаемого и мыслимого мира, Хаос принадлежит области предельно малых и предельно больших величин, одновременно микро– и мега-реальности. В китайской традиции это называлось: «быть настолько маленьким, чтобы ничего не иметь внутри себя, и настолько большим, чтобы ничего не иметь вовне себя». Такова природа «великого единства» (то есть «не-единства») Хаоса. Это единство имел в виду Конфуций, когда произносил свои знаменитые слова о «единой нити», которая пронизывает все его суждения.
Вот конкретный пример. Известный мастер боевых искусств, глава школы Багуачжан Ли Цзымин в записках, предназначенных только для учеников его школы, наставлял их:
«Кулачное искусство есть в своей основе превращение Единой Энергии (и ци). Сущность его столь обширна, что не имеет ничего вовне себя, и столь утонченна, что не имеет ничего внутри себя. Она простирается за пределы мироздания и пребывает в глубине нас самих. Не восприняв сердцем то, что передается изустно, трудно ее постичь».
В суждении Ли Цзымина хорошо видны основные измерения рассеянного тела хаотического всеединства: сначала самоизменчивое Единое, затем несчислимо малая дистанция, не-различение предельно большого и предельно малого, далее вечноотсутствующая преемственность внутреннего и внешнего, предельной конкретности переживания и вечности свершения времен и, наконец, сопряжение потока речи и внутренней определенности смысла. Акцент на устном обучении указывает на первостепенное значение интимного восприятия Хаоса в телесном опыте и посредством него. А текучий и аффективный характер устной речи воспроизводит самообновляющуюся и исключительно конкретную природу самого Хаоса. «Одна нить» бытия может переживаться только как череда моментов существования, пульсация жизни, отмеченная печатью одной и той же индивидуальности. К Хаосу можно только вернуться, и он сам возобновляет свое (отсутствующее) присутствие в мире с каждым новым событием внутреннего превращения.
Традиционное китайское искусство и, более того, глубоко укоренившиеся, ставшие почти инстинктом эстетические вкусы и привычки китайцев каждым своим проявлением, каждой черточкой свидетельствуют о присутствии этой хаотической праосновы опыта – неуловимой и все же вездесущей. Благодаря этому присутствию законом художественной формы в Китае является его само-потеря, рассеивание в пространственно-временном континууме, выдвигающее на первый план актуальное переживание, его уникальную качественную определенность. Взаимопроникновение мгновения и вечности – главный мотив эстетического идеала китайцев[152]. Оттого же само искусство воспринималось китайцами как продолжение жизни в ее возвышенных, интенсивно проживаемых и в своем роде случайных моментах – разительный контраст с мировоззрением соседей Китая японцев, для которых сама жизнь является продолжением искусства. Источник такого различия разглядеть нетрудно: японцы, как и европейцы, сначала «выводят» понятия, а затем проецируют их на действительность, тогда как китайцы неизменно руководствуются непосредственной конкретностью жизненного опыта.
Трактат по искусству устроения садов (XVII век) открывается изречением: «В деле создания садов не существует правил». Китайские мастера боевых искусств любят поминать поговорку: «В кулачном искусстве, по сути, нет правил». И это относится, в сущности, ко всем видам художественно-духовной практики в Китае. Ибо неопределенность есть непременное условие творчества и, между прочим, эффективности стратегии. Напротив: все устоявшееся, проявившееся, застывшее никогда не принесет успеха. Кроме того, неопределенность заставляет с особенной ясностью ощутить силу интимной, «сердечной» коммуникации между людьми. Японцы даже сознательно культивируют неопределенность в отношениях, в том числе и средствами языка, церемонно-вежливые формы которого кажутся европейцам чересчур невнятными и двусмысленными. Китайцы неопределенность не культивируют. Они просто дают ей быть.
Итак, Хаос не есть какая-то отвлеченная и мистическая величина, пригодная только для метафизических построений. Он есть реальность всецело жизненная и практическая. Как фактор неопределенности он подспудно и даже явно определяет, например, характер китайской стратегии. Как сказано в военном каноне «Сунь-цзы», «порядок проистекает из беспорядка». Это высказывание следует понимать в двух смыслах: во-первых, как будто бы беспорядочное, непредсказуемое применение «регулярных» и «нерегулярных» боевых маневров лишает противника способности правильно оценивать соотношение сил и перспективы развития ситуации; во-вторых, любая видимая форма войны хранит в себе хаотическое разнообразие деталей обстановки и потенциала ее развития. В этом смысле «чувство Хаоса», которое есть одновременно способность к сообщительности и, следовательно, чувствованию импульсов действий противника, является главным залогом победы.
Иллюстрацией образа действий, заданного Хаосом, служит и известная нам «тактика Чаншаньской змеи»: корпорация как бы отсутствует, «теряет себя» в точке нападения извне, но, обладая неким скрытым, неформальным единством, всегда способна нанести удар с противоположной стороны. Это правило, надо сказать, составляет закон существования столь популярных в мире китайского бизнеса корпораций сетевого типа, единство которых удостоверяется отсутствием формальной консолидации. Это качество сетевых общностей идеально соответствует даосской концепции управления, предполагающей забвение или, точнее, постоянное взаимное забывание своей идентичности и правителем, и народом. Речь идет, подчеркнем, именно о совмещении двух режимов существования или, как мы выяснили выше, двух видов знания – инструментального и бытийственного. О таком совмещении свидетельствует изречение из средневекового даосского трактата «Гуань Инь-цзы»:
«В том, что мудрый говорит, думает и делает, он не отличается от обыкновенных людей. А в том, что мудрый не говорит, не думает и не делает, он отличается от обыкновенных людей».
Итак, Хаос охватывает и проницает весь жизненный уклад китайцев, так что его значимость определяется как раз тем, что он остается недоступным для любого взгляда, любой формы умо-зрения. Из этого вовсе не следует, что Хаос отодвинут в какую-то недоступную даль смутных мечтаний и умственных абстракций. Как раз наоборот: он присутствует в самой гуще китайского быта и порой в самом что ни на есть конкретном и осязаемом виде. К примеру, «хаосом» именуются в Южном Китае особые суповые пельмени, которые принято есть на Новый год – начало и конец годового цикла. Помимо же этого курьезного случая Хаос заявляет о себе в самых фундаментальных чертах китайского поведения и мышления: нелюбви к теоретизированию и стремлении воспользоваться благоприятным случаем, в глубоко укорененной, почти слитой с инстинктом потребности в личном совершенствовании и стремлении – одновременно естественном и культивированном – жить сообщительностью с другими, что как раз и предполагает способность «забывать себя и мир».
Подтверждения сказанному можно найти уже в простейших социологических показателях. Отчего, например, в книге «Мудрость азиатского бизнеса», одной из немногих появившихся на Западе книг об азиатских предпринимателях, в разделе «Философия менеджмента» из семи представленных там лиц нет ни одного китайца, зато в разделе «Менеджмент в трудные времена» все четыре показательных по этой части бизнесмена – китайцы? Не напрашивается ли здесь вывод о том, что китайцы, вообще говоря, – не любители отвлеченного философствования, зато сполна проявляют свои достоинства именно в периоды кризиса, требующие одновременно осторожности и новаторского подхода к делу?
Вот конкретный пример: тайваньская компания Acer Group, один из крупнейших в мире производителей портативных компьютеров. Главный принцип ее стратегии – сочетание глобального стандарта качества с максимально широкой автономией ее местных филиалов (руководство компании берет за образец мировые сети ресторанов быстрого питания вроде Макдоналдса). Основные части компьютеров – материнские платы, экраны на жидких кристаллах и проч. – производятся на головных предприятиях компании на Тайване, тогда как менее важные детали изготавливаются на местах. Продукция классифицируется по степени ее подверженности порче. Отдельные звенья производственной цепи связаны напрямую отношениями «заказчика» и «поставщика», причем одно и то же предприятие может выступить в обеих ролях. Цель руководства компании – создание «глобальной федерации компаний». К владению акциями предприятий компаний активно привлекается местный капитал, всеми способами поощряется инициатива низовых уровней работников и децентрализация управления. Ставка делается на то, что успех каждого регионального представителя этой «федерации» будет работать на ее глобальный бренд[153].
Еще один пример: стиль менеджмента гонконгского предпринимателя Чжун Бояна, совладельца известной службы экспресс-почты DHL Чжун называет себя последователем даосизма и в своей компании стремится свести администрирование к минимуму. Главным принципом управления для не го является децентрализация: принятие решений доверено служащим местных отделений компании. Второй принцип, тесно соотносящийся с первым, – стратегическое планирование на всех уровнях менеджмента, Третьей важной особенностью делового стиля своей компании Чжун считает поддержание в ней «семейной атмосферы». Менеджер, заявляет Чжун, должен превратить свою жизнь в «процесс умственного и эмоционального перепроектирования», с тем чтобы жить счастливее и плодотворнее[154].
Последнее и менее всего заметное (но далеко не последнее по важности) свидетельство присутствия Хаоса в жизни китайцев заключено как раз в их способности спокойно, без уныния и тем более истерики переносить превратности судьбы. Именно невозможная перспектива созерцания вещей «в свете Хаоса» и вносимая им в мир символическая дистанция недвойственности образа и реальности не позволяет в китайском миропонимании подчинить материальную действительность идеальной схеме или наоборот. Мудрец в Китае безмятежен потому, что для него все в мире только «как будто» существует: «он стоит как стоит, идет как идет». Его жизнь неотличима от игры, а игра для него подобна жизни. Ну а бизнес для него разумеется, не отделен ни от того, ни от другого.
Вот здесь нужно искать корни того отсутствия страха перед жизненными тяготами и даже какого-то целомудренно-скрытного пристрастия к ним которые сами китайцы – наверное, не без основания – считают главным достоинством своего характера и залогом неисчерпаемой жизненной силы китайского народа. Китайский бизнес являет собой лишь более или менее рафинированное воплощение этой вековой мудрости.
Вместо заключения.
Черты современного предпринимательства
1. Корпоративная культура в тайваньском бизнесе: группа «Аврора»[155]
«Аврора» (Чжэньдань) — один из самых крупных промышленно-финансовых холдингов на Тайване. Компания была основана в 1960-х годах Чэнь Юнтаем, который начинал с лоточной торговли, отдавая все свободное время чтению книг и самообразованию (как уже говорилось, по-своему типичный случай для китайской бизнес-элиты). Впоследствии Чэнь окончил экономический факультет университета. Выбор названия для компании предопределен, конечно, его благозвучием, хотя, весьма возможно, определенную роль сыграло и то обстоятельство, что в иностранных справочниках ему суждено стоять в самом начале всего списка. (Именно это обстоятельство, кстати сказать, было решающим при выборе названия компании Acer (лат. «одухотворенный» ) – одного из крупнейших мировых производителей компьютеров.) Характерный штрих китайского менталитета.
В настоящее время «Аврора» включает в себя более десяти специализированных производственных и торговых компаний, в основном имеющих отношение к электронике и офисному оборудованию. Часть из них специально занимается сбытом отдельных видов тайваньской продукции за рубежом.
Деловой стиль компании во многом типичен для китайского бизнеса: «Аврора» отличается гибкой и динамичной организационной структурой, первостепенное значение придается эффективной организации независимо от продукции и характера деятельности того или иного подразделения, при неудовлетворительных результатах работы немедленно принимаются меры для устранения ошибок в управлении. Руководство компании уделяет внимание карьерному росту отличившихся работников. Например, в 1988 году Чэнь Юнтай поставил на свое место человека, поднявшегося из рядовых агентов по продаже (правда, через четыре года тот был вынужден оставить пост по состоянию здоровья, и Чэнь вернулся к руководству компанией).
«Аврора» неоднократно удостаивалась правительственных наград за достижения в менеджменте. Ее руководители проявляют большую заботу об общественной репутации своей фирмы. Компания владеет одним из самых больших и престижных деловых зданий в Тайбэе, учредила собственный Культурный фонд и даже имеет собственный музей (сам Чэнь Юнтай с молодости был страстным любителем китайского антиквариата). С 1971 года для ее сотрудников издается специальный ежемесячный журнал, выходящий с безупречной регулярностью.
Основатель «Авроры» полагает, что конечная цель свободного предпринимательства заключается в «удовлетворении человеческой потребности в самореализации и повышении благосостояния общества и всего человечества». Что же касается руководителя компании, то он должен прежде всего стремиться к тому, чтобы «служащие были преданы общему своду ценностей и имели хорошие возможности улучшить свое положение в организации». Общие ценности работников компании, сформулированные ее основателем, таковы (случайно или нет, их число равно 16 – ровно столько же пунктов насчитывал моральный кодекс, установленный императорами для просвещения народа в старом Китае):
1. открытая и честная кадровая политика;
2. внимание к личным качествам служащих;
3. обязательность взаимного доверия;
4. строгое соблюдение правил, деловых процедур и уважение к закону;
5. диверсификация деятельности при сохранении основного профиля работы;
6. акцент на жизненности и расширении корпорации;
7. развитие духа предпринимательства;
8. сохранение простой организационной структуры и строгая дисциплина;
9. открытое и честное обсуждение проблем;
10. стремление к результативности и высокое качество работы;
11. бодрость духа и сильная воля;
12. лучшее обслуживание и репутация лидера рынка;
13. внимание к личному образованию и совершенствованию;
14. поддержание безупречной репутации компании и работа на благо общества;
15. уважение к коллегам по профессии и честная конкуренция;
16. развитие международного сотрудничества на основе взаимности.
Одно из важнейших правил внутреннего распорядка «Авроры» – поощрение талантливых и эффективно работающих сотрудников. Считается, что если работник способен вести отдельный проект, приносящий пользу компании, то он как бы владеет собственным делом, используя средства корпорации. В таком случае работник может основать дочернее предприятие компании.
Основатель «Авроры» любит повторять, что моральное удовлетворение от работы стимулирует творчество, которое лежит в основе всякой успешной деятельности. Он выражает надежду на то, что каждый работник его корпорации будет стремиться стать «героем предпринимательства» и в полной мере осознавать социальную ответственность бизнеса.
Руководство «Авроры» пропагандирует мысль о том, что успеха в большом бизнесе нельзя добиться только за счет формального менеджмента и эффективной организации. Непременное условие успеха – мотивация самих работников и наличие у них возможности творческого применения своих способностей. Еще в 1970-е годы, когда говорить на местном (фуцзяньском) диалекте в публичных местах еще считалось на Тайване предосудительным, руководители компании не препятствовали подчиненным изъясняться на службе на их родном наречии. Общекорпоративная философия ставится прежде самой деятельности. Ее уподобляют почве, которая питает корни деловых планов, приносящих материальные плоды экономической эффективности.
Первоначально философия бизнеса в «Авроре» сводилась к трем вполне традиционным принципам: «преданность, честность, доверие». С 1971 года эти принципы были дополнены собственно экономическим постулатом: производить продукцию лучшего качества при умеренных ценах и отличном сервисном обслуживании.
С конца 1970-х, после того как «Аврора» обрела прочную экономическую основу, руководство компании стало обращать больше внимания на социальную ответственность бизнеса и общественное лицо своей корпорации. А в начале 1980-х годов Чэнь сформулировал новую программу развития компании, согласно которой ограниченные личные ресурсы работников корпорации должны служить потенциально неисчерпаемому развитию их общего бизнеса. С тех пор девизом «Авроры» стал «постоянный рост бизнеса», который был дополнен «принципом трех удовольствий»: «удовлетворение клиентов, удовлетворение служащих и удовлетворенность достижениями бизнеса».
В целом корпоративная философия «Авроры» представляет собой оригинальное сочетание традиционных китайских ценностей с принципами современного менеджмента. Это сочетание отличается большой гибкостью и может легко видоизменяться под воздействием тех или иных обстоятельств. Помимо корпоративного журнала, регулярных семинаров, туристических поездок, спортивных соревнований для служащих и других средств укрепления корпоративной солидарности в компании осуществляется специальная программа «корпоративного героизма», в рамках которой личные качества отдельных заслуженных работников чествуются как отличительная черта всего подразделения. Вместе с тем поощряется конкуренция, соревнование между сотрудниками отдельных звеньев корпорации. Любое, даже незначительное, достижение каждого из них не остается незамеченным и тотчас приносит свои плоды в виде денежных премий или служебного повышения.
2. Предприниматель-традиционалист: Фрэнк Цзао, Гонконг[156]
Фрэнк Цзао переехал в Гонконг из Шанхая в 1959 году еще молодым человеком. В первые же дни пребывания в Гонконге у него состоялся один памятный разговор. Идя в компании старшего родственника вдоль причала, он увидел пришвартовавшийся к нему огромный корабль и воскликнул: «Вот было бы здорово, если бы я был хозяином этого гигантского корабля!» Родственник посмотрел на него и сказал: «Не забывай поговорку: „Наши устремления должны достигать предела всех четырех морей. То, что находится за десять тысяч ли отсюда, близко, как соседний дом“. Ты должен ясно представлять себе, чего ты хочешь в жизни. Тогда ты будешь иметь силы достигнуть своей цели. Когда-нибудь и ты сможешь владеть таким кораблем».
Вдохновленный этим разговором, Фрэнк Цзао решил брать пример с одного удачливого в бизнесе друга его семьи. И еще он решил пойти по пути его предков и продолжить семейный бизнес своего отца. В 1977 году поступил учеником к отцу, владевшему крупной пароходной компанией, а спустя 18 лет сменил отца на его должности. Успешная передача дела по наследству, говорит он, должна быть соответствующим образом подготовлена. «Подготовка должна начаться с привития наследнику интереса к семейному бизнесу с раннего возраста и предоставления ему возможности видеть как удачные, так и неудачные начинания основателя». Когда же наследник хорошо подготовлен, его предшественник должен добровольно сложить с себя свои полномочия и довольствоваться ролью советника нового владельца.
Взгляды Фрэнка Цзао на теорию и практику менеджмента сложились под сильным влиянием того друга семейства, которому он решил подражать. Они выражены в своде из восьми моральных принципов, имеющих глубокие корни в традиционной китайской культуре. Вот эти принципы:
1. Познание (жэнь). Это понятие обозначает познание действительности благодаря учению и жизненному опыту. Для Фрэнка Цзао этот принцип означает владение всеми тонкостями своей профессии, а также обостренное чувство реальности при принятии решений и доскональное знание потребностей и психологии своих клиентов. Фрэнк Цзао, подобно подавляющему большинству своих коллег в мире китайского бизнеса, любит вспоминать изречение из военного канона «Сунь-цзы»: «Знай себя и знай противную сторону, тогда не будешь знать неудач».
2. Терпение (жэнь). Это одна из главных черт китайского национального характера, и потому нет ничего удивительного, что Фрэнк Цзао поставил ее на второе место в ряду достоинств делового человека. Хорошим примером терпения Фрэнк Цзао считает успешную борьбу своей компании против монополии на морские перевозки в этом регионе, которой изначально обладала английская компания. Эта борьба продолжалась два десятка лет.
3. Рачительность (инь). Этот принцип означает бережное расходование средств и ресурсов. Как гласит поговорка китайских торговцев, «без бережного обращения со средствами всякий доход растает; при бережном обращении со средствами даже маленький капитал принесет прибыль». Говоря о важности аккуратного ведения дел, Фрэнк Цзао вспоминает случай с одной большой норвежской мореходной компанией, которая в 1970-х годах, во время бума морских перевозок, резко увеличила свой флот, заняв большие средства, а через несколько лет, когда бум прошел, потерпела банкротство.
4. Человеческое отношение (жэнь). Имеется в виду уважительное отношение к своим служащим, которое поощряет их к добросовестному труду. Здесь Фрэнк Цзао следует традиционной китайской заповеди: «Используй людей так, чтобы их способности приносили наибольшую пользу». Опытные работники – залог успешного роста компании.
5. Тщательное планирование (шэнь). Значение этого принципа иллюстрируется старинной поговоркой: «Прежде чем действовать, думай три года». В работе мореходства, подчеркивает Фрэнк Цзао, осторожность в составлении планов особенно важна. Он ссылается на судьбу крупнотоннажных танкеров, на которые в начале 1970-х годов имелся большой спрос и которые их владельцы с огромными убытками были вынуждены продавать на металлолом после нефтяного кризиса. Те же компании, которые, подобно компании Цзао, сумели создать разнообразный по составу судов флот, благополучно пережили трудные времена.
6. Искренность (чэн). Этот принцип очень далек от европейского понятия искренности как личной откровенности, доверительности и конфиденциальности в отношениях. Он относится прежде всего к исполнению своего долга перед членами семьи и другими родственниками и к благочестию в его традиционном понимании, то есть учтивости, а также верности взятым обязательствам и своим моральным принципам, что предполагает и заботу о своих подчиненных.
7. Упорство (цинь). Для иллюстрации этого принципа Фрэнк Цзао ссылается на пример одной текстильной фабрики в Малайзии. Ее руководство, столкнувшись в середине 1970-х годов с неожиданными трудностями в области сбыта продукции, разослало по всей стране своих агентов для изучения рынка. На основании информации, по крупинкам собранной этими агентами, руководители предприятия перестроили производство, наладили выпуск новой продукции, и в итоге кризис был преодолен.
8. Бережливость (цзянь). Это одна из главных добродетелей в китайском обществе. Именно ей китайская история обязана десятками хрестоматийных историй об удачливых торговцах, которые покидали родной дом без гроша в кармане, а возвращались в него богачами. В бизнесе, утверждает Цзао, бережливость позволяет менеджеру быть готовым к внезапным переменам, случающимся на рынке.
Кроме того, Фрэнк Цзао выделяет пять главных качеств, необходимых менеджеру:
1. Мудрость, то есть способность правильно оценивать свои достоинства и недостатки и опираться на способных людей.
2. Доверие, то есть способность завоевать доверие и уважение подчиненных.
3. Человечность, то есть искренняя забота об окружающих.
4. Смелость, то есть способность принять смелое решение в трудной ситуации и взять на себя ответственность за риск.
5. Строгость, то есть безупречная внутренняя дисциплина и стремление быть образцом высокой нравственности для других. Руководитель, напоминает Цзао популярную максиму Конфуция, «наставляет людей собственным примером».
3. Деловые женщины Тайваня[157]
За последние несколько десятилетий тайваньские женщины добились поразительных успехов в борьбе за свои права. Помимо прочего, они заняли прочные позиции в деловом мире острова, а некоторые из них могут служить образцом успешной карьеры в бизнесе. По данным министерства экономики, численность женщин-предпринимательниц на острове достигла примерно 77 тысяч человек и продолжает расти. В 2002 году 15,8% владельцев предприятий были женщинами.
В мировом списке деятелей индустрии хайтека много женских имен – таких, например, как Карли Флорина, которая стала в 1998 году председателем правления и главным менеджером компании Хьюлетт-Пакард. На Тайване женщины тоже занимают руководящие должности во многих иностранных компаниях, работающих в области высоких технологий, – в том же ХП, Аксентуре, Интеле и Майкрософте. Управляющий директор ХП на Тайване Розмари Хэ отмечает, что выбор этими компаниями женщин в качестве менеджеров общегосударственного уровня отобразил их приверженность к разнообразию. «Одной из причин, по которым иностранные компании отдали предпочтение кандидатурам женщин, является то обстоятельство, что эти компании придают большое значение разнообразию форм управления, – говорит она. – К примеру, ХП поставила целью увеличить в этом году число менеджеров-женщин на 1%. Впрочем, здесь важен не процентный рост, а изменение менталитета». Отметим, что в тайваньском ХП соотношение женских и мужских служащих равняется 37:63, а на уровне менеджмента – 3:7.
Обследование 832 тайваньских компаний, проведенное в 2002 году другим местным журналом, «Ежемесячное всемирное обозрение», показал, что только в 13,4% компаний женщин работало больше, чем мужчин, и только 0,2% компаний имели больше женщин среди управляющих. А что касается отбора кандидатов на высокие должности среди пригодных для этого мужчин и сопоставимых с ними по квалификации женщин, то здесь, по данным этого обследования, 22,8% опрошенных отдали бы предпочтение мужчине, а 1,4% – женщине.
О своем опыте работы Розмари Хэ рассказывает так: «Различия проявляются в самом отношении к делу. „Стеклянный потолок“ всегда тут как тут, и не только для женщин, но и для других меньшинств. Важно, как вы используете свой статус представителя меньшинства. Если вы принадлежите к меньшинству, то это означает, что ваша работа привлекает больше внимания окружающих и у вас больше шансов, что вас заметят». По ее мнению, многие тайваньские женщины сознают свои возможности, но в большинстве своем не ставят перед собой далеко идущих целей. «Считай своей верхней планкой небо, – говорит она. – Поставь перед собой самую высокую цель и никогда не сдавайся». Впрочем, при всей своей преданности избранной профессии Хэ стремится совместить профессиональную карьеру с другими интересами. «Я практически каждый год меняю свое хобби: верховая езда, катание на коньках и доске, оперное пение – что хотите», – говорит она.
В свои тридцать с небольшим Чэнь Жуйлинь, президент компании Алоха, занимающейся пассажирскими перевозками, представляет в своем лице быстро растущий отряд деловых женщин, которые добиваются успеха в индустрии сервиса благодаря современному маркетингу, хорошему знанию рынка и могучему потенциалу предпринимательского духа. Компания Чэнь, основанная в конце 1999 года, быстро достигла процветания и сегодня обладает парком из 203 роскошных автобусов, курсирующих по всему острову, и штатом работников в тысячу человек. Таким образом, Алоха владеет половиной автобусного рынка Тайваня. По словам Чэнь, ее успех в области транспортных услуг, где традиционно правили бал мужчины, является результатом того, что она дает клиентам возможность выбора и выигрывает конкуренцию в сервисе. «В бизнесе я избрала стратегию дифференциации, – говорит она. – Предлагая что-то особенное, мы научились извлекать из этого преимущество» .