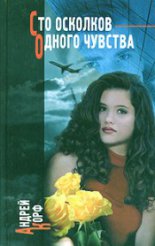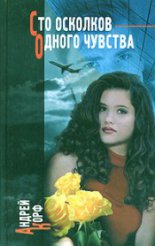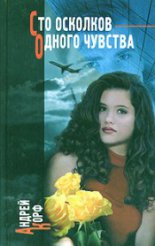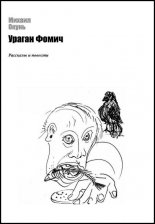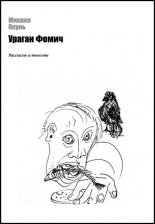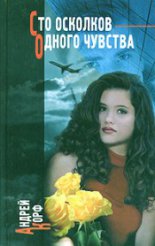Народы и личности в истории. Том 2 Миронов Владимир
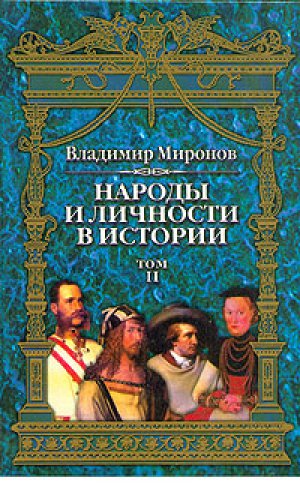
Фердинанд Вальдмюллер. Возвращение из школы.
Ранее отмечался тот внушительный вклад в культуру, что внесли университеты и профессиональные школы Германии… Они стали местом подготовки высококлассных профессионалов. Университеты в средние века возникают в Гейдельберге (1386), Кельне (1388), Лейпциге (1409), Ростоке (1419), Фрейбурге (1457), Тюбингене (1477), в Кенигсберге (1544) и других городах. Помимо философии и технологии, здесь преподаются математика, астрономия, физика, химия, картография, зоология, минералогия. Подобно тому, как среди бюргеров нет никого, кто бы не любил денег, с не меньшим уважением относились немцы к наукам и образованию. Если французы говорили: L`argent n`a pas de maitre («Деньги не имеют хозяина»), то немцы утверждают гуманистический принцип: «Образование не знает границ».
Университеты – островки свободы, откуда поведут наступление лучшие немецкие умы… Век Просвещения ознаменован открытием целого ряда университетов (в Галле – 1694, в Геттингене – 1737, в Эрлангине – 1743, в Штутгарте – 1781). Иные из университетов порывали с традиционной университетской структурой, желая полнее отвечать требованиям времени. Штутгартский университет, сохранив общий статус, изменил структуру. Отныне цели «чистой» науки переориентированы на практические нужды общества. Созданы факультеты права, военных наук, экономики, медицины, администрирования, даже лесоводства. Даже само название университета приобрело прагматический оттенок («Hohe shule»).
Иным было назначение Кенигсбергского университета («Альбертина»), занявшего видное место среди немецких высших учебных заведений. В 1544 г. университет был открыт герцогом Альбрехтом Прусским, чье имя он и носит по праву. Это – подлинное дитя гуманизма. Здесь много внимания уделялось искусству. Этот университет был построен по проекту Иоахима Камерариуса. Как и университет в Марбурге, он мыслился центром, совмещающим функции образования и очага распространения протестантизма. Первым ректором Альбертины стал зять просветителя Меланхтона – Георг Сабинус. Изданная в Нюрнберге по случаю основания университета грамота призвана была привлечь юношей соседних стран, желавших получить добротное образование. Немцы уже тогда понимали выгодность политики привлечения в свои вузы лучших умов отовсюду. Герцог посылал приглашения в Польшу, Голландию, Швецию, Лифляндию, Россию, в столицы германских княжеств, в которых говорилось: «Мы также надеемся, что наша академия принесет пользу многочисленным великим народам, живущим на западе и востоке от прусских границ; если на нашей территории будут усердно изучать науки, то вы сможете располагать большим числом получивших образование пасторов для ваших церквей… Поэтому мы пригласили в Кенигсберг во благо Пруссии и соседних народов ученых и великих мужей». Герцог Альбрехт нередко и сам посещал лекции. И хотя университет считался государственным, юнкерство и купеческие семьи выделяли немалые средства на его развитие. Позже вуз объединят с Педагогической академией. Ужасы Тридцатилетней войны, к счастью, обойдут стороной Кенигсберг. С годами университет превратится в истинный Храм Науки. На стенах здания (проект 1844 г. Августа Штюлера) можно будет увидеть прекрасные настенные росписи в Старой Аудитории – «Смерть Сократа в застенке» (М. Пиотровски), «Одобрение архонтами и сенатом законов Солона» (Г. Греф), «Гиппократ», «Святой Павел, ведущий проповедь в Афинах». Как говорится: «Художественная форма – это ставшее зримым содержание» (И.Гофмиллер).
Александр Гумбольдт.
Подлинный взлет университета пришелся на начало XIX века. Вильгельм фон Гумбольдт в письме сообщает Гете, что он открыл в Кенигсберге пять новых кафедр. Укором невежественным политикам иных варварских стран должен был бы послужить тот факт, что даже в 1809 г., когда огромные платежи в пользу Франции привели Пруссию на грань катастрофы, университетский бюджет для Кенигсберга был увеличен почти вдвое. В это время был заложен ботанический сад, осуществлено строительство обсерватории, основана университетская библиотека. Здесь же возникли Кенигсбергское Ученое общество и Физико-Экономическое общество. Целая плеяда выдающихся умом прославляла сей город ученых, профессоров, студентов. Тут работали историк права Штоббе, пионер в области изучения культуры историк К. Гюльман, германист К. Лахман, не говоря уже о Канте и Фихте.[476]
Вот как описывает историк науки ту особую атмосферу и некий живописный фон, что складывались вокруг университета: «Маленький Виттенберг и сегодня сохранил следы прежнего интеллектуального величия. Он как бы погрузился в глубокий сон, навевающий мысли о гигантах шестнадцатого века, – Лютере, Меланхтоне… И хотя многие его нынешние обитатели и не подозревают о прошлом величии города (так, на вопрос «Где был университет? группа молодых людей ответила: «Его здесь не было». «Как же так, он был основан в начале шестнадцатого века», возразили им. На что последовал ответ: «Так давно мы не жили»), следы тех времен остались: памятники реформаторам далекого прошлого, надписи, свидетельствующие, что Виттенберг был своеобразной Меккой интеллектуальной жизни на протяжении долгих лет (в частности, не миновал этот город и Петр Великий), архитектура гулких, узких улочек, выбегающих на простор реки, где в свое время со своим учеником Вагнером прогуливался бессмертный профессор Фауст». Со времен средневековья вокруг студентов и профессоров, школ, центров, университетов, в горниле пламени, насыщенного духовно-раблезианским «кислородом», складывалась особая культура, пронизавшая все общество. В ней есть своя элегическо-царственная прелесть. Вспомним, что Гамлет был студентом Виттенбергского, а Лаэрт – Парижского университетов. Возможно, и сакраментальная фраза «Быть иль не быть?» вызрела еще в стенах университета. Вокруг университетов Европы активно бурлила жизнь. Нет, не случайно, что здесь родится идея университета.
Тем временем наука, что подобна необъятному космосу, исторгала из своих глубин все новые «кометы». Александр Гумбольдт (1769–1859), великий естествоиспытатель, географ и путешественник, вырос, как и его брат Вильгельм, в обеспеченной семье (дом в Берлине, поместье в Рингенвальде, замок Тегель). Александр влюблен в ботанику и рисунок. Это ему пригодится, когда он отправится в путешествие по Южной и Центральной Америке. С детства он вступил на путь поклонения материлизму и естествознанию, увлекшись мхами, лишайниками, папоротниками, водорослями – и всякого рода «тайнобрачными растениями».
Вильгельм Гумбольдт.
Братья Гумбольдты перешли учиться в Геттингенский университет (среди сокурсников два английских принца, сорок графов, юный князь Меттерних). Александр предпочел путь ученого-естественника. Биограф В. Гумбольдта имел в виду такого рода людей, когда говорил о «срединной мудрости», завладевшей всею немецкою умственною жизнью. «Ею жили, ею вдохновлялись: она господствовала в государственной, как и в частной жизни, в чиновничьей, как и в промышленной сфере… Она раздавалась с церковных и университетских кафедр; в ее духе государство писало законы, ее духом жила наука». На молодого человека повлияла судьба Иоганна и Георга Форстеров, видных натуралистов и путешественников.
А. Гумбольдт вместе с учителем Г. Форстером совершил поездку по странам Европы (1790). За год до смерти Гумбольдт писал: «Я употребил целое полстолетие, в течение которого все время продолжал вести беспокойную и сильно подвижную жизнь, чтобы сказать самому себе и другим, чем я обязан своему учителю и другу Георгу Форстеру в отношении обобщения взгляда на природу, укрепления и развития того, что брезжило во мне задолго до этой счастливой встречи». Далее его ждет работа в должности директора рудников. Исследуя горные породы и минералы, он составил карту соляных источников Германии.
В Америку он отплыл благодаря усилиям испанского правительства и лично короля Испании (1799). Невозможно описать его путешествие. Ибо, как говорил ссыльный декабрист Г. С. Батеньков, А. Гумбольдт имел одновременно «дар аналитический и поэтический». Лучше прочитать «Картины природы» и «Космос». Или, если сей труд труден, на худой конец, самому съездить на Тенерифе, то есть на Канарские острова, о красоте которых писал исследователь. Он сожалел, что народы Европы лишены такой природной роскоши и экзотики, какая существует в Латинской Америке. Однако европейцы компенсируют многое богатством культуры, фантазиями своих поэтов и живописцев. Все это время Гумбольдт упорно и настойчиво работает над первым томом «Космоса». Так космос природы пересекся с космосом науки. В письмах он отмечал, что его притягивают глубины России, как «неизъяснимая загадка».[477] Во время поездок на берега Рейна у него появляется мысль о путешествии в Россию. Его необычайно влечет и манит к себе Сибирь, которая родственна Космосу. Науки же представляются ему единым континентом, связи между которыми прочны.
А. Гумбольдт – феноменальная личность (ученый, писатель, художник, администратор). В Америке он встречается с Джефферсоном, в России с Николаем I, Чаадаевым, Герценом (в Московском университете). Не зря же филолог Я. Гримм в 1862 году напишет: «Стоять рядом с Гете мог бы только один человек – Александр Гумбольдт». Каковы же его успехи на педагогическом поприще? Здесь стоит упомянуть о лециях (цикл из 61 лекции, прочитанный в 1827–1828 гг.) в Берлинском университете. Лекции стали важнейшим событием культурной жизни (они проходили в самом большом зале Берлина – в Певческой академии).
В них ученый показывал тогдашнее состояние всех наук, давая картину «физического мироописания» Земли и Вселенной. В ходе лекций он погружал слушателей в пленительный мир энциклопедизма, знакомя их с достижениями самых значительных умов всех времен и народов. На базе этих лекций и родилась идея известнейшего труда («Космос»). Велика его роль и как пропагандиста естественнонаучных знаний. Благодаря ему повсюду в Германии возникают «ферейны» (кружки или общественные клубы), целью которых было распространение новых знаний. Гумбольдт любил говорить: «Со знанием приходит и мысль, а с мыслью – сила и уверенность». Он прекрасно отдавал себе отчет, что только умный народ может завоевать себе достойную жизнь. Без толковых людей наверху государство обречено.[478]
Велика в этом плане и заслуга Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835), философа, филолога, языковеда, государственного деятеля, брата знаменитого путешественника и географа Александра Гумбольдта. Вильгельм станет основателем Берлинского университета (1809). Его работа «Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства» (1792) известна своей педагогическо-воспитательной направленностью. Полностью напечатана была работа только после смерти автора в 1851 г. Гегелевская (гражданственно-государственная) линия воспитания в трудах дополняется гумбольдтовской (индивидуально-самостоятельной, личностной). В 1809 г. Вильгельм фон Гумбольдт, друг Гете и Шиллера, получил от короля Пруссии приглашение занять должность директора департамента исповеданий и народного просвещения. Он принял его и стал разрабатывать концепцию реформы среднего и высшего образования. Пруссия испытала всю тяжесть поражения от Наполеона. Гумбольдт понял тогда важное обстоятельство: определенно достичь возрождения страны можно только в случае, если удастся поднять дух народа. В нем всегда жил патриот (его биограф Р. Гайм писал, что он страстно «любил немецкий ум и немецкий дух»). В 1810 г. в записке, адресованной правительству, он решительно настаивал на том, что университеты требуют особого к себе отношения (как и вся высшая школа). Согласно его концепции Берлинский университет должен был стать центром науки, культуры, образования и воспитания немецкой нации.
Мысль В.Гумбольдта понятна. Возрождение страны возможно только на пути укрепления духа немецкой нации. Это возможно путем создания мощной системы образования и культуры. У немцев есть все для того, чтобы подняться к вершинам национального величия. Успех возможен в том случае, если Германия не будет слепо и раболепно повторять чьи-то «зады». Поэтому в основу реформ должны быть положены, с одной стороны, дух протестантизма и нравственности, с другой, дух либерального образования, способствующего целостному развитию личности. В качестве главного ориентира им выбрана богатейшая народная культура, а не культура маргиналов (в лице мещан и узколобых «интеллектуалов»). «Идея университета Гумбольдта предполагает, с одной стороны, автономию, функциональную самостоятельность науки как системы, способствующей ее свободному развитию, и, с другой стороны, культурообразующую мощь науки, в которой отражается в концентрированном виде вся мирожизненная реальность в ее целостности», – отмечает немецкий ученый Ю. Хабермас. Наука должна стать для нации своего рода «койнэ» (греч. «общий язык»). Подобно Гераклу, она должна совершить не один, а целых двенадцать великих подвигов (защита отечества, развитие наук, воспитание и образование умного и здорового поколения и т. д.).
Суть принципов единения, разработанная В. Гумбольдтом, заключалась в следующем. Во-первых, университет не имеет права допускать в свои стены примитивный утилитаризм. Во-вторых, опытная эмпирическая наука не должна противопоставляться фундаментальным исследованиям (он выступал против «высокомерия опытного знания»). Чтобы восторжествовало «истинно-интеллектуальное образование», он учредил при департаменте просвещения Научный комитет, куда вошли действительными членами ученые различных дисциплин (историки, философы, филологи, математики). В-третьих, университеты должны стоять на мощной гуманитарной основе. Гуманитарное образование должно лечь в основу развития личности в государстве. В противном случае специалисты-естественники всех рассадят по колбам и клеткам, как подопытных кроликов или мартышек. В итоге, в Германии могут восторжествовать «духовный материализм» и «безыдейный элитаризм» (это и произошло).
В записке, адресованной правительству, В. Гумбольдт горячо отстаивал идею уникальности университета. Он всячески старался доказать властям, что это заведение особого рода – Олимп просвещения и науки. Гимназии и спецшколы, писал он, решают совсем другие задачи. Поэтому власти должны относиться к университету с большим почтением. Ведь университет отвечает самым высоким целям державы. Прежде всего в его распоряжении «находятся такие рычаги и силы, какими не располагает само государство».
Берлинский университет
Основанный в 1810 г. Берлинский университет стал новым типом университета, где можно было вести научную работу в свободном режиме. Гумбольдтова модель особенно привилась в Соединненых Штатах Америки и в России. По выражению Дж. Бернала, немецкие профессора установили своего рода научную империю, охватывающую всю Северную, Центральную и Восточную Европу и оказавшую исключительно большое влияние на развитие наук в России, США и Японии. Немецкие профессора отныне, с начала XIX в., становятся почти полновластными властителями многих научных собраний и академий. Поэтому со временем совершенно иной, содержательный и позитивный смысл приобретает и гетевская фраза из «Фауста»: «Was ihr den Geist der Zeiten heibt, Das ist im Grund der Herren eigner Geist» (нем. «А то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий»).[479]
Следующий отрывок дает представление о позиции В.Гумбольдта в вопросе воспитания: «Общественное, то есть установленное или направляемое государством воспитание во многих отношениях вызывает сомнение… В развитии человека все зависит от величайшего многообразия; общественное же воспитание, даже если те, кто им руководит, будут стараться избегать односторонности и ограничатся только назначением и оплатой содержания воспитателей, неизбежно окажется в сфере применения какой-либо определенной системы. Тем самым в общественном воспитании проявятся все те недостатки, на которые мы… указали в первой части нашего исследования… и если вообще что-либо требует индивидуального воздействия, то прежде всего воспитание, которое ставит своей целью формирование отдельного человека… все это теряет свое значение в той мере, в какой гражданин уже с самого детства воспитывается только как гражданин. Конечно, хорошо, если условия жизни человека и гражданина, насколько это возможно, совпадают…Но упомянутое совпадение полностью перестает быть благотворным, когда человек приносится в жертву гражданину».[480]
Стоит добавить, что Вильгельм фон Гумбольдт стал и родоначальником современной лингвистики. Язык является нашими глазами, обращенными в мир людских страстей и мыслей. Он придает человеку неповторимое обаяние и очарование. Хотя в иных случаях заставляет пожалеть о том, что природа наградила иных из нас речью. По речи мы узнаем не только мысли, но и чувства человека, его склад и даже национальный характер… Гердер утверждал: между языком и национальным характером имеется внутренняя связь. В конце XVIII в. обнаружили родство санскрита (языка древней Индии) с латынью, греческим, другими европейскими языками. Тут же стали высказывать идеи о наличии единого праязыка. Английский востоковед У. Джонс заявил: «Европейские языки, возможно, произошли от одного протоязыка, которого больше нет» (1786). Фридрих Шлегель работает над книгой «О языке и мудрости индусов» (1808). Якоб Гримм в «Немецкой грамматике» (1822) находит соотношения между элементами немецкого и индоевропейского языков. Вильгельм Гумбольдт образно характеризует природу языка: «Природа языка состоит в перплавке чувственной материи мира и слов в печать мыслей». Язык неизбежно несет на себе отпечаток взглядов народа. «Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык».[481] Значение языка как важнейшего фактора культуры в дальнейшем подчеркивалось многими. М. Хайдеггер даже скажет, что не человек говорит, а язык говорит человеку. Благодаря языку народы составляют тесное и органическое единство, связанное кровными узами, как братья-близнецы. Впоследствии известный языковед, физиолог, философ, психолог В. Вундт (1832–1920), создавший в 1878 г. первую экспериментально-психологическую лабораторию, ставшую своего рода «Меккой» психологов многих стран Европы, напишет: «Именно в этом пункте романтизм – в языковедении в лице Якова Гримма, в правоведении в лице Савиньи и Пухта – выступает против индивидуализма предшествующей эпохи и проводит ту мысль, что народ, порождающий язык, нравы и право, сам представляет собою личность, «исторический индивидуум».[482]
Нет, не случайно мысль Европы оказалась в тенетах немецкого «ловчего». Тот, кто знаком с многогранным процессом проникновения и взаимообогащения культур, не удивился бы этому «вторжению немцев»… Разве задолго до этого (XII в.) германцы Фридриха Барбароссы («Огнебородого») не восприняли как нечто привлекательное античные нравы и римскую культуру?! И хотя «кора германизации» спадала не столь быстро, как, скажем, смывается грязь с тела варвара-бродяги, процесс за века приобрел необратимость. Теперь же, по мере усиления влияния и роли немецкой расы, естественно, возник ответный интерес других европейцев и славян к великой немецкой нации. Особенно это заметно на примере тяги к наукам, что, подобно золотым монетам, имели хождение за рубежом… Ранее многие европейцы обучались живописи в Италии. Немцы учились у французов. Нынче же за познаниями в естественных науках все чаще направляются в Германию. Среди них были, конечно, и русские.
Здесь ощущается, как мы увидим, некая несхожесть и одновременно близость культурно-исторических типов русских и немцев. Чем это вызвано? Сказать наверняка не берусь. Но некоторые ученые прямо указывают, что в давние времена толпы германцев были вытеснены из их предполагаемой родины между Волгой и Уралом на берега Балтийского моря, где они и поселились. Об этом, в частности, упоминает историк Пифей (360 г. до н. э.), называя их гуттонами и тевтонами. Они шли вдоль прусского берега, через Финляндию и Швецию, заняли всю Данию и северную Германию, перешли Рейн. Нации стремятся вернуться в лоно.
Интересно и то, как воспринимали немцев русские писатели. Замечательный писатель Н. В. Гоголь заметил в своей работе «О движении народов в конце V века» о появлении в Европе «нового невидимого мира», представленного германскими племенами, что переселились из Азии в отдаленные времена. Гоголь так описывает эти племена: «Физическая и духовная их природа носила резкий отпечаток самобытности и особенности. Их организация физическая совершенно спорила с организацией народов древнего мира… Их религия, их жизнь, их темперамент, первообразные стихии характера разнились во всем от образованных тогдашних народов. Религия германских народов отличалась особенною оригинальностию. Их божество и предмет поклонения была земля. Казалось как будто мрачный вид тогдашней Европы внушил им идею этой религии… Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звуке ее, как молодые, исполненные отваги тигры. Думали о том только, чтобы померяться силами и повеселиться битвой. Их мало занимала корысть или добыча…Они были вольны и не хотели никакой иметь над собой власти. Правления у них почти не было… Они были просты, прямодушны: их преступления были следствие невежества, а не разврата. То, что было бесчестие и низость духа, называлось только преступлением… Таковы были народы германские – грубые стихии, из которых образовалась новая Европа». Интересно, что и он относил происхождение германцев в Азию, отметив их оригинальность и самобытность, мужество и смелость, непритязательность и вольнолюбие. В его понимании германский мир очень близок славянскому миру, являясь миром «вовсе отличным» от католического, римско-европейского мира (или так называемого «образованного»).[483] Возможно, так оно и есть.
Правда, Петр I, подчеркивая преемственность всей европейской цивилизациии, в то же время говорил о поляках и немцах как о весьма невежественных народах (по крайней мере, в начальных фазах своего развития). В частности, Петр заметил: «…а Поляки, равно как и все Немцы, пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребываем доселе, и только непомерными трудами правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежние Греческие искусства, науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас…».[484]
Однако с такой оценкой были в корне несогласны как немецкие, так и некоторые русские ученые, писатели-энциклопедисты. К их числу принадлежал А. С. Хомяков, отличавшийся умом необыкновенным и колоссальными знаниями. Он решительно противостоял попыткам англосаксов и иудеев принизить роль этой нации в Европе, и даже ставил немцев на первое место среди европейских народов в области исторических наук, говоря: «За настоящими немцами тянулись с большею или меньшею ревностью их колонии, Франция и Англия».[485]
Откуда этот устойчивый интерес русских к Германии? Русские, сколь бы национальны и патриотичны они ни были, все же прекрасно отдавали себе отчет в том, что немец (вообще, европеец) живет в массе своей лучше, сытнее, комфортабельнее и удобнее. Понимание этого пришло к высшим кругам общества достаточно давно, во время официальных поездок, путешествий и военных походов. Цари это знали, а люди обычные, так сказать «невыездные», поняли сие после создания в Москве в 1570-гг., в годы Ливонской войны, иноземного поселения (за рекой Яузой). Здесь жили пленники из Прибалтики, а также иностранцы, принятые на «государеву службу». Поселение получило наименование Иноземской или Немецкой слободы. В начале XVII в. она, правда, сгорела (в Смуту), но идея оказалась весьма животворной. России были необходимы иностранные специалисты, а они нуждались в жилье, которое бы отвечало более или менее европейским стандартам. И хотя первоначально внешний вид домов и дворов восстановленной Немецкой слободы не очень-то отличался от русских, вскоре ситуация коренным образом изменилась. В ней появляется больше каменных домов, да и деревянные дома строятся по канонам европейской архитектуры. Уже с 70-х гг. XVII в. их, как отмечает В. А. Ковригина, стали строить «на немецкую и голландскую стать». И выглядели они, по свидетельству многих современников, и правда «красивыми, как игрушки».
Гораздо менее красиво выглядели картины увеселений «на западный манер»… Известно, что на Руси батюшка-царь – он тебе и закон, и судья, и властитель мод, и сам господь бог! Немецкая слобода (как ее называли москвичи – Кокуй) стала тем «злачным местом», где в юные годы царевич проходил «первые университеты». Влияние слободы имело, как всегда бывает в подобных случаях, две стороны. Одна была позитивной. Царевич, будучи от природы человеком любознательным и пытливым, узнавал интереснейшие подробности о внешнем мире (о науках, успехах, достижениях Европы). Внешний ее облик был ярким и приметным. Патер И. Давид отмечал: Немецкая слобода была «более опрятная и нарядная, чем другие… много в ней красивых каменных палат, выстроенных немцами и голландцами недавно для своего жилья. Остальные строения деревянные, но достаточно просторные. Едва ли найдешь здесь дом без сада, притом сады цветущие, плодоносные и красивые». Жители слободы носили европейское платье «на образец немецких дворян». Немалое значение возымело то обстоятельство, что в слободе в дальнейшем (1696–1698 гг.) построен и Лефортовский дворец, ставший, по существу, неофициальной резиденцией Петра I. Здесь русский царь и устраивал приемы послов, проводил празднества и бурные увеселения своего двора.[486]
Вторая менее привлекательна… Вот как описывал идейную сторону западного влияния на царя историк В. И. Большаков: «Кого там только не было: кальвинисты, католики, лютеране, сторонники убитого во время великой английской революции короля Карла Стюарта, приверженцы короля Вильгельма Оранского, английских и шотландских масонов, иезуиты и всякого рода авантюристы. Были там и будущие «идейные руководители» Петра I – щвейцарец Лефорт и Патрик Гордон. Международный сброд, живший там, отнюдь не отличался высокой нравственностью: имели место распущенность, кутежи и разгул. Но вся эта разношерстная масса была едина в своей враждебности ко всему русскому, патриархальному».[487]
Многое в деяниях великого царя так и не было до конца нами осознано. Наследница Петра, Екатерина I не очень-то стремилась поддержать научные замыслы и планы своего мужа. В дневнике города Петербурга о событиях тех лет сказано так: «Государыня большую часть года проводила в стенах Летнего дворца в Летнем саду и выезжала очень редко. 15 августа (1726 г.) приглашены были во дворец и удостоены торжественной аудиенции члены Академии наук, учрежденной по мысли Петра Великого. Зять государыни, герцог Голштинский, поддерживал иностранцев и влияние их в России; он склонил Екатерину к открытию академии наук. Сама государыня, в противоположность своему державному супругу, не любила и не могла любить ученых: их похвальные речи были непонятны ее величеству».
Полностью позитивные начала петровских начинаний вытравить все же не удалось. К примеру, вскоре стало прочной традицией направлять на стажировку за границу (особенно в Германию) способных академических студентов. Одновременно широко практиковалось и приглашение иностранных специалистов в Россию. В этом были свой резон и своя закономерность. В частности, советником Берг-коллегии Райзером русскому обществу была предложена обширная программа обучения. Особый упор был сделан на необходимость скорейшего прогресса страны путем изучения естественных наук (химии, физики, механики, гидротехники, физической географии). Осуществляется отправка русских студентов в Европу. Президент Академии наук России Корф просит немцев принять на обучение способных молодых русских (1735). Проучившись в Германии год или полтора, они по возвращении на родину могли бы «сами обучать других». В 1736 г. в Германию едет на обучение 25-летний Ломоносов с товарищами, став студентом известного в Европе Марбургского университета.
Цель поездки была ясно обозначена… Занятия начали с обучения основам арифметики и геометрии и с изучения немецкого. Ломоносов стал брать также уроки французского, рисования, танцев. Программа обучения постепенно расширяется, включая аэрометрию, маркшейдерское искусство, естественную историю. Во время обучения в Марбургском университете Ломоносов начнет собирать и свою первую библиотеку (за два года им куплено 59 томов). Здесь им будут приобретены: «Избранные речи» Цицерона, книги Э. Роттердамского, сочинения Овидия, Вергилия, Плиния, Сенеки. Видно, его впечатление от немецкой школы было довольно сильным, раз уж он рекомендовал немцев в Петербургскую академию, заметив: «Правда, что в Академии надобен человек, который изобретать умеет, но еще более надобен, кто учить мастер». Привлекала его также просветительская миссия немецких пасторов, что «в своих духовных школах обучают детей грамоте». Сравнивая их поведение с манерой нашего духовенства, Ломоносов писал: «Тамошние пасторы не ходят никуда на обеды, по крестинам, родинам, свадьбам и похоронам, не токмо в городах, но и по деревням за стыд то почитают».[488] Эта сторона культуры и поведения немцев также вызывала уважение.
Пауль Флеминг. Гравюра А. М. Шурмана. 1632 г.
А сколько немцев принимало самое деятельное, серьезное участие в подготовке кадров высшей и средней школы в России в дальнейшем… Граф Б. Миних (1683–1767) не только руководил строительством Ладожского канала, шлюзов на реке Тосне, был президентом Военной коллегии, но и основал в Петербурге Сухопутный шляхетский корпус (1731), где преподавали академики Г.Крафт и Г.Миллер. Приглашенный в директора корпуса Екатериной II граф Ф. Ангальт (1732–1794) всецело посвятил себя заботам о воспитании своих питомцев (они и стали ему семьею). В одной из своих речей он заметил: «Благоговейте к храму вашего воспитания. Да будут первым побуждением и первым началом всех ваших поступков: честность и доброе имя».[489] И таких немцев немало. Стоит вспомнить хотя бы славное имя барона Н. А. Корфа (1834–1883), что был родом из остзейских дворян. Он по праву считается одним из виднейших деятелей русской школы, «охранителем» её лучших и добрых традиций.
Университеты в Германии стали для нас как бы «живым зеркалом вселенной» (Гегель), расширив представление о природе и Вселенной и превратившись в первоклассную кузницу научных и педагогических кадров. Число их неуклонно растет (Геттинген, Эрланген, Йена, Киль, Марбург и т. д.). Здесь больше высших учебных заведений, чем во всех странах Европы, вместе взятых… Понятно, что сюда устремляется всё больше иностранцев (в их числе немало русских). Хорошо известно, что И. Тургенев отправился доучиваться в Берлин, всё лето путешествовал по Германии, слушал лекции в Берлинском университете, встречался с профессором философии К. Вердером и даже с превеликим рвением изучал Гегеля. После отъезда и путешествия по Италии он возвратился в Берлин, где вновь «предался науке». Увлекался он и философией Фейербаха, прочитав его труд «Философия и христианство».[490]
И. Тургенев, проживший большую часть жизни за границей, хоть и оставался русским писателем, но, вероятно, уже не мог «не быть европейцем», перенявшим многие представления, вкусы, установки и оценки зарубежья. Поклонник демократии, он считал, что та является подлинным и чуть ли не единственным отечеством всякого «достойного человека». Когда у тебя нет родины (или ты её покинул по той или иной причине), вольно иль невольно, а приходится искать ей замену. И тут уж хочешь-не хочешь, а приходится воспевать Европу и Америку! Вспомним, как заканчивается роман Тургенева «Отцы и дети». Там сказано о русских физиках и химиках, коими «наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютной ленью».[491]
Немецкая наука и высшая школа стала для нас, русских (что бы мы там ни говорили), одним большим университетом, процесс обучения в котором длится вот уж три века! Кстати, даже и Н. Я. Данилевский признавал ту исключительно важную роль, что сыграли в научном прогрессе человечества три «главных народа» Европы – немцы, англичане и французы… Он писал в «России и Европе»: «Следовательно, первенство в сообщении плодотворного движения наукам вперед бесспорно принадлежит немцам. Но эта прогрессивная деятельность разных национальностей является весьма различною в различные периоды научного развития. Именно обращая внимание лишь на народы, бывшие главными деятелями в науке, – на немцев, англичан и французов, – мы видим, что англичане более или менее содействовали возведению наук на все четыре ступени их развития; немцы приняли преимущественно участие в возведении наук на ступень частных эмпирических законов или более или менее участвовали в этом труде во всех науках, достигших этого периода развития; вместе с англичанами разделяют они славу возведения наук на высшую ступень их совершенства; в четырех случаях из восьми – были единственными деятелями или главными участниками в искусственной систематизации знаний, но ни одной науки не ввели в период естественной системы. Совершенно напротив того, французы были главными деятелями в сообщении движения наукам в периоде естественной системы, именно из девяти случаев в пяти, и ни в одной науке не установили искусственной системы».[492] «Три богатыря» европейской школы наук!
А разве наши музыканты не ездили в Германию? Вспомним визиты М. И. Глинки, родоначальника русской музыки, в Берлин, где он изучал искусство создания фуги, и учебу известного создателя русских романсов А. Е. Варламова, использовавшего при создании шедевров композиции И. С. Баха. С призывами учиться у немцев эстетическому вкусу неоднократно обращались к русскому читателю А. Н. Оленин, получивший эстетическое воспитание в Дрездене, городе, который Винкельман называл «Афинами для художников». Алексей Николаевич Оленин, создатель известного кружка поклонников античности, в дрезденской королевской библиотеке проводил дни и ночи, изучая сочинения по древней истории (1870-е гг.). Сюда же позже устремился и поэт К. Н. Батюшков, глава анакреонтического направления в русской поэзии. В очерке «Прогулка в Академию художеств» (1814) Батюшков восклицал: «У нас еще не было своего Менгса, который открыл бы нам тайны своего искусства и к искусству живописи присоединил другое, столь же трудное: искусство изъяснять свои мысли. У нас не было Винкельмана». К слову сказать, когда Оленина назначат президентом Академии художеств в России, Батюшков сравнит его с Винкельманом и Менгсом.[493]
Было чему поучиться у немцев и нашему народу… Достаточно почитать того же Ф. Н. Глинку или А. Ф. Раевского, оставивших воспоминания о походах русских войск в Европу 1813–1814 гг. Их больше всего поразили достаток и просвещенность средних и даже низших слоёв немецкого общества. Федор Глинка пишет, говоря об увиденном им в Силезии: «Посмотри на эти высокие каменные строения с огромными конюшнями, скотными дворами, огородами, прекрасными садами, цветущими беседками – как думаешь, что это? Верно господские дома, дома князей и баронов. – Нет! это деревня, где живут силезские крестьяне. Дивись, но верь». И дальше он описывает жизнь и быт рядового немца: «Вот прекрасная чистая комната, украшенная живописью, зеркалами и диванами. Хозяин одет очень опрятно; пьет по утрам кофе, имеет вкусный стол, ходит в театр, читает книги и судит о политике. Кто он такой? Угадай! – Дворянин? – Нет! – Богатый купец? – И то нет. – Кто ж? – Мещанин, цирюльник. Я предчувствую удивление твоё и разделяю его с тобою. Разве у нас нет цирюльников, но они живут в хижинах, часто в лачужках. Отчего же здесь люди так достаточны? Эта тайна образа жизни немцев» (Ф. Глинка. «Письма русского офицера»). Уровню культурного кругозора крестьян безмерно удивляется и А. Раевский («Воспоминания о походах»). Ему «кажется странным, что самые крестьяне с жадностью читают политические листки и рассуждают о происшествиях мира», что «имена Шиллера, Гете, Бюргера, юного Кернера и других великих писателей известны даже поселянам», что обычная «бедная саксонка» говорит, как благородная («с пленительным благоразумием»). Немного поразмышляв, наши офицеры не без оснований видят причины такого положения в готовности соблюдать законы всеми, включая правительство. Правительство даже подает народу пример в разумности, честности и точности соблюдения всех своих обещаний. Естественно, что народ доверяет такому правительству. Глинка пишет: «Так стремятся пруссаки защищать свое правительство. И как не защищать этого кроткого, на мудрости и точности основанного правительства? Представьте, что здесь не имеют даже понятия о взятках и о том, как можно разживаться должностью и как кривить весы правосудия за деньги!»[494] Русские, хорошо знающие порядки в отечестве, где чиновник нередко мздою и живет, видимо, испытали потрясение.
Идёт и обратный процесс. Среди приехавших служить в Россию мы видим немцев, швейцарцев, голландцев, шотландцев и т. д. Любопытно, что в XVII–XVIII вв. процветающая ныне Швейцария с удивительным равнодушием относилась к наукам. В тот период там был всего один университет в Базеле. Этот город считался оплотом науки и просвещения, превосходя Женеву и сокровищами искусств. Казалось бы, швейцарцы должны были стремиться к наукам. Ничего подобного… В те времена их больше интересовали деньги и материальное благополучие. Оказывается и в столь почтенной стране, как Швейцария, можно услышать массу глупостей, вроде: «Пускай учатся немцы – это им идет, а у нас, швейцарцев, есть дела поважнее какого-то ученья». Эти настроения стали причиной того, что выдающийся талант Бернулли, Эйлера, Галлера не смог найти себе применения на родине. И, наоборот, в тогдашней императорской России привечали иностранных ученых. Скажем, математик Леонард Эйлер (1707–1783) был приглашен в Петербургскую Академию наук и на следующий год приехал в Россию (1726). Тогда город на Неве только ещё обретал черты будущего величия. Петербург решал свои первостепенные нужды (мостились улицы, строились караулки, крыши домов оборудовались бочками с водой из-за угрозы частых пожаров и т. д.).
В момент приезда Эйлера в Петербург ему было 25 лет… В России великий ученый проведет немало лет (до 1741 г., когда он переедет в Берлин, к Фридриху II, где примет участие в создании немецкой Академии наук). Вскоре Эйлер увидел, что Фридриха больше занимали войны, чем наука… Кроме того, немцы бывали и несравнимо большими скупердяями, чем щедрая и хлебосольная Россия… И после четверти века пребывания в Германии Л. Эйлер с сыновьями возвращается под крыло великой Екатерины II (1766). Можно сказать, что несмотря на слепоту, Эйлер именно в России достиг пика научной карьеры: тут он издает тома «Оптики», является душой Академии наук, пишет работы по математике и астрономии, получает премии Парижской академии наук (его перу принадлежат более 800 работ).[495]
Была в немцах и некая ненасытная тяга к обучению, совершенствованию, которая не может не вызывать в нас искреннего восхищения. Эту их особенность подметил покойный профессор МГУ А. В. Карельский в предисловии к собранию сочинений Э.Т.А. Гофмана. Он писал о своем любимом немецком писателе: «Одна из самых трогательных черт Гофмана – это его постоянная сосредоточенность на проблеме обучения, охранения – так и хочется сказать по-современному: охрана юности. Если учесть, что «учителя волшебники» у Гофмана в избытке наделены его собственными характеристическими чертами, то нетрудно догадаться, что и все студенты для него – ипостаси себя прежнего. Неведенье это блаженно, а мудрость горька».[496] Такова и немецкая мудрость: с горькой примесью хмеля, от коего кружится глава.
Немало их, мастеровитых, трудолюбивых, верных слову, упорных и цельных немцев (Гегель написал в «Философии истории»: «Французы называют немцев entiers, цельными, т. е. упорными; им не свойственна и сумасбродная оригинальность англичан») устремилось в Россию по зову царя Петра, а затем и Екатерины… Как отмечают сами немцы (Э. Зигль), немецкие иммигранты строили в «Северной Венеции» (Петербурге) мосты, проектировали дома и дворцы, работали каменотесами и мастерами художественных ремесел, трудились в мануфактурах и оружейных мастерских… Хорошо известны и такие факты как восстановление сгоревшей Москвы графом А. Х. Бенкендорфом, строительство Большого Кремлевского дворца, Оружейной палаты, Храма Христа Спасителя архитектором К. А. Тоном и т. д.
Они учреждали в новой столице России и семейные предприятия. Великолепные фасады Невского проспекта пестрят немецкими названиями. Почти каждый четвертый магазин принадлежал тут немцам. Это было похоже на самую главную улицу в столице Германии, что тогда ещё не могла похвастать роскошью и великолепием. За первыми волнами немецкой иммиграции пришла еще одна, во второй половине XIX в. Немцев привлекал начавшийся тогда в России процесс индустриализации. Их страсть к созиданию, творчеству, изобретениям, торговле могла найти и находила в то время вполне достойный и эффективный выход.[497]
Книга в России также создавалась при активнейшем участии немцев… К примеру, в 1909–1910 гг. возникла издательская компания «Мусагет», которую возглавил Эмилий Карлович Метнер, музыкальный критик и большой поклонник Гете, Вагнера и Ницше. В России он намеревался публиковать книги в трех сериях: «Мусагет» посвящена литературе, «Орфей» – мистике и журнал «Логос» – вопросам философии культуры (международный ежегодник). Сам Метнер высказывал в своих статьях довольно интересную и не лишенную оригинальности мысль, что «Германия и Россия – двоюродные братья». Сюда же примыкали молодежь, прослушавшая курсы философии в немецких университетах, последователи Г. Когена, П. Наторпа, Э. Кассирера, Г. Риккерта и В. Виндельбанда, а также молодые литераторы, относившие себя к неокантианской школе (Б. Яковенко, С. Гессен, Ф. Степун и другие). Правда, финансировали журнал «Логос», судя по всему, немцы, требовавшие от издателя четко выраженной германофильской ориентации. Метнер позже признавал: «Направление журнала (по желанию издателя) должно быть германофильское (в широком неполитическом, нефанатическом, культурном смысле слова) и отнюдь не враждебное Вагнеру; вот и все».[498]
Самая превосходная школа, университеты, искусства, философы и ремесла вовсе не гарантируют, что наряду с образованием и культурой в страну не вторгнутся дурные привычки. При всей симпатии к немецкому народу, не стоит относиться к нему как к высшему существу, добродетельно-непорочному Лоэнгрину. Тот ведь тоже желал, чтобы Эльза любила его «таким, каков он есть». Не хотелось бы, чтобы на основании сказанного кто-то пришел к выводу, что, дескать, и «Луна делается в Гамбурге» (Н. В. Гоголь. «Записки сумасшедшего»).
Ведь и в самой Германии, ясное дело, хватало разного рода убожеств. Немецкие учебные заведения, несмотря на прогресс, попахивали казармой, свобода там частенько заменялась муштрой, а творчество – педантизмом. Жесткая система воспитания порой подавляла в человеке все человеческое… Но давайте же тогда честно спросим себя, а какое из обществ не испытало на себе всей «прелести» плоских размышлений филистеров, разброда, путаницы, а то и подлости элиты в области теоретического мышления и практического воспитания?!
Еще Георг Форстер, друг выдающегося ученого Александра Гумбольдта, деятель Майнцской коммуны, как-то заметил, что если культивировать душу человека в учебном заведении механистически и формально, подобно тому как выращивают «спаржу на грядках», итог будет трагичен и ужасен… Такие заведения выпускают в жизнь «отвратительные существа, лишенные соков и сил, не способные хоть на мгновенье отойти от заученных правил и думать самостоятельно – машины во всех значениях этого слова». Далее он писал: «Создавать машины и людей, подобных машинам, нетрудное искусство».[499] И очень опасное для мира.
Конечно и в Германии молодежь не всегда находила ответы на вопросы в школе. Попав в водоворот жизни, она тут же забывала своих шеллингов и гегелей, что для нее более недостижимы, чем лунные кратеры и «цветущие на Марсе яблони». Если Фихте высмеивал тех, кто готов был видеть в человеке лишь «кусок лавы на луне», то Шлейермахер уже тогда обращал внимание на страшную опасность бездуховности и цинично-прагматического взгляда на жизнь… Философ писал: «Внешний мир – мир, лишенный духа – есть для толпы величайшее и первое, дух же – только временный гость в мире, неуверенный в своем месте и в своих силах. Для меня же дух, внутренний мир, смело противостоит внешнему миру, царству материи и вещей». Среди тех, кто рьяно и слепо поклоняется внешнему миру, есть и те, кто чему-то выучился и «гордо шагает по расширенным и заполненным житницам своих знаний». В действительности же, эти люди представляют собой лишь оболочку, лишенную смысла и божьего промысла. Это лишь подобия людей, ибо лишены жизни духа. Поэтому и мир их враждебен человечеству. Немецкий мир, как мы увидим, научился плодить негодяев.
Праздник дураков.
Может, поэтому Герцен, сравнивая качества французских и немецких ученых, отдавал предпочтение французской цивилизации, считая их наблюдателями и материалистами, а в германских ученых видя лишь схоластов и формалистов. Французы у него скорее специалисты, чем каста, немцы же – наоборот… «Во Франции ученые не стоят на первом плане и, следственно, не имеют такого влияния, как ученые в Германии. Во Франции они все более или менее устремлены на практические улучшения – это огромный выход в жизнь. Если их по справедливости можно упрекнуть в специальности больше, нежели германцев, то, наверное, нельзя упрекнуть в бесполезности. Франция именно стоит во главе популяризации науки…Совсем не таковы цеховые ученые германские. Главный, отличительный признак их – быть валом отделену от жизни; это отшельники средних веков, имеющие свой мир, свои интересы, свои обычаи… Академический, ученый мир в Германии составляет особое государство, которому дела нет до Германии».[500] Оценки немецкой мысли сначала Герценом, а затем Солоневичем, не должна отбрасываться (особенно немецкая идеология превосходства)… И. Солоневич писал в «Народной монархии» (напомню: в середине XX в., во время страшной войны с гитлеровской Германией): «Термин «ученого варвара» был впервые пущен Герценом – около ста лет тому назад. Это – очень точный термин. Нельзя отрицать и немецкой одаренности и немецкой работоспособности и – еще менее – той чудовищной дрессировки, которой немцы подвергаются в семье, в школе, в армии, на службе, и так далее. Это – самый дрессированный народ мира. Они учатся так, как нам не снилось – поистине грызут волчьими зубами гранит науки. Но творят науку – все-таки другие нации».[501] Все так, все верно, кроме, возможно, последнего. Немцы умеют творить науку, хотя способности русских повыше.
Тут мы решительно не согласны с В. Розановым, что говорил о соотношении талантов двух стран: «Вот перед великолепным здешним университетом (какое здание – дворец на «Unter den Linden») стоят статуи двух, можно сказать, «святых» братьев, Александра и Вильгельма Гумбольдтов. Известно всем, какие впечатления Александр Гумбольдт вынес из путешествия по девственной, в научном отношении, Южной Америке. И тогда он захотел писать свой «Космос». Вот как происходит вдохновение! Но позвольте: что же бы Александр Гумбольдт написал, если бы какой-нибудь министр-вахмистр заставил его «составлять историю Берлинской королевской академии по архивным документам, хранящимся при канцелярии этой академии?» Александр Гумбольдт просто подох бы, ибо ослушаться нельзя, вахмистр сильнее его, или превратился бы в какого-нибудь Пекарского, Сухомлинова и пр. и пр., в знакомые тусклые фигуры… Сказать, что в России все-таки и не могло быть своих Гумбольдтов, Риттеров, Моммсенов, – невозможно. Но нужно вдохновение; нужна вдохновляющая культура: а у нас какая-то дикая азиатчина, что-то поистине нероновское или диоклетиановское в отношении к «Психее», «душе» человеческой, в смысле неуважения и презрения к ней, мучительства ее. Пример Пушкина неопровержим: почему пишу о Германии и Италии я, а не Пушкин? Пока это – так, а это – именно так, я неопровержим в той моей мысли, что русская культура просто раздавлена, как яйцо в руках самодура-силача. И ничего из этого яйца не вышло (кроме гадости), а может быть, вышла бы Жар-птица. Пушкин говорит и доказал собою, что могла бы родиться именно Жар-птица».[502] В стиле Розанова скажем, что курица – не птица, а Розанов – не философ. А уж то, что у России есть, были и будут «свои Гумбольдты и Моммзены», несомненно и неоднократно доказано и подтверждено историей.
Позволю обратить ваше внимание и на то, что обычно относят к факторам быта, психологии, культуры нации. Жизненная философия у натуральных немцев иная, нежели у русских. В ряде случаев их рационализм и крайний утилитаризм, превосходящие все мыслимые границы, дают человеку большую степень материального богатства и жизненного комфорта. Однако нет в ней той широты и свободы, той душевности и сопричастности (при каком-то равнодушии к деньгам и житейским благам), что делает нас порой столь непохожими на Европу. Немец кажется нам сух и черств, как старый сухарь. Нынче бесшабашный русский тип уходит в прошлое. Жизнь вынуждает. Ну, может, и слава богу… Безусловно, в этом приобщении к рационализму Запада все же есть свой резон. Однако тут важно и не переборщить.
В этой связи уместно напомнить историю женитьбы Шлимана на Екатерине Петровне Лыжиной. Он прожил с ней 15 лет. В браке сошлись два типа, два характера. В их союзе было нечто роковое, лишний раз доказывающее, что науки, творчество, бизнес, подвижничество трудно уживаются с мирком прелестных дам. Хотя тут речь о жизненных понятиях и философии, которые у немца и русского очень различаются… Шлиман прибыл в Петербург в 1846 г., утвердившись среди именитого купечества. После ряда лет успешных деловых операций он стал состоятельным человеком. Россия многих сделала богачами (кроме русских). Поэтому Шлиман и полюбил Россию. После визита в Америку он решает вернуться в милый незабвенный Петербург, где «в очаровательной столице Руси» хочет провести остаток дней своей жизни. Конечно, он был всерьез очарован северной Пальмирой, это так, ибо тут он высказал твердое намерение жениться и свить семейное гнездо. Шлиман писал московскому купцу М. С. Малютину: «По приезде в Петербург я возьму себе хорошенькую русскую жену, хотя очень бедную, но лишь бы русскую и хорошо воспитанную… После того я никогда не оставлю Петербург, зная, что нигде нет лучше, чем в Петербурге». Это решение вызрело у Шлимана уже после того, как невесты-немки не оправдали его надежд (не сдюжили «фрау»).
Немецкие женщины в церкви.
Он знакомится с дочерью петербургского адвоката Е. Лыжиной (1849). О том, что представляла собой его избранница в интеллектуальном отношении, судить трудно. Ясно однако, что планка требований Шлимана к будущей супруге была высока. Лыжина была выпускница петербургской Петришуле. Когда в Россию собралась приехать его сестра Вильгельмина, он выразил пожелание, чтобы Катя поступила «под руководство и надзор» его сестры хотя бы на три месяца. Характеризуя все ее достоинства, он сообщал купцу С. А. Живаго, чьей племянницей и была Е. Лужина, и где должна была остановиться сестра Вильгельмина: «Минна Аристовна глубоко учена во всех науках, принадлежащих к превосходному образованию юности, за что она получила в нашем государстве премию первой степени. Географию, древнюю и новую историю, физику, арифметику, геометрию и пр. – все это она знает как профессор, тоже основательно знает она домашнюю экономию, которая, по мнению моему, составляет важнейшую и самую необходимую отрасль женской образованности».[503]
При совершении брака не грех спросить совета и у сердца, но Шлиман руководствовался скорее рационализмом и фантазией, посчитав, что в безбрежной России он сумел раскопать еще один драгоценный «алмаз». Не нам судить о достоинствах этого «алмаза». Однако все говорит о том, что перед нами, скорее всего, обычный брак по-расчету. Катерина дважды отказывала Шлиману и дала согласие только после того, как жених разбогател в Америке. Как пишет А. Бракман: «Когда два года спустя он вернулся с Калифорнийского золотого побережья, позвякивая самородками в кармане, она тотчас же переменила свое мнение о нем».
В их трагической судьбе было нечто такое, что, как полагаю, не сможет оставить читателя равнодушным. Это имеет некоторое отношение и к вопросу о месте и роли Отечества в жизни человека. Будучи твердо убежден в превосходстве немецкого образования и культуры, Шлиман решительно потребовал от Екатерины Петровны (к тому времени у них уже было трое детей – Сережа, Наталья и Надежда) переехать в Германию, в город Дрезден, на постоянное место жительства (1867). В основе такого решения – его желание дать детям «лучшее в мире» немецкое образование, и, конечно же, иметь возможность видеть жену и детей чаще. На этой почве и произошел конфликт… Шлиман обещает жене и детям буквально златые горы, только бы они уехали из России. Так, он просит своих петербургских друзей, чтобы те намекнули Екатерине Петровне, что она будет жить у немцев «как в раю» («иметь славный дом и экипажи и проживать 12 000 талеров», не считая дома в 100 000 рублей серебром в подарок еще до отъезда). Когда же семья воспротивилась его намерениям, он прибег к жестокому ультиматуму. И. А. Богданов приводит письмо Шлимана к кредитору семьи, барону Фелезейну, где тот требует не давать семейству «более ни одной копейки».
А вот и письмо Екатерины к мужу, полное упреков и сожалений: «Г. Шлиману, моему мужу. Хотя уже прошел 21 день, как Ты уехал из С. Петербурга, оставив меня больную, в продолжение всего этого времени Ты даже не осведомился у чужих людей о моем здоровье; и это есть любовь, о которой Ты так много толкуешь! До сих пор мало… от Твоей любви, и теперь я вижу, что мне в сем свете никогда не будет счастья от этой любви, ибо мы понимаем с Тобою любовь совсем различно. Я Тебе пишу все это, чтобы сказать Тебе в последний раз мои мысли, хотя я знаю, что все это напрасно. Ты во все это не вникнешь и не поймешь, и потому… буду заботиться только о своем спокойствии. Ты мне часто говоришь, что Ты меня любишь… В продолжение двух лет как мы с Тобой знакомы, я не сумела приобрести Твоего доверия. Ты на меня смотришь, как на мотовку, а не как на друга, с которым муж охотно делится и с радостью доставляет удовольствие; Ты… назначаешь сумму, выше которой… приказчики; по-моему это низость, наконец, заказывать ливреи и тому подобные вещи чрез лакея; я в это не вмешиваюсь, и они могут заказывать их по вкусу. Неужели Ты думаешь приобрести этим любовь? Даже экономии Ты этим не достигнешь. Во всем Твоем поведении есть столько мелочного, пустого; Ты все смотришь на копейки, а пускаешь из виду рубли, это худой расчет, и в этом случае Ты мелочной купец и жалкий человек, самые лучшие минуты жизни Тебе никогда не будут известны, чтобы быть счастливой с Тобою, нужно непременно хитрить и хитрить на каждом шагу… Прощай, из уст моих Ты больше не услышишь ни обвинений, ни оправданий, ни изъяснений; время покажет все…»[504] Хотя, как знать: возможно найденная им Троя стоила личного счастья жены. Но что женам до нашей Трои!
У его жены, вероятно, было немало недостатков, но одно бесспорно говорит в ее пользу – она умела быть русской. Да, ее можно упрекнуть в браке по расчету… Но когда на карту оказалась поставлена судьба ее детей, их воспитание, их духовная сущность, она все же не пошла на компромисс со своей совестью. Любопытно и письмо сына Сергея к отцу (Г. Шлиману), даже если оно и написано не без влияния матери: «Ты пишешь, что купил 5 домов в Париже и хочешь, чтобы я до 16 лет воспитывался в Дрездене, а потом в Париже, но ни мама, ни я, никто не хочет, ибо нам жаль покинуть отечество; кроме того, я в таких летах, что не могу быть без вреда взятым из одной школы и помещенным в другую, а как же можно из России во Францию; я далеко не знаю так хорошо язык, чтобы учить на нем все науки; мы бы страшно тосковали по родине, ведь людей за преступления высылают из родины… И ты пишешь, что люди, воспитанные в России, глупы и разоряют свое имение. Разве Барон К.Фелезейн глуп, а воспитывался в России..?» Попытки Шлимана привлечь на свою сторону родню жены также не увенчались успехом. П. Лыжин ответил ему, что уговаривать сестру оставить отечество противно его убеждениям. Когда же Г. Шлиман стал намекать еще и о награде (в случае успеха миссии по выдворению жены из России), брат в гневе отписал ему: «Она (Екатерина Петровна) живет не в глуши, а в городе, имеющем все средства к какому угодно воспитанию (авт. – Сергея)… Мать не помешает воспитать в сыне… русского гражданина, а не космополита… Выйти же из Русского подданства и оставить Россию никакой закон не принудит – ни сестру, ни кого бы то ни было из детей ее». Следует добавить, что Е. П. испытывала при всем при том огромное уважение к немецкой культуре и желала, чтобы ее дети (Сережа) хорошо владели немецким языком, но тут же подчеркивала, что «при воспитании детей надо иногда забывать свою личность и иметь в виду только пользу детей»….[505]
Таким образом, на примере Германии и России видим наличие мощных и долговременных процессов серьезного обоюдного интереса и взаимопроникновения культур. Тут были и будут свои взлеты и падения. К слову сказать, многие русские деятели науки и культуры предшествующих периодов все же старались почерпнуть у немцев лучшее и полезное. Когда-то Солоневич писал: «Наше старое барство, ездившее в Германию, имея в кармане золотые рубли и в головах немецкую бумажную философию, – в Западной Европе не поняло ровным счетом ничего, а именно русское барство, включая сюда и Тургенева, и Чаадаева, и Плеханова и прочих, сформулировало наши взгляды на «страну святых чудес». Европу поняли мы, русская эмиграция времен советской революции. Ибо мы прибыли сюда и без денег и без философии».[506] Этого никак не скажешь о нынешних «барах-демократах»… В умной, серьезной, трудовой и безжалостной Европе эти не поняли ни черта, кроме последнего – того, что надо охаять Россию и раздеть ее до исподнего (в итоге всё вылилось в жульничество в невиданно крупных размерах: иные скоты пытаются спрятать подальше от людских глаз украденные у русского народа капиталы и побыстрее сбежать заграницу, прося там убежище). Среди них – вчерашние «кумиры», «вершители судеб» народов России, не знающие всерьез ни славянской, ни западной культуры. Они едут туда с кучами денег, украденных у народа!
Интерес к Германии русских людей, обусловленный многими причинами, все-таки всегда (у наиболее дальновидной части русских) содержал элементы бдительности и критицизма: «Доверяй, но проверяй»… Заядлый германофил Розанов, признавая, что Германия рвется к гегемонии в Европе и, вероятно, её достигнет, высказал предположение, что Германия, что ни говори, а поднялась в XIX в. в момент усталости гигантов, когда людям надоели всемирные и «общие «идеи, но она может отойти «на второе и даже десятое место», когда опять подымется какое-нибудь всемирное течение, всемирное движение народов и идей, и явится подлинно всемирная личность… Розанов писал: «Сами немцы не решатся возражать, что все их успехи при Мольтке и Бисмарке суть просто удача успешных над неуспешными, трудоспособных над ленивыми, добропорядочных над безнравственными; и словом, «школьный учитель победил», – тот «школьный учитель», который бежал бы без оглядки перед такой «фатальной» личностью, как Наполеон, да и вообще перед истинно всемирною и таинственною личностью (бывают такие). Как и германская цивилизация, эта «честная немецкая культура» потускнеет, как сальная свеча, если (чего может и никогда не быть) появится когда-нибудь истинно прекрасное, истинно изящное в человеческом духе, в формах бытового, художественного, религиозного, но в основе всего – именно бытового творчества» (1905).[507]
Взять у немцев лучшее в быту, технике, организации, разумеется, нужно. Но в литературе и поэзии, пожалуй, им стоит поучиться у русских мощи, ясности, звонкой прозрачности и музыкальности слога! Думаю, что историк В. Тредиаковский имел все основания назвать одну из своих работ так: «О первенстве Словенского языка перед Тевтоническим» (1758). Вспомним и высказывание Батюшкова о немецкой прозе и поэзии (в письме к Вяземскому): «Но и согласен с тобою насчет Жуковского. К чему переводы немецкие? Добро философов. Но их-то у нас читать и не будут. Что же касается до литературы, их собственно литературы, то я начинаю презирать ее… У них все каряченье и судороги. Право, хорошего немного». Мысли Батюшкова имеют резон, как и мысли Гнедича (из записной книжки): «Германцы гораздо лучше судят об искусствах, чем их производят в действо. У них все впечатления искусств прежде анализируют, чем истинно их почувствуют… Вообще германцы сильнее в теории, чем в практике. Север весьма мало благоприятствует искусствам, можно сказать, что дух наблюдения дан ему единственно для того, чтобы быть созерцателем полдня».[508] И все же, хотя немцы породили филистерское государство, хотя в сфере политики тут всегда хватало и хватает «мерзавцев без характера и ума» (Гете), хотя духовный мир немца легко умещается в пространство 1 марки, а их идеализм никогда не выходил за границы веры в превоходство арийской расы, это еще не дает нам права втаптывать в грязь всю немецкую культуру! Нет оснований выводить из негативных оценок и фактов целую Zusammenbruchstheorie («Теория краха») все той же расы. Привычка считать немцев тяжеловесными и угрюмыми педантами, что в состоянии засушить любую мысль, любой урок, также вряд ли правомочна. Немецкая мысль (в лучших ее образцах) сравнима с французской по остроумию, с английской по аргументации, с итальянской по экспрессии и с русской по аналитической глубине и мощи.
Итак: 1) Германия прошла сложнейший путь эволюционно-революционного развития; 2) долгий период раздробленности (после эпохи Священной Римской Империи) безусловно задержал развитие государства как единого целого; 3) немецкий талант вынужден был «уйти в себя», то-есть развиваться на личностно-индивидуальном уровне, что в известном смысле даже пошло ему на пользу, ибо позволило появиться на свет ряду первоклассных гениев (Бетховен, Гердер, Гете, Гегель, Кант, Шиллер, Бах, Фихте, Гейне), а также способствовало значительному росту культуры, развитию науки и промышленности, упрочению благосостояния как знати, так и рядовых немцев; 4) протестантизм придал германскому бюргерству ряд типологических черт, ставших как причиной многих ярких и великих достижений народа, так и серьезнейших нравственно-исторических провалов и поражений; 5) и все же немецкая школа и ее философия оказали заметное, а в ряде случаев и решающее влияние на все европейское сообщество, что дало основание Гегелю в «Лекциях по философии истории» сказать: «Германский дух есть дух нового мира, цель которого заключается в осуществлении абсолютной истины как бесконечного самоопределения свободы…»,[509] хотя кое-где их плоды восприняты слепо и механистически; 6) при этом немецкий ум не избежал пагубной самонадеянности и гордыни, опасного головокружения от успехов и триумфов немецкой и европейской культур (тот же Ф. Шиллер, ничтоже сумняшеся, писал: «Лишь в Европе есть государства, которые удачно сочетают в себе просвещенность, благонравие и дух свободы, тогда как в остальном мире дикость преспокойно уживается со свободой, а подневольность – с культурой»); 7) с капиталом и властью немец обрел грубость и пошлость обывательщины («плоскоманию Европы»), которая приобретала особенно зловещий характер в условиях милитаризма; 8) военные победы пьянили немцев почище хмельного вина; война – их Валтасаров пир, их песня и Голгофа; 9) как показала история, триумфы и поражения Германии каким-то таинственным, еще не вполне нами осознанным образом связаны с Россией; 10) и Германии придется искать выходы из тупика, преодолевать заблуждения, делать массу ошибок, совершать страшные преступления, продолжая движение trotz alledem (вопреки всему).
Глава 10
Европейские божества – симфония музыки, мысли и стали
Подлинным космосом предстало в сознании Европы и всего мира австрийско-немецкое искусство. Оно слито неразрывно. Здесь нет границ, которые пытался установить Лессинг между живописью и поэзией. Он повторял слова грека Симонида («греческого Вольтера»), что живопись – немая поэзия, а поэзия – говорящая живопись. Ранее мы не раз убеждались, сколь условны границы между искусством и наукой, и как часто один вид искусств вырастает из другого или соседствует с ним.[510] Особое место в пантеоне искусств давно занимала музыка. «Из всех наук и искусств всех древнее музыка», – говорил Квинтилиан. Для немца и австрийца музыка почти равна Богу. И даже выше. В звуках органа и оркестра ловят они частицы жизненной энергии, как цветок – лучи раннего солнца… Философы пытались очистить ржавые мозги обывателей, а музыканты и композиторы ставили их на ноги, сделав многих из них настоящими людьми. Гении искупят и последующие грехи истории народов.
Мир давно живет согласно небесной мелодии, которую слышит ухо человеческое, но не вполне еще осознает наш разум. В эпоху средневековья Боэций писал об исключительном значении музыки в жизни человека («De institutione musica»). Музыка и в самом деле издавна сопровождала человека от рождения до смерти (от колыбельных песен до погребального плача). Поэтому раньше ее изучали вместе с грамматикой, геометрией, философией, теологией. На языке музыки, думается, говорит сам Господь Бог. Гете писал: «Мне всегда лучше работается после того, как я послушаю музыку». С кого ж начать наш выборочный историко-музыкальный анализ эпохи?
В немецкой музыке XVII в., как отмечает Л. Кириллина, были три великих «Ш»: автор органных композиций и возвышенных хоровых концертов С. Шейдт, прославленный сочинитель духовных произведений и светских песен И. Г. Шейн и мастер ораторий Г. Шютц. Впоследствии имя Г. Шютца (1585–1672) поставят в один ряд с именем великого Иоганна Себастьяна Баха. Его творчество пришлось на эпоху Тридцатилетней войны. Сын богатого бюргера, он получил добротное образование (языки, наука, музыка), а затем штудировал юриспруденцию в Марбургском университете. Благоволивший к нему ландграф Мориц помог ему стипендией для поездки в Италию. Взяв более созвучную итальянскому языку фамилию Саггитариус, он совершенствовал музыкальное мастерство в Венеции.
Италия для многих стала школой живописи и музыкальных искусств. Наставником немца был итальянский композитор и органист собора св. Марка Дж. Габриели. Шютц восклицал: «Габриели, бессмертные боги, что за человек!». Службы оставляли неизгладимое впечатление у слушателей: «Казалось, что звучит весь собор, чуть ли не вся вселенная, и хору церковных певчих отвечает заоблачный хор ангелов».
Шютц усвоил многохорный стиль, помогавший в воспроизведении библейских сюжетов, в переложении им на музыку текстов Мартина Лютера и т. д. Первый его визит в Италию посвящен был церковной музыке. Во второй визит он познакомился с выдающимся итальянским композитором К. Монтеверди (1567–1643), автором опер «Орфей» и «Ариадна». Шютц и стал автором первой немецкой оперы – «Дафна» (либретто написал поэт М. Опиц). К сожалению, эта музыка, как и его балеты с пением «Орфей и Евридика» и «Парис и Елена» утрачены, но остались целые циклы сочинений: «Псалмы Давида», «Заупокойные песнопения», «Священные песнопения», три части «Священных симфоний», «Маленькие духовные концерты». Особую роль в истории музыки сыграл евангельский цикл, куда входят: «Рождественская история», «Страсти по Луке», «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», «Семь слов на кресте», «История Воскресения». Среди последних его работ: хвалебная песнь Девы Марии («Магнификат»), обращение к Христу: «Величит душа моя Господа». Помимо сочинительской деятельности Шютц вел и значительную работу по пропаганде музыкального искусства (организовывал капеллы в северонемецких городах, был капельмейстером при дворе Кристиана IV в Копенгагене). Рембрандт ван Рейн запечатлел его образ в портрете («Портрет музыканта»). Одним словом он прожил жизнь долгую и плодотворную. На его могиле в Дрездене видна надпись: «Любитель чужестранцев, светоч Германии, магистр княжеской капеллы».
Европейскую известность обрело и имя Георга Фридриха Генделя (1685–1759). Перед ним впоследствии преклонялся и великий Бетховен. В нем чувствуется шекспировская мощь: таковы его эпические произведения – органные концерты, оратории «Мессия» и «Иуда Маккавей». Правда, с 1726 г. он перешел в английское подданство. Его гений стал интернациональным, а некоторые его арии сделались английскими народными песнями. Музыковед И. Розеншильд сравнил музу Генделя с творениями поэтов-музыкантов средневековья Рудаки и Джами, которых считали своими таджики, персы, арабы, все народы Востока и Запада. Первооткрывателями Генделя стали саксонская и прусская аристократия. Видно, не случайно даже термин «аристократия духа», как полагают, был введен в литературный обиход немецким писателем Стеффенсом.
В этих землях Гендель сложился как музыкант (как регент хора, виртуоз игры на клавесине и гобое и органист). В Галле он поступил в университет (юридический ф-т). Затем он решил переехать в Гамбург, где был оперный театр и где он создал свои первые оперы с либретто на немецком языке. Далее последуют Италия, Ганновер, Лондон. Рассказывая о жизни и творчестве музыканта, писатель Р. Роллан упрекал Генделя за то, что он был напрочь лишен немецкого патриотизма. Можно ли упрекать художника за то, что он предпочел иную страну? В отношении европейцев это вообще не очень понятно, поскольку у них миграция артистов, художников, музыкантов, ученых – дело обычное. Великий велик везде. Хотя родину от хорошей жизни не бросают. Гете, говоря о своем веке, писал: «А наш acvum (век)? Отрекся от своего гения, разослал сынов в разные стороны собирать чужеземные плоды – себе на погибель».
В Англии Гендель возглавил театр «Королевской академии», создал оперы «Радамисто» (1720), «Оттон» (1723), «Юлий Цезарь» (1724). Жизнь его и там не была легкой. После того, как его разбил паралич, театр прогорел, а все друзья покинули, композитор все же нашел в себе силы и написал шедевры в монументально-героическом стиле – это «Мессия» (1742). «Самсон» (1743), «Валтасар» (1744)… Во время стюартовского мятежа им были созданы вдохновенный гимн «Stand round, my brave boys!» («Вкруг становись, отважные парни!»), патриотические оратории «На случай» и «Иуда Маккавей» (1746), завоевавшие Генделю общенациональное признание в Англии. Concerti grossi являются шедеврами оркестровой музыки XVIII в. Еще при его жизни их часто исполняли в лондонских парках. По словам музыковедов, Гендель – это «Томас Мюнцер немецкой музыки». Строки из «Мессии» – «Рвите цепи, рвите, братья!» – могли бы стать девизом того, да и нашего времени. Известно, что даже великий Бетховен страстно призывал музыкантов: «Гендель – несравненный мастер всех мастеров. Идите к нему и учитесь создавать великое столь простыми средствами!»[511] О культурно-философской значимости музыки Генделя можно сказать его словами: «Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих слушателей: я стремился их сделать лучше». В этом заключается главное назначение всех искусств – сделать всех нас лучше! О той известности, которой пользовался в Англии Гендель даже после смерти, свидетельствует грандиозный генделевский фестиваль, проходивший в Вестминстерском аббатстве (1791). В нем приняли участие более тысячи певцов и исполнителей. В то время в Лондоне находился Й. Гайдн. Услышав величественное исполнение «Мессии», в особенности исполнение хором «Аллилуйя», Гайдн был потрясен музыкой и воскликнул: «Он учитель всех нас».
Вестминстерское аббатство и церковь св. Маргариты. 1793.
Воспитателям давно уж пора понять, что лучшей и надежнейшей школой является семья. Здесь рождаются и погибают личности. Наглядным примером верности данного постулата является судьба великого Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). Родился он в Эйзенахе. Ныне тут находится мемориальный Дом Баха… В зрелые годы музыкант вписал в тетрадь, названную «Происхождение музыкальной семьи Бахов», более 50 предков и сверстников, связанных с музыкантским ремеслом. В их роду были бродячие шпильманы, что кочуют из города в город, музыканты-любители, оседлые церковные органисты и городские музыканты. Полигимния (богиня танца и музыки) принимала самое деятельное участие в воспитании этого семейства. Говорят, что даже самый отдаленный родоначальник фамилии, Фейт Бах, который был булочником, очень любил музыку и играл на инструменте, подобном гитаре.
- По улицам ночным,
- По переулкам спящим —
- Четыре дурака —
- Мы инструменты тащим.
- Почувствовав в груди
- Любовную истому,
- Мы с музыкой своей
- Бредем от дома к дому.
- Едва взойдет луна,
- Мы серенаду грянем:
- Пиликаем, бренчим,
- Басим и барабаним…
Если Гендель нашел себе пристанище в Англии, то ни один из семьи музыкантов Бахов так никогда и не покинул пределов Германии. Тюрингия, родина Лютера, который ввел в церковные песнопения народные мотивы и мелодии, стала вотчиной Бахов. Семейство Бахов относило себя к убежденным протестантам, исповедуя эту религию искренне и свято.
К несчастью, в девять лет молодого человека постиг страшный удар. Сначала умерла мать, а затем и отец. Себастьян осиротел и был отданна воспитание к старшему брату, органисту города Ордруфа Иоганну Христофору Баху. Тот отдал его в гимназию, где преподавали по методе великого чешского гуманиста и педагога Я. Коменского. Возможно, уроки гуманиста нашли воплощение и в творчестве самого Баха. Обучение в ордруфской гимназии шло в духе старых традиций (латынь, чтение римской литературы, диспуты). Пять часов в неделю уделялось музыке. С детства проявилась его способность слышать музыку «внутренним слухом», ибо еще от отца, органиста А. Баха, ему передались похвальные качества – добросовестность, трудолюбие, самостоятельность. Брат старался всячески развить в нем эти начала.
О том, что представлял собой десятилетний С. Бах, свидетельствует следующий случай. Его описал в очерке о композиторе С. А. Базунов, к услугам которого мы будем обращаться. Старший брат учил Себастьяна искусству игры на клавесине, заставляя его играть скучные, но обязательные вещицы. В то же время живую и современную музыку прятал от него в шкафу за железной решеткой. Но, как известно, запретный плод особенно сладок. И юный Бах ухитрялся ночами вытаскивать сборник и 6 месяцев подряд при лунном свете переписывал полюбившиеся ему мелодии. Это послужило причиной преждевременной слепоты, хотя дало особо острое видение музыки.
«Малая» ночная музыка студентов лейпцигской «Музыкальной коллегии». 1732–1734.
Он становится сначала стипендиатом хора, а затем скрипачом школьной капеллы в Люнебурге (1700–1703). Бах побывал в Гамбурге и Целле, где слушал итальянскую, немецкую и французскую музыку. К 1703 г. он уже искусный скрипач и клавесинист. Однако ему предстояло овладеть еще и искусством игры на органе, занимавшем в те времена «царственное место» среди прочих инструментов. За годы странствий побывал он в Веймаре, Арнштадте, Мюльхаузене. В 1704 г. он занял место органиста в городке Арнштадт. Игра на органе увлекла его. По тогдашним порядкам, органист должен был одновременно быть и преподавателем церковной школы, если таковая была. Чины консистории требовали от органиста совмещения обязанностей музыканта, педагога и воспитателя. Чиновники всегда почему-то стараются засадить гения за работу, которая ему внутренне чужда. Хотя такое случается, конечно же, не только в Германии.
Здесь появляется его первая собственная кантата. В Любеке судьба косвенно свела Баха с Генделем: оба получили напутствие маститого органиста Букстехуде. Затем путь лежал в Веймар, который позднее назовут «германскими Афинами». В исполнении Бахом кантат уже чувствуется наличие у маэстро своей музыкальной философии и поэтики.
Бах обожал музыку, но ему не было дела до школьных сорванцов. Они же у него вместо того, чтобы заниматься ученьем, нередко играли в мяч, носились по улицам с рапирами или (того хуже, ходили ужасные слухи) захаживали порой в некоторые неприличные места. Естественно, это не нравилось начальству, которое всегда хочет выжать из подчиненных все возможное. Потихоньку у обеих сторон накапливалось раздражение в отношении друг друга. После одного затянувшегося отпуска С. Баха, во время которого тот съездил в Любек и познакомился с известным композитором Букстехуде, церковное начальство подвергло его строгой критике. В вину ему ставилось: свободная манера исполнения церковных хоралов, некоторая вольность поведения учеников и даже допущение к участию в хоре женщин. Совет духовной консистории, ссылаясь на авторитет св. апостола Павла, требовал: «Taceat mulier in ecclesia» («Да молчит женщина в церкви!»). Это привело к тому, что в 1707 г. Бах решил перебраться в г. Мюльхаузен.
В том же 1707 г. он женился, так как его материальное положение заметно укрепилось по сравнению с недавним прошлым. Биограф Баха Ф. Шпитт сообщает, что в Мюльхаузене городской совет выделил ему на год целое состояние – три бочки хлеба, годовой запас рыбы, дрова для отопления жилища и 85 флоринов деньгами. Так что, сами понимаете, при таком богатом довольствии вполне можно заняться и поиском жены.
Жена Баха, Мария Барбара была его двоюродной сестрой. От нее в истории не осталось ни портрета, ни писем, ни даже какой-либо захудалой песенки, посвященной ей композитором. Второй жене, Анне Магдалене, повезло немногим более. Ей он все же посвятил ряд песен. Таков удел жен великих.
В Мюльхаузене он, по указанию властей, возглавил работы по переделке органа, пришедшего в ветхость. Все остальное время занимала музыкальная деятельность. Однако, на его беду, церковный настоятель был рьяным консерватором и не признавал художественной музыки в церкви. Бах же был к этому расположен.
Пришлось органисту перебираться в герцогство Саксен-Вей-марское. К счастью, герцог оказался человеком высококультурным, любителем, знатоком музыки и патриотом, предпочитавшим немецкую музыку, а не чужую итальянскую. Это было особенно важно, так как в ту пору немецкое искусство в Германии приходило в упадок в силу засилья, как говорили, «итальянщины». Бах получил звание концертмейстера герцога и проработал тут девять лет. Именно здесь им будут написаны важнейшие произведения первого периода (хорал «Бог – наша крепкая твердыня» и другие). К слову сказать, впоследствии и его сыну, И. К. Баху, придется искать счастья не на родине, а в Англии, где он был капельмейстером королевы и сочинял оперы на итальянском языке.
В связи с вышесказанным нам хочется обратить внимание на то, что и сделало И. С. Баха одним из величайших музыкантов и композиторов. Да, он был истинный немец и как таковой выражал культурные предпочтения и страсти своей нации. Однако это нисколько не мешало ему прекрасно знать европейскую музыку и культуру. Бах изучал и собственноручно переписывал сочинения самых известных итальянских композиторов (Палестрины, Лотти, Кальдары, Вивальди и других). Наряду с итальянцами («законодателями мод»), он изучал и французскую музыку. В написанных им в Веймаре сюитах есть следы танцевальной музыки. Французский дух царил и в Дрездене, где правил и курфюрст Саксонский, и король польский Фридрих-Август, устроивший в Дрездене этакий «маленький Париж».
Последний прижизненный портрет И.С. Баха (неизвестный художник).
Туда приехал Бах с культурным визитом. Вот здесь и состоялось то, что можно назвать музыкальной дуэлью. В Дрезден прибыл французский органист Маршан, обвороживший своей игрой буквально весь beaumonde столицы Саксонии. Всех интриговало, кто же лучший органист – француз или немец. Состоялась личная встреча Баха и Маршана. Маршан играл французские пьесы блестяще. Затем подошел Бах и заиграл… заиграл ту же французскую арию по памяти, передав ее намного точнее и богаче. Затем пошли собственные вариации. Потрясенная публика услышала 12 вариаций. Это был триумф.
Повторное состязание не состоялось. Маршан почти сразу же покинул Дрезден, даже забыв о весьма лестном предложении короля поступить на саксонскую службу.[512] Мораль же сей битвы такова. Чтобы победить сильного и искусного противника, будь то сфера политики, науки, культуры, образования, экономики или высокого искусства, надо научиться бить его на его же собственном поле. Зная соперника, его силу и слабость – превзойдешь его!
Все грани творчества великого композитора и исполнителя объять и показать невозможно, ибо его мелос, его музыкальный гений столь же широк, как и безбрежный океан космоса. Позже Бетховен будет сравнивать произведения Баха с морем. Обыграв Bach, означающее «ручей», он патетически восклицал: «Nicht Bach – Meer sollte er heissen» («Не ручей, а море должно быть имя ему» – нем.). Широта и мощь великолепных скрипичных сонат, вокально-инструментальных произведений, сюит, наконец, знаменитых фуг Баха заставили Бетховена произнести эти слова. Игравший прелюдию Пятой фуги – «ре мажор» А. Рубинштейн говорил: «Ничего подобного в мире нет. Это верх совершенства. В ней выразилось все величие, которого человек может достигнуть». На премьерах Баха в лейпцигских церквах присутствовали чиновники, купцы, ремесленники. Его музыка, хотя и была довольно трудна для понимания, постепенно проникала даже в заплывшие жиром сердца бюргеров. В Лейпциге образованным бюргером Земши было учреждено общество «Большие концерты».
Таким вот образом воплощалось баховское «воспитание чувств». Посредством музыки… Бах руководил студенческой Collegium musicum, да и вообще его дом всегда был полон учеников. Прекрасно сказал о педагогической стороне дара музыканта А. Швейцер: «Гении начинают поучать тогда, когда глаза их давно закрыты и когда вместо них говорят их творения. Бах, не уставая, твердил своим ученикам, что учиться надо на произведениях великих мастеров, он и не подозревал, что сам станет учителем только для будущих поколений».
Положение Баха в Лейпциге, где он занимал место кантора при церкви св. Фомы с 1723 г. до конца своих дней, с годами стало более прочным. И это несмотря на то, что чиновные стороны должности его очень и очень тяготили (как «музыкальный директор» он должен был управлять всей музыкальной «кухней» города). Здесь он создаст свое гениальное произведение «Passionmusik» («Музыку Страстей Господних»). Под таким названием до нас дошло три его произведения: музыка на тексты евангелистов Матфея, Иоанна и Луки. Его главным шедевром считают музыку, написанную на текст Евангелия от Матфея. «Только человек с такой чистой душой и мог взяться за высокую задачу – в мире звуков изобразить историю страстей и смерти Божественного Страдальца». Творение гения – высочайшего мирового класса.
И.-С. Бах немало сделал для славы Лейпцига, Германии и человечества. Это был виртуоз игры на органе. Когда же слушатели хвалили его, он сердился и искренне говорил: «Это вовсе не заслуживает особого удивления, нужно только попадать по надлежащим клавишам и в надлежащее время, тогда инструмент играет сам».
Порой любил мистификации. Переодевшись бедным учителем, являлся в какую-нибудь захолустную церковь и просил органиста уступить ему место. Дивной игрой он всех приводил в глубокое изумление. Потрясенный слушатель заявлял: либо перед ним сам Бах, либо дьявол. Никто не мог так вдохновенно исполнять «Музыку Страстей». Он помогал всем (кому-то найденным местом работы и куском хлеба, кому-то бесплатными уроками, иной поддержкой). Бах обладал добрым и отзывчивым сердцем.
Как отреагировало знаменитое «культурное общество» бюргеров на величайшего мастера? Оно замечало его редко, будучи занято обогащением и накоплением. Одно из самых знаменитых его сочинений – «Kunst der Fuge» – не окупило даже издержек издания. А ведь автор достиг уже пика славы. Однако у него не нашлось денег заплатить даже за медные доски, на которых было выгравировано сочинение. И доски были проданы на лом. Ему платили всего сотню талеров да 16 мер ржи в год. Это был человек на удивление бескорыстный. В 1749 г. болезнь глаз усилилась. Двойная операция не удалась. Композитор ослеп, и прозрел только за десять дней до смерти. А как же вело себя в отношении него общество? Оно-то, казалось, было зрячим. Увы, люди эти были слепы душой. Лишь в день похорон о нем вспомнила местная элита. Похороны прошли при громадном стечении народа.
На них явились и многие знаменитости. Однако прошло не так уж много времени, и в начале XIX в. через кладбище, где был похоронен И.-С. Бах, пролегла новая улица. Все памятники и намогильные камни по этому случаю были снесены. Так затерялась в Лейпциге могила великого композитора и органиста.
Но, может быть, бюргеры сохранили дань уважения хотя бы к престарелой вдове композитора, Анне Магдалене Бах, которая осталась одна, с тремя незамужними дочерьми на руках. Увы, бедная женщина напрасно ожидала милости от властей города, уповая на их «совесть». Совет города ничего не предпринимал. Не помогли и молитвы, обращенные к Богу. Тогда она обратилась к Совету с элементарной просьбой – выделить ей хотя бы жалкие крохи на пропитание. И вновь власти Лейпцига ответили ей грубым отказом. Целых три года она перебивалась кое-как, пока, наконец, власти выделили ей скудное пособие. Вскоре она умерла в нищете и бедности.
Таковы хваленые буржуа даже в такой, казалось бы, культурнейшей стране мира как Германия.[513]
Творчество гения опережает время. Они неизбежно вырываются вперед из шеренги признанных в свое время авторитетов, тем самым нарушая общепринятые критерии и вкусы. Отсюда их внутреннее одиночество и так называемые «загадки гениев». Иоганн Себастьян Бах, по словам некоторых современников-«экспертов», всю жизнь оставался провинциальным музыкантом средней одаренности и как композитор не привлекал к себе повышенного внимания.
Так, В. Любке в «Истории искусств», сравнивая Генделя и Баха, утверждал, что Бах «не был популярен уже по сложности своих творений, тогда как первый, вращаясь в живом водовороте света, пользовался влиянием в кругу высокопоставленных лиц; счастье избаловало его славой и богатством, сделало знаменитым среди чужого народа, высоко почитающего его». В свою очередь, сын И.С. Баха – Карл Бах, сегодня считающийся «очень средним», считался некогда выдающимся музыкантом и даже удостоился имени «Великий Бах». По поводу первых симфоний Бетховена утверждали, что у композитора «страдает первое и существеннейшее требование музыканта – тонкость и правильность слуха – благодаря рискованным сочетаниям и часто примешиваемому реву звуков».[514] Толпа начинает с поношений и оскорблений, а кончает раболепным почитанием гения.
Музыкальная культура Европы совершенно немыслима без Австрии. Издавна заселялись эти земли, где обосновалась гальштаттская культура, индогерманские племена иллирийцев (800–400 гг. до н. э.), позже основали свои поселения римляне – Виндобона (Вена), Ювавум (Зальцбург), Бригантиум (Брегенц). Со II в. н. э. в этих местах распространилось и христианство. В эпоху переселения народов тут сталкивались племена баваров, славян, аваров. Среди имен властителей, повлиявших на будущие судьбы Австрии, – Карл Великий, Отто Великий, Бабенберги и Габсбурги. Само название «Австрия» появилось в 996 г. В 1156 г. за Веной окончательно утвердился титул столицы. Ба-бенберги участвовали в войнах и крестовых походах (Леопольд V даже захватил в плен Ричарда Львиное Сердце, а все деньги от выкупа пошли на укрепление Вены), строили монастыри, становившиеся культурными центрами.
С 1278 г. в Австрии воцаряются знаменитые Габсбурги. Отметим краткое, но успешное правление Рудольфа IV (1358–1365), получившего прозвище «Основатель» за учреждение им университета и начало строительства собора Св. Стефана в Вене. Империя Габсбургов укрепилась в XVII в. благодаря полководческим и государственным талантам Евгения Савойского. Когда мужская линия Габсбургов прервалась, власть в свои руки взяла Мария Терезия. Ей удалось достичь многого.
Вена становилась центром культурной жизни Европы. Тут творили Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен. Здесь выступал со своими лекциями о литературе А. Шлегель, а писатель-романтик Ф. Шлегель основал Германский музей. Как известно, уже с XII века Вена прославилась своей музыкальностью, когда Альберт I собрал тут группу инструменталистов (королевских музыкантов). В середине XVII в. музыкантов стали направлять на учебу в Италию, в Вене впервые ставятся итальянские оперы. «В течение следующих ста лет все австрийские императоры, – пишет П. Вудфорд, – всячески поощряли музыкальное искусство; их забота о его развитии нашла свое выражение в основании Музыкальной академии и поддержке, которую они оказывали хорошим учителям, в щедром вознаграждении придворных музыкантов и в поощрении оперы, а также в привлечении в Вену лучших европейских певцов и исполнителей».[515]
В XVIII в. именно Вена стала признанным музыкальным центром мира. Здесь собирается блестящее созвездие имен – Гайдн, Чимароза, Керубини, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Лист. Тут великий Моцарт проводил «академии» (так называл он дивные свои концерты). Ах, эти соловьи зальцбургских рощ… Благословенными стали венские пенаты для великих музыкантов. Конечно, немало и критики звучало в адрес Габсбургов, но, «несмотря ни на что, я влюблен в Австрию» (Ф. Грильпарцер).
При этом сразу же в нашем воображении возникают имена Моцарта, Бетховена, Гайдна… Судьба австрийского музыканта и композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791), глашатая Просвещения, стала наглядным примером как славы Австрии, так и горечи судьбы гения. Создатель волшебных и монументальных произведений – «Похищение из сераля» (1782), «Свадьба Фигаро» (1786), «Дон Жуан» (1787), «Волшебная флейта» (1791), «Реквием» (1791) – познал на себе тяжесть сословного строя. Его отец Леопольд Моцарт (1719–1787)
был родом из семьи ремесленников-переплетчиков. Он стал придворным композитором и капельмейстером у принца-архиепископа Шраттенбаха в г. Зальцбурге. Известный музыкант неплохо играл на скрипке, органе, клавире и слыл автором известной в свое время книги «Скрипичная школа».
Семья выросла в лоне католической церкви. Любимцем матери, женщины красивой и доброй, был Вольфганг. Из семерых детей в живых осталось двое, он и сестра, Мария-Анна (Наннерль), отличавшаяся музыкальными способностями. Окружение и то, что отец сам был музыкантом, подготовили и детей к схожей карьере. Отец воспитывал сына в строгой традиции. Все игры ребенка сопровождались музыкой. Он словно плавал в ее водах. Сестру учили игре на клавесине. Выяснилось, что сын наделен исключительным талантом, схватывая мелодии на лету. «Маленький волшебник» написал первый концерт в 4 года. Как сказал Шекспир, нет на свете живого существа, в котором хотя бы на один час музыка не свершила переворота. У Моцарта же не было часа, когда бы он не постигал музыки: «Тебе известно, что я, как говорится, всецело поглощен музыкой, что я занимаюсь ею весь день, все время размышляю о ней, постоянно разучиваю, обдумываю ее» (из письма отцу).
Он так стремительно двигался в музыкальном развитии, что уже к 6 годам был настоящим артистом. Моцарт мог, не учась на скрипке, сыграть с листа на ней сложную вещь. Он обладал необыкновенным слухом. Помимо музыки, он любил математику (даже испещрял мелом все стены, скамьи и пол, решая сложные задачи).
Отец решил показать его обществу. Следуют путешествия в Мюнхен и Вену (1762). С Вены началось триумфальное шествие Моцарта как мастера. Император Иосиф, большой любитель музыки, подверг мальчугана настоящим испытаниям. Тот вышел из них с честью. Его наградили прозвищем «маленький колдун». Семью музыкантов приняли как музыкальное диво. На нее просыпался денежный дождь, что заметно улучшило их материальное положение. Их окружили почетом.
Вена, Михаэлерплац и Бургтеатр.
Затем последовал Париж, где их также принимали видные сановники, включая короля и его семью. В Париже, который в то время не отличался особой музыкальностью, как мы позже увидим из истории с Берлиозом, Моцарта восприняли как некое диво. Тут произошел эпизод, когда Моцарт сделал выговор самой Помпадур за ее нежелание поцеловать его: «Это кто такая, что не хочет меня поцеловать?»
Париж ему не понравился. Принимали их неважно, хотя принцесса Мария Антуанетта, будущая королева Франции, казненная в годы революции, произвела на него неотразимое впечатление. Гораздо лучше встретили в Англии (1764). В Лондоне Моцарт увиделся с сыном знаменитого Баха. Англия процветала за счет торговли и колоний. Король Георг III и королева Шарлотта были заядлыми меломанами, еженедельно посещая оперу и концерты. Тут их встречали восторженно, одарив вниманием и золотыми гинеями. За 15 месяцев они заработали больше, чем за все предшествующие поездки. Моцарт написал тут и первые симфонии для оркестра, испытав заметное влияние И. К. Баха. Он признался сестре: «Ты знаешь, Иоганн Кристиан Бах – самый лучший из всех, кто мне известен. Я сочиняю симфонию в его стиле».
По словам отца, Вольфганг в его 8 лет знал куда больше, чем иной в 40 лет. Повинуясь просьбе епископа, Моцарт написал в 10 лет ораторию. И получил место скрипача в Зальцбургской капелле. Вена стала местом постоянных визитов юного композитора. Тут он переболел оспой, в результате чего чуть не ослеп. Надо сказать, что отец сделал из гениального сына «рабочую машину». Визиты следовали за визитами, ни дня отдыха.
Отец повез Моцарта в Италию. Их выступления собирали толпы. Филармоническая академия в Болонье избрала Моцарта своим членом. Его способности и феноменальная память у многих вызывали нечто похожее на страх. Он легко решал самые сложные музыкальные задачи, делая все играючи. Раз прослушав исполнение в Ватиканской церкви Miserere (50 псалом Давида, переложенный на музыку), который запрещали переписывать и продавать под страхом отлучения от церкви, он легко записал его дома по памяти. Папа Римский, потрясенный божественным даром (иначе не скажешь), пожаловал ему орден Золотой шпоры, дающий в Италии права дворянства и свободный вход в его дворец.
Во время длительного путешествия, в которое его отправил отец, он побывал в Мангейме, «раю музыкантов». Однако там были свои интриги. Интриганы убедили курфюрста, предложившего ему место преподавателя, что Моцарт «не более чем шарлатан, изгнанный из Зальцбурга, потому что он ничего не знает». Он влюбился в 15-летнюю красавицу А. Вебер, обладавшую прелестным голосом. Отцу стоило немалых усилий оторвать его от девы и направить далее, в Париж (1778). Моцарту уже 22 года. Жизнь в Париже отличалась дороговизной. Моцарт был недоволен и отношением французов к музыке. Он говорил: «Что меня больше всего сердит, это то, что французы настолько лишь развили свой вкус, что могут теперь слушать и хорошее; но чтобы они сознали, что их музыка дурна – Боже сохрани! А их пение – «оймэ!» и если бы еще они не пели итальянских арий, я бы простил им их французское завыванье, но портить хорошую музыку – это невыносимо!».[516]
Каков же итог столь раннего и фантастического становления юного дарования? Всякое большое дарование, как удивительный феномен природы, вызывает у людей целый букет ощущений и реакций (удивление, восхищение, недоумение, зависть, неприятие, обиду, а порой и ненависть). Э. Шенк в книге «Моцарт и его время» писал: «В результате личных встреч с выдающимися музыкантами Европы его (Леопольда) чудо-ребенок, проявивший поразительную музыкальность и виртуозность, за время их путешествий стал вполне зрелым, необыкновенно способным композитором…
Он и его семья общались с выдающимися личностями Европы, и те относились к ним как к равным, а не как к музыкантам, принадлежащим к более низкому сословию. В этом источник трагического конфликта Вольфганга с современным ему обществом, конфликта, начавшегося сразу же, как только юного музыканта перестали воспринимать как чудо, и в этом же, возможно, причина возникновения того чувства превосходства, которое молодой человек, совершивший путешествия в дальние страны, испытывал по отношению к скромной жизни в Зальцбурге».
Оставим эту сторону жизни великого композитора и обратимся к творческой стороне гения. Книга Г. В. Чичерина дает нам описание важных сторон его творчества. Это тем важнее, что часто рядом с именем Моцарта роятся какие-то призраки, а его судьбе сопутствует глухое непонимание «всемирно-исторической универсальной фигуры». Моцарту пришлось преодолеть сопротивление отца, чтобы отвоевать свободу творчества. Самые серьезные критики и слушатели обитают в пределах семейного круга. Старик Леопольд Моцарт был композитором XVIII века (средней руки). Он руководствовался критериями и установками своего круга. В его лице мы имеем ремесленника, «самоучку-просвещенца». Моцарт же – гений, «свободный художник, в качестве жреца человечества» (П. Беккер). Он не только произвел революцию в музыке, но и проник в душу живого человека глубже, чем кто-либо другой. Эта черта его нам особенно близка. В отличие от итальянских опер, где много ходульного, шаржированного (о героях опер-buffa говорили, что это не люди, но лишь маски примитивных народов), у Моцарта на оперную сцену выступил реальный, живой человек.
Во времена Моцарта многие пытались создать немецкую оперу, но это было непросто. В Вене полагали, что если люди идут в оперу, то они должны услышать там прекрасное итальянское «бельканто». Писатель А. Згорж в книге о Бетховене так характеризовал музыкальные настроения европейцев: «Сыны Рима, Неаполя и Венеции властвуют в европейской музыке, как некоронованные короли. Лишь немногие решаются иногда заикнуться, что пора бы со сцены звучать родному языку вместо пришлой итальянщины. Но разве порядочное общество станет посещать театр, со сцены которого звучит плебейская речь!» Время говорило: Veni creator! (Гряди, создатель!)
А вот как говорит об этой стороне его творчества Г. Чичерин, приводя мнения иных знатоков творчества австрийского композитора: «Устанавливая в характеристике самого Моцарта «способность наблюдать людей», интуицию человеческой личности, как одну из главных черт, Аберт считает эту черту «истинным источником драматического искусства Моцарта».
Не религия и не природа стояли для Моцарта в центре всего: «В центре представлявшейся ему картины мира стояло нечто совершенно другое: человек. Он действительно для него – мера всех вещей». В этом, как и во многом другом, Моцарт – древний грек; но он и Шекспир, он и Бальзак, он предвестник психологического романа XIX века. Моцарт – композитор реального живого человека. Он ищет реального человека в его полноте жизни без всякого отношения к «добру и злу», он ни в малейшей мере не морализатор, не догматик, он их антипод, он реалист… За исключением «Волшебной флейты», где противостоят друг другу царства света и тьмы, у Моцарта – и все содержание человеческой внутренней жизни, и красота всеобщей жизни, и глубина проникающего все его творчество космизма – совершенно самостоятельны от какой бы то ни было догматической, теологической оценки, свободны, автономны, живут по-своему.
Аберт указывает, что нет большей противоположности Канту, чем Моцарт. Динамичный, вечно мятущийся, вечно изменчивый, реальный, живой человек в центре сценического искусства – вот сущность моцартовской революции музыкальной сцены… Это – «Права человека» в музыке. У Моцарта, продолжает Беккер, – «полная идентичность природы и человека… В его операх «Похищение из сераля», «Фигаро», «Дон-Жуан, «Cosi fan tutte, ossia La scuola degli amanti» («Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» – ит.), «Волшебная флейта» перед нами выступают впервые на оперной сцене типы, которые воспринимаются как подлинные люди». Произведенная Моцартом революция музыкальной сцены создала впервые музыкальную драму реального живого человека».
Моцарту в конце концов пришлось-таки встать перед выбором – как и для кого сочинять музыку. Вернувшись из Италии, он обнаружил в своих композициях 1773–1774 гг. такой яростный и бунтарский дух, что напугал отца, порой ловившего себя на мысли, что чувствует ужас от «революционной, демонической сущности» сына.
Отцу хотелось, чтобы его сын писал сладко-приторную, спокойную музыку для салонов и «изысканной публики» (как он выражался, «для длинных ушей»). Поэтому он не уставал внушать сыну: «Только от твоего благоразумия и образа жизни зависит, будешь ли ты заурядным музыкантом, о котором позабудет весь мир, или станешь знаменитым капельмейстером, о котором последующие поколения прочтут в книгах; умрешь ли ты, связавшись с какой-нибудь юбкой, на соломенном тюфяке, в комнате, полной нищих детей, или после христиански, с удовольствием прожитой жизни скончаешься в чести и долговечной славе, в полностью обеспеченной семье, почитаемый всем миром».[517]
Предостережения, несмотря на их меторский тон, не лишены оснований. Венцы, любившие музыку, более привыкли к итальянским мелодиям. Моцарта они не очень понимали, относясь к нему с прохладцей. Хотя он был придворным композитором, ему охотнее поручали писать танцы для балов. Это было в порядке вещей.
В целом Моцарт не создан для официоза, монархии, церкви и княжеских дворов. Свобода и творчество были его возлюбленными.
Последовал разрыв с архиепископом Зальцбурга, чья деспотия была для него невыносима. Цепи службы и отцовской опеки ему надоели. Он желал быть свободным художником, хотя свободный – это почти всегда голодный! Моцарт отказался от Зальцбурга, от отца, от архиепископа и веры. Подобно Шиллеру, он взял на вооружение дерзкий лозунг: «In Tirannos!» («На тиранов!»). Этого ему никогда не простят. Он не признавал никаких светских приличий и правил. Не прибавляла ему популярности и его склонность к сквернословию, сумасбродным и плоским шуткам, что особенно бурно проявлялось в моменты создания им самых значительных и крупных произведений.
Моцарт.
Но при этом он всегда оставался самим собой, «гениальным большим ребенком», как говорила его сестра. Ясно, почему первым музыкантом империи официально считался умелый и изысканно вежливый ремесленник Сальери. Даже если оставить в стороне фабулу с отравлением Моцарта «дьявольским Сальери», мастерски описанную Пушкиным, тема вечного соперничества гения и злодейства остается.
При написании им «Волшебной флейты» его обокрал антрепренер и автор либретто Э. Шиканедер.[518] Во многом благодаря тому, что тот смог перепродать партитуру Моцарта, он и стал богачом. Успех этой оперы превзошел все ожидания. Многие считали «Волшебную флейту» масонским произведением, ибо сюжет повествовал о том, как волшебная флейта ведет героя Тамино к просвещению и как на этом пути его поджидают многие опасности и любовь. Что же касается жизненной философии композитра, то об этом прекрасно сказал великий русский поэт. Вспомним известные пушкинские строки о композиторе Моцарте:
- Когда бы все так чувствовали силу
- Гармонии! Но нет: тогда б не мог
- И мир существовать; никто б не стал
- Заботиться о нуждах низкой жизни;
- Все предались бы вольному искусству.
- Нас мало избранных, счастливцев праздных,
- Пренебрегающих презренной пользой,
- Единого прекрасного жрецов…
Надо признать, что как музыкант Моцарт порой довольно труден для массового восприятия. Его пониманию препятствует некоторая сложность произведений («громадная, неслыханная»). В его произведениях нет «прозрачности» и «легкости». Не по этой ли причине Моцарта забыли на целых два века? Стоит вспомнить и слова Г. В. Чичерина о нем: «Чем больше его изучаешь, тем больше обнаруживается эта сложность. Лишь тогда, когда очень глубоко в него вдумаешься, его внутренняя сложность начинает открываться. Что казалось веселеньким, оказывается глубочайшим пессимизмом и таинственной проблематикой. Поэтому изучение Моцарта требует очень серьезной музыкальной культуры. Массы его будут все больше понимать по мере того, как они будут все больше овладевать и общей культурой, и музыкальной…
Моцарт самый малодоступный, самый скрытый, самый эзотерический из композиторов. Кто не сидел специально и долго над Моцартом, кто в него упорно не вдумывался, с тем разговаривать о Моцарте – как со слепым о красках… Кто снидет в глубину морскую…» Чичерин считает, что Моцарт, скорее, композитор XX века, чем XIX, и больше XIX века, чем XVIII века.[519]
Конечно же, это был «разум, увенчанный гением», как сказал о нем Э. Делакруа. Австрийское божество, покинувшее тирольские Альпы ради ублажения ничтожных смертных! Что же он получил в награду от сильных мира сего? Академические дипломы и орден Золотой шпоры, выданные ему еще в юности папой Клементом XIV. Однако за всем этим последовало абсолютное равнодушие «общества». Двор так и не пожелал создать ему сколь-либо сносных условий существования. Вельможи, чей уровень в целом был весьма низок, больше восхищались шпагоглотателями, плясуньями и чревовещателями.
И все же ему не следовало жаловаться на недостаток внимания. Его оперные произведения встречены были музыкальной публикой с восторгом («Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Дон Жуан»). Хотя это далеко не единственные его творения, но они как ни что иное подтверждают правомерность следующей оценки: «за что ни брался Моцарт, из всего у него выходили жемчужины». Ему рукоплескали Вена, Болонья, Рим, Париж, Лондон, Прага… В Праге, по словам самого композитора, тогда говорили только о «Фигаро», слушали только «Фигаро», вечно все о «Фигаро». Одним словом, Фигаро тут, Фигаро там. Да и знаменитого «Дон Жуана» Моцарт, по его же словам, написал не для Вены, но для Праги, а еще больше для себя самого и для своих друзей.
Прага и стала городом, где его талант нашел свое призвание, где его оценили особенно искренне и восторженно. Говорят, услышав его «Похищение из сераля» (1783), пражане совсем перестали обращать внимание на других композиторов.
В личной жизни он не был счастлив. Из «сераля» похищал не столько он, сколь похитили его. Он влюбился в Констанцу Вебер. Ее мать сдавала комнаты в наем, будучи старой скрягой. Моцарт позже скажет о ней как о «лживом, злобном человеке». Имевшая четырех дочерей, она решила поймать его в сети супружества и стала распускать по Вене слухи, что Моцарт обесчестил ее дочь, не имея серьезных намерений жениться на ней. Впрочем, 18-летняя девушка в том была не виновата. Они поженились, но из шести детей выжили только двое (как у родителей самого Моцарта).
В его лице музыкальная мировая культура обрела не только гениального композитора, выдающегося исполнителя, но и смелого реформатора. Он во многом изменил итальянскую и немецкую музыку, стал создателем немецкой оперы, преобразовал игру оркестра, изгнал из музыки рутину и шаблон, и подготовил приход Бетховена. Когда же он пришел послушать репетицию «Фигаро» (в Мангейме), его приняли за ученика портного.
Восхищавшийся его творчеством Гайдн скажет: «Потомки не увидят такого таланта, как он, ближайшие сто лет». Моцарт умрет в возрасте тридцати пяти лет, завершив «Реквием», свою предсмертную песнь (1791).
Бетховен был потрясен этим событием и откликнулся на его смерть «Квартетом ля минор». О жизнь, тщета усилий наших! Останки Моцарта будут равнодушно сброшены в могилу для бедняков на кладбище св. Марка, без свидетелей. На ней даже не поставили креста (уж не за то ли, что он был масоном?). Да и что такое смерть, как не перевоплощение!?
Он оставил нам в наследие 620 своих сочинений. Не все из них написаны на должной высоте. Но Григ прав, говоря, что его «Реквием» по-прежнему влечет нас за Моцартом в заоблачные сферы, а его жизнь обретает в наших глазах скорбный, но прекрасный конец… Was unsterblich im Gesang soil leben, Mub im Leben untergehen (слова Шиллера: «Чтоб бессмертным жить средь песнопений // Надо в жизни этой пасть»). Становится ясно и то, почему в далекой революционной России, спустя два столетия, нарком иностранных дел Г. В. Чичерин, эрудит и страстный поклонник музыки Моцарта, воскликнет: «Со мною – Моцарт и Революция!» Возможно, он был прав, говоря, что моцартовский Ренессанс еще впереди.
Чем же так потрясает и завораживает нас Моцарт? Вряд ли все же своим революционным пафосом. Тут уместно было бы упомянуть имена Бетховена или Вагнера. Если предположить, что музыка – это средство познания, то Моцарт учит нас познавать мир одновременно в его единстве и противоречивости. Он проникает в наше сердце так глубоко, что поселяется там навечно.
В очерке о великих музыкантах Н. Болдырев писал, оценивая его могучую и неотвратимо влекущую силу: «Моцарт, случается, доводит меня до слез. Он единственный. (Даже не Шуберт.) Что я могу сделать с его Сороковой симфонией или Пятнадцатым квартетом или Двадцатым фортепьянным концертом? Перед их метафизическим натиском я сдаюсь. На вопросы, которые они задают со всем нечеловеческо-прекрасным напором, у меня нет ответов. Только слезы». И далее: «В чем же особость божественности музыки Моцарта? Ведь божествен же Бах? В том, возможно, что здесь невероятно скрытое, невероятно необнаженное отчаяние дышит. Никто с таким достоинством и упоением, и величием, и грациозностью не отчаивается, как Моцарт. Его отчаяние так невыспренне, непатетично, так обескураживающе любовно, почти сверхчеловечески, что совсем-совсем не знаешь, что ответить ему, Моцарту». Он говорит, что тайна обаяния Моцарта столь же неразрешима, как и улыбка Джоконды. В звуках музыки Моцарта мы обретаем очищение. И волшебный экстаз одновременно. Как писал Чичерин о ней: «Есть такие женщины: чистые и одновременно вакханки».
Моцарт говорил: «Музыка даже в самых ужасных драматических положениях должна всегда пленять слух, всегда оставаться музыкой». И он пленяет сердца при всех превратностях судьбы – в горе и счастье…
Как хорошо с подругой милой
Ненастный вечер коротать,
Музыке Моцарта внимать
И щедрой дланью наполнять
Сухим вином бокал искристый.
О Моцарт, гений серебристый,
Как эти звуки будят вновь
Воспоминанья: дни былые,
И встречи вечно молодые,
И вечно юную Любовь….[520]
Схожая судьба и у великого Бетховена… Представители семьи Бетховенов шестьдесят лет (1732–1792) состояли придворными музыкантами в Бонне, у кельнских курфюрстов. Дед композитора Людвиг ван Бетховен, фламандец по происхождению, занимал должность капельмейстера. Кстати, напомним, что от участников придворных капелл в те времена требовались довольно серьезные языковые знания (ведь каждый певец обязан был исполнять церковные арии на латыни, оперные партии на немецком, итальянском и французском).
Людвиг ван Бетховен (1770–1827) до десятилетнего возраста посещал школу, которая мало что дала ему. Среднего образования он так и не получил. В доме царила нужда. Юноша занимался самостоятельно, много читал, жаловался на свое плохое музыкальное образование, хотя и сознавал: «Но все же я обладал музыкальным талантом». Талант его обнаружился уже в 5 лет. Отец решил сделать из него вундеркинда, «второго Моцарта». Яркие индивидуальности нередки в то время. Вспомним, как англичанин У. Кроч уже в 2,5 года играл на построенном его отцом органе, Моцарт в 6-летнем возрасте сочинял менуэты, Шопен в 5–6 лет считался вундеркиндом, Делакруа в 9 лет хорошо рисовал, Гендель писал мотеты в 10 лет.
В учителя Бетховену достался актер Т. Пфейфер, который жил в их доме. Человек не без способностей (играл на гобое и флейте), он, мягко говоря, не лишен был земных слабостей. После питейного заведения ночью он частенько поднимал спящего малыша и сажал за уроки. Затем актера сменил добродушный органист монах В. Кох.
В 8 лет отец уже заставил Людвига выступать с концертами. В нем проявился и талант импровизатора. Большое влияние на юношу оказал руководитель боннского «национального театра» Х. Г. Нефе, положивший на музыку стихи поэта Ф. Клопштока.
Конечно, Бетховена не отнесешь к энциклопедистам и корифеям просвещения. С трудом давались ему основные правила арифметики (особенно умножение). Он владел лишь родным языком, кое-как объясняясь по-французски и по-итальянски (по-английски знал несколько фраз).
В последние годы пребывания в Бонне Бетховен увлекался литературой: читал гомеровскую «Одиссею», «Жизнеописания» Плутарха, впитывал поэтику античных мифов. Позже у него возникла мысль положить «Одиссею» на музыку. Одно время Бетховен выражал пожелание написать оперу на сюжет «Макбета», как и на сюжет «Фауста». Прекрасно знал произведения Шиллера и Гете (цитировал по памяти их стихи и афоризмы). Шекспира знал, как собственные партитуры (четырехтомник сохранил его пометки). Как видите, Бетховен умел черпать вдохновение из всех видов искусств.[521]
Интерес к творчеству Гете в нем подогрела юная Беттина Брентано, прекрасно знавшая поэта. Тот называл ее просто – «дитя». Бетховен желал встречи с Гете, говоря Беттине: «Стихи Гете сильно увлекают меня не только своим содержанием, но и ритмом. Его язык меня волнует и буквально понуждает к сочинительству. Из этого волнения возникает мелодия, и я должен разрабатывать ее.
Музыка – это как бы переводчик между духовной жизнью и нашими чувствами. Я хотел бы поговорить об этом с Гете, если бы мог рассчитывать быть понятым». Он закончил музыку к его трагедии «Эгмонт», которая должна была идти в венском театре. Побывав на исполнении его «Эгмонта», Беттина была потрясена последней частью, где исполняется монолог героя, призывающего поднять оружие против угнетателей страны (Нидерландов). Трагедию завершал победный и оптимистичный финал. Дирижировавший оркестром Бетховен походил на полководца, бросающего в решающую битву победоносные когорты. «Когда я увидела того, о ком хочу теперь тебе рассказать, – писала она Гете, – я забыла весь мир… Я хочу говорить тебе теперь о Бетховене, вблизи которого я забыла мир и даже тебя, о Гете! Правда, я человек незрелый, но я не ошибаюсь, когда говорю (этому не верит и этого не понимает пока что, пожалуй, никто), что он шагает далеко впереди всего человечества, и догоним ли мы его когда-нибудь?» Слова, сказанные от всего сердца!.[522]
В бетховенском творчестве нас привлекает характер его музыки – героический, возвышенный и одновременно трагический. Ее не спутаешь ни с чем. Он владел искусством говорить на этом языке. Нам близки великие, мятущиеся души, ибо в них чудятся низвергнутые, но не сломленные боги!
Исследователи отмечают, что в 1787 г. он был представлен Моцарту, который якобы тогда сказал: «Обратите внимание на этого человека, он когда-нибудь всех заставит о себе говорить». В его Первой симфонии заметно влияние Моцарта и Гайдна. Когда умер австрийский император Йозеф II, надгробие которого увенчает надпись «Здесь лежит тот, кто был несчастен во всех своих начинаниях», Бетховен откликнулся на его смерть кантатой, в которой уже слышны отзвуки его будущих симфоний.
В 1792 г. Бетховен переехал в Вену. То были годы франко-немецкой войны. В Вене он, видимо, окончательно понял глубокую истину: «Музыка – народная потребность» (Бетховен). Слушая его творения, понимаешь, что они «живой памятник науки и любви», науки потому, что он подходил к их написанию серьезно, как настоящий ученый. Первую симфонию он вынашивал девять лет.
Столь же бережно он носил в своем сердце любовь к Терезе Брунсвик. Мечта об этой женщине долгие годы сжигала его душу. Одиннадцать лет прошло после помолвки с нею, но их свадьба так и не состоялась. В конце концов, Тереза решила посвятить жизнь детям. В последнюю их встречу его «бессмертная возлюбленная» написала уже глухому Бетховену: «В моей жизни уже все решено. Если это не может быть Бетховен, значит, не может быть никто». Меломаны должны благодарить женщин за проникновенные, волшебные произведения Бетховена.
Людвиг Бетховен.
Соната до-диез минор una fantasia, названная «Лунной» (№ 14), посвящена дочери надворного советника Джульетте Гвиччарди. В письме Ф. Вегелеру он признавался, что эта 16-летняя девушка произвела в нем поразительные перемены: «У меня снова бывают светлые минуты, и я прихожу к убеждению, что женитьба может осчастливить человека». Посвящение «Лунной сонаты» Дж. Гвиччарди появилось зимой 1801–1802 года. В ней ощутимо слышится исповедь страдающего и любящего человека. Увы, его Джульетта изменила, предпочтя ему бездарного композитора, хотя и графа – Галленберга. Три дня гений бродил по лесу, ища одиночества, не желая есть или возвращаться домой. Такова же и его «Аппассионата» – вершина страсти, предсмертный клич орла, исповедь измученной души. Слушая эту музыку, слышишь пробудившийся вулкан. Кажется, что сама земля разверзлась.
Любовь гения осталась без ответа. «Гений среди общества – это страдание, это внутренний жар… если воздаяние славы не смягчит мучений». И все ж не стоит преувеличивать роли его возлюбленных. В жизни гения они пронеслись, словно причудливые тени, напоминая воздушные фантазии или сновидения. Возможно, это и к лучшему. Ведь та же Беттина, по свидетельству современников, была чрезвычайно экзальтированной особой, атаковавшей всех, кто отличался мощью ума и таланта (Гете, Бетховена, Шлейермахера, архитектора Шинкеля, Людвига Баварского, генерала Гнейзенау, дипломата и ученого Вильгельма фон Гумбольдта, историка Ранке, братьев Гримм, Листа и т. д.). И каждому из них она намеревалась подарить миртовую ветвь «славы и любви».
Удивительно, но смертные готовы дарить великим лишь то, чего у них самих нет и никогда не будет. Порой ее даже вынуждены были выставлять за дверь. С пылкостью истерички и нимфоманки она всем предлагала «молоко своих грудей». Так что не будем тешить себя иллюзиями. Бетховен прекрасно понимал истоки своего одиночества, говоря в письме Глейхенштейну: «Для тебя, бедный Бетховен, совсем нет счастья во внешнем мире; надо, чтобы ты создал его в себе самом; только лишь в мире идей найдешь ты друга». Увы, это так. Хотя Т. Брунсвик была совершенно иной натурой – мечтательной, резкой, одинокой. В чем-то она была сродни самому Бетховену, заметив в одном из писем к нему: «Вслед за гениями идут прежде всего те, кто умеет ценить их». Музыка – единственная его опора.
Бетховен упорно и целеустремленно шел своей дорогой, хотя в 1802 г. в Гейлигенштадте обострилась его болезнь. Глухота лишала его многих человеческих радостей: «Я глух… Для меня нет отдыха в человеческом обществе, нет приятных бесед, нет взаимных излияний. Я должен жить как изгнанник». Изгнанник среди людей часто избранник небес! Вторая симфония и в самом деле, казалось, написана небожителем. В ней слышны отзвуки гнева богов. Она потрясает смертных. Говорят, что слушавший ее отрывки Крейцер в ужасе покинул зал. Бетховен посвятил ему «Крейцерову сонату».
Любопытна история и с созданием Третьей симфонии (1804 г.), посвященной им Бонапарту (кстати, мысль о ее создании возникла у него во время бесед в Вене с Бернадоттом). Когда Бетховен писал ее, перед ним как бы витал образ дерзкого республиканца, генерала, уничтожившего пытку, вернувшего сосланных, отменившего цензуру, основавшего ряд университетов, покровителя наук, искусств и литературы, образ отважного человека, некогда воскликнувшего: «Французская республика в Европе подобна солнцу на небосводе; она не нуждается в признании».
На самом деле уже тогда это был совершенно иной человек – Наполеон. Императоры гениев не любят. Гении отвечают им тем же. Бетховен разорвал титульный лист с посвящением корсиканцу и дал своему произведению иное название – «Героическая». Для посвящения Наполеону больше подошла бы Пятая симфония, самая воинственная, названная самим Бетховеном симфонией судьбы. Кстати говоря, когда князь Лихновский пытался заставить его сыграть перед захватчиками-французами, Бетховен чуть не разбил стул о его голову, заявив князю: «Как жаль, что военным искусством я не владею так же, как музыкальным. А то я бы его (Наполеона) победил!»
Ромен Роллан безусловно был прав, поставив талант Бетховена гораздо выше талантов Наполеона. Он написал: «Какая победа может сравниться с этой победой? Какое сражение Бонапарта достигает славы этого сверхчеловеческого труда, этого блестящего успеха, который когда-нибудь одерживал человеческий дух! Страдающий, неимущий, больной и одинокий человек, которому жизнь отказывала в радостях, сам творит радость, чтобы даровать ее миру».
Австрия стала для композитора благодатной землей, «вторым отечеством» (хотя он и бранил ее на исходе своих дней). Здесь расцвел талант, как-то наладилась жизнь. Сколько несчастий, бед и разочарований выносит художник, преследуемый демонами нищеты. Но король Вестфальский предложил Бетховену пожизненное жалованье в 600 дукатов золотом и 150 дукатов на проезд с единственной просьбой – порой играть для него и управлять его придворными концертами. Ряд сановных особ (эрцгерцог Рудольф и другие) предложили ему контракт, по которому ему ежегодно выплачивалось бы 4000 гульденов. В документе говорилось: «Деятельность г. Людвига ван Бетховена постоянно убеждает нас в необычайности его композиторского гения и внушает нам мысль о содействии ему… – Так как только обеспеченный в материальном отношении человек может посвятить себя искусству и только при этом условии может создать великие и вдохновенные произведения во славу искусства, то нижеподписавшиеся решили избавить г. Людвига ван Бетховена от подобных забот и устранить жалкие препятствия, мешающие развитию его гения».
Замечательно, что венская аристократия в лице триумвиров поняла всю значимость пребывания в их стране гения такого масштаба. Отметим щедрость и благородство вельмож. В документе сказано, что если «неблагоприятные обстоятельства и старость помешают ему заниматься музыкою, то нижеподписавшиеся обязываются выдавать ему эту сумму пожизненно».
Конечно, чтоб найти путь к сердцу рядовых австрийцев, приходилось писать не только гениальные произведения. Таково «Сражение при Виттории», написанное в честь победы Веллингтона над французами 21 июня 1813 г. История его написания такова.
В эпоху наполеоновских войн музыкальные изображения сражений были в моде. И вот к Бетховену обратился пианист и музыкант Мельцель, изобретатель многих приборов, привлекавших в его музей тысячи любопытных посетителей (тут был и автоматический игрок в шахматы Кемпелена, однажды обыгравший Наполеона). Тот изобрел пангармонику, огромных размеров шарманку с 42 инструментами, и мечтал удивить ею Европу, а заодно выгодно продать (первый инструмент продал в Париже, второй надеялся сбыть в Лондоне).
Для показа инструмента в действии ему нужна эффектная и шумная пьеска патриотического содержания, приятная слуху англичан. Он и привлек к делу Бетховена, пообещав изготовить для него слуховые приборы. Бетховен откликнулся, написав пьесу, которую потом сам же и назвал «вздорной».
Произведение, в котором слышны отголоски английских мелодий Rule Brittania и God save the King, неожиданно возымело бешеный успех у публики. Концерт имел благотворительную цель: помощь раненым солдатам австрийской и баварской армий. В нем приняли участие лучшие музыканты. Тогда же была исполнена и 7 симфония Бетховена. Это еще более упрочило его славу. Шиндлер писал: «Кроме некоторых специалистов, все, кто не признавал Бетховена до сих пор, находили теперь его достойным лаврового венка».
В обыденной жизни Бетховен, как и всякий смертный, был далеко не столь совершенен. Притчей во языцех стала его рассеянность. Он был очень забывчив, повсюду оставляя свои шляпы, кошельки и рукописи. Бывало, иные из нот («Торжественная Месса») оказывались отнюдь не в торжественном месте. Он был небрежен в одежде до такой степени, что однажды его задержали, как бродягу, продержав ночь в камере. Но он любил людей и был готов заключить в свои объятья «весь мир, друзей и братьев, и всю природу». Естественно, он готов был заключить в объятья и всех девиц, что попадались ему на пути. Хотя женщин замужних обходил стороной, относясь к чужому браку с большим почтением (что не мешало ему испытывать глубокую страсть к замужней красавице Марии Биге). Единственная его опера написана им на тему супружеской любви, самопожертвования и верности. Бетховен очень обижался на Моцарта за то, что тот создал оперу на столь безнравственный сюжет, как «Дон Жуан» (хотя и боготворил его во всем остальном).
Из музыкантов преклонялся перед Моцартом, Генделем, Гайдном, знал произведения Баха, Керубини, изучал образцы древнееврейской музыки.
В пище земной он был неприхотлив, обожая макароны с сыром-пармезаном, рыбу, кофе и чистую ключевую воду. Крепких спиртных напитков обычно избегал, ограничивая «сиесту» трубкой, кружкой пива или стаканом вина. В кругу друзей обсуждались новинки литературы, науки, политики. Иногда любил поболтать о политике и о будущности Европы. Слышались фразы: «Бог – всего лишь марионетка, которая никогда не спускалась на землю»; «Крупные банкиры держат в своих руках все правительства»; «Через пятьдесят лет будут лишь одни республики». По темпераменту Бетховен мог быть причислен к революционерам в культуре. Один из его друзей даже предрекал ему в шутливой форме: «Вы умрете на эшафоте!»
Бетховен питал глубокое уважение к героям Великой Французской революции, как и к героям Древнего Рима (Плутарху). Письменный стол композитора украшал бюст Брута, избавившего страну от деспотизма Цезаря. А над его письменным столом висели изречения, обнаруженные в древнем храме Египта Шампольоном. Если в Гете никогда не умирал хитрый, ловкий сановник, то в Бетховене жил бунтарь.
Однажды летом 1811 г. в Теплице собралось блестящее общество (императоры и императрицы, короли, герцоги, князья, сановники). Здесь и произошла долгожданная встреча двух великих. Бетховен считал себя почитателем Гете и ожидал с ним знакомства. В свою очередь и Гете был наслышан о Бетховене, чей образ к тому времени обрел ореол гения. Вот как описывает один из биографов знакомство: «После первых же встреч оба были разочарованы, каждый по-своему и в иной степени; царь поэтов оказался поэтом царей, чиновником, полным эгоизма, олимпийского величия в толпе и низкопоклонства при дворе: шестидесятилетний сановник, бывший министр, щеголявший стилистикой своей часто напыщенной речи, не мог полюбить и расположить к себе свободолюбивого и пылкого, несмотря на сорокалетний возраст, артиста, непринужденная речь которого была полна простонародных выражений рейнского наречия.
Спустя несколько дней после их первой встречи Бетховен уже проявил свою откровенность, оскорбившую веймарского министра. Гуляя с Гете по аллеям парка, композитор с увлечением рассказывал ему что-то и неохотно отвечал на поклоны знакомых своих, тогда как Гете исправно снимал свой цилиндр при каждом приветствии прохожих. Недовольный чрезмерным вниманием собеседника к публике, композитор взял его за руку и заметил: «Не беспокойтесь. Эти поклоны обращены ко мне». Это не было грубостью. Скорее, тут видим два типа отношения к жизни. Гете понял: Бетховен чужд нормам его жизни, и не упомянул в автобиографии имени композитора.[523]
Большой талант должен пройти испытание славой. Премьер-министр Франции Э. Эррио (1872–1957), написавший увлекательную книгу о Бетховене, говорил в ней о влиянии этого композитора на жизнь эпохи: «Эпоха была словно испугана таким изобилием шедевров, задуманных и созданных всего только за три-четыре года; не кажется ли это каким-то человеческим чудом? И можем ли мы почерпнуть подобный пример в истории какого-либо искусства?
Слово гений, слишком часто опошляемое, на этот раз обретает весь свой смысл. Одинокий даже среди друзей, которых его нрав приводил в замешательство, то восторженный, то отчаивающийся, поставленный враждебной судьбой перед ужасной угрозой, поэт более глубокий, чем Шиллер и Гете, – он повелевает ураганными вихрями «Героической» или «Аппассионаты».
К 1814 году популярность Бетховена, казалось, достигла апогея. В Вене созывается Венский конгресс, и торжества предваряет исполнение бетховенского «Фиделио». Наполеон пребывал на Эльбе, а в Европе царил Бетховен. В Англии даже родился афоризм, быстро облетевший все страны: «Бог один и Бетховен один!». «Ни один царь, ни один король, – писала о нем уже упомянутая Б. Брентано близкому другу Гете, – не осознает так своего могущества, не чувствует, что вся могучая сила кроется в нем самом, как этот Бетховен!» Весь мир лежал у ног Бетховена.
Но он знал цену всем этим придворным милостям. Сегодня ты угоден, а завтра? «Общество, – писал он, – это король, и оно любит, чтобы ему льстили; оно осыпает за это своими милостями». Подлинное искусство обладает чувством достоинства и не поддается лести. «Знаменитые художники всегда в плену, вот почему их первые произведения – самые лучшие, хотя они и возникли из тьмы подсознания». От щедрот власти лучше держаться подальше, если не хочешь погубить талант: «если у меня не будет ни единого крейцера и если мне предложат все сокровица мира, я не свяжу своей свободы, не наложу оков на свое вдохновение».[524]
Впрочем, нищета ему не грозила. Хотя Франц-Иосиф говорил, что короли нуждаются не в гениях, а в верноподданных, это, разумеется, не так. Грош цена любому монарху, если его правлению не сопутствуют слава и гений творцов и художников. Надо сказать, что некоторые коронованные особы это понимали. Р. Вагнер многим был обязан Людвигу II. Не был обделен вниманием и Бетховен. Известно, что композитора охотно принимал у себя во дворце даже русский посол в Вене граф А. К. Разумовский. По его заказу написаны квартеты (опус 59). Великолепный сибарит был меломаном, тонким ценителем музыки. Он дружил со стариком Гайдном, помогал Моцарту, приглашал того в Россию.
Квартеты Разумовского являются вершиной квартетной музыки. Вот как говорит об этой бетховенской вещи Б. Кремнев: «Работая над квартетами Разумовского, он как бы заглянул в душу незнакомого народа. Песни, с которыми он познакомился по сборнику Львова-Прача, отражали красивую и светлую душу русских. Некоторые из этих напевов он дословно использовал в своем сочинении. В Седьмом квартете звучит веселая русская песня «Ах, талан, мой талан», Восьмой квартет украшает торжественная величальная «Слава». Три квартета опус 59 открывают новую, знаменательную страницу не только в творчестве Бетховена, но и во всей мировой музыке. В них тонкий психологизм и эпическая широта сплетаются с философским раздумьем». Скажем и о том, что Бетховен посвятил Три сонаты для фортепиано и скрипки (соч. 30) русскому императору Александру I.[525]
В связи с судьбой великого маэстро уместно остановиться на том значении, которое люди вкладывают в слово «авторитет». Что же он собой представляет? Есть авторитеты политика, генерала, банкира, государственного деятеля, инженера, ученого. Многие из них ненадежны, хрупки и условны. Стоит политику потерпеть поражение в схватке за место – и он перестает существовать как личность. Если генерал или командующий проиграл сражение (или тем более всю кампанию), его отдадут под суд, или же, если он человек чести, ему остается одно – пустить себе пулю в лоб. Если банкир окажется несостоятельным, его ждут тюрьма или бега. Ученый-неудачник может запросто стать посмешищем научного сообщества.
А что происходит с художником, мастером культуры? Сложность его позиции в том, что ему все время приходится выбирать между верностью правде и народу, с одной стороны, и лояльностью к власти и деньгам – с другой. Редкий художник находит в себе достаточно сил, чтобы возвыситься над последними. Те же, словно чудовища Сцилла и Харибда, поджидают его на трудном пути к заветному «золотому руно». Большинство нынешних «мастеров культуры», напротив, словно безвольные овцы, готовы сами прыгнуть в пасть того или иного «чудища».
Чем масштабнее фигура, тем больше желающих принизить или оскорбить его творчество. Толпа не выносит ни духовного, ни умственного превосходства. Поэтому зачастую искусство выдающихся писателей, художников, музыкантов чуждо уму и сердцу обывателя. Тому мы имеем массу подтверждений.
Во французской прессе в конце XIX и в начале XX вв. даже возобладала точка зрения, согласно которой в лице Бетховена человечество обрело «великого, но громоздкого гения», с которым лучше не иметь дела (мол, мелкие, неинтересные темы и банальные гармонии). А композитор К. Дебюсси назвал Бетховена «варваром». Истина – пробный камень себя самой и лжи (Спиноза). «Бумага – не жид», она все стерпит (Бетховен).
В чем тут дело? Видимо, музыка должна быть созвучна времени. Композитор Г. Берлиоз в «Мемуарах», что порой сравниваются с «Исповедью» Руссо (о котором Флобер сказал Мопассану так: «Вот человек! Как он ненавидел буржуа! Почище Бальзака!»), писал о том, как все эти господа встретили творения гениального Бетховена: «В течение нескольких дней, которые я провел в Штутгарте в ожидании писем из Веймара, в большом зале Редут под управлением Линдпайнтнера был дан блестящий концерт, и я во второй раз имел случай убедиться в той холодности, с какой имущая немецкая публика реагирует на самые глубочайшие замыслы великого Бетховена. Увертюра «Леонора», произведение поистине монументальное, исполнявшееся с редким вдохновением и точностью, было принято сдержанно, и я сам слышал вечером, за табльдотом, как один господин выражал неудовольствие, почему не дают симфонии Гайдна вместо этой грубой музыки, где совсем нет мелодии!!!».[526]
Бетховен и Гёте.