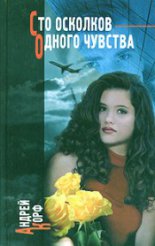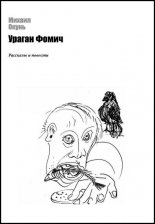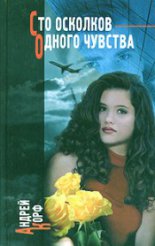Война с Востока. Книга об афганском походе Проханов Александр
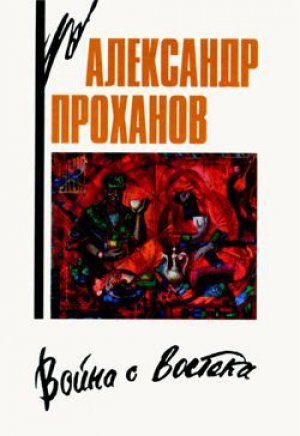
– Грузи его на корму!.. Тросом его приторачивай!.. – командовал деловито Татьянушкин.
Они опять катили по шоссе. Калмыков оглядывался на корму «бэтээра», где пузырились белые шаровары убитого, перечеркнутые масляным тросом. Передавал по рации ротным:
– Я – «Тула»!.. Всем коробкам развернуть пулеметы «елочкой»! Личный состав под броню!.. Как поняли меня?… Прием!..
Видел, как транспортеры и боевые машины разворачивают дула в разные стороны. Ведут вдоль обочин вороненой сталью.
В отрочестве ожидание любви, ее предчувствие, выкликание усиливалось летом, когда заканчивались занятия в школе и он уезжал в деревню. Зимой, в тесной квартире, в мотаниях по огромному городу, в толпе, в школьной суете это чувство было мукой, страданием, почти позором. А в деревне, на просторе, среди теплой, чудесной, зеленой природы это ожидание и выкликание любви превратилось в сладостное переживание, в творчество, волшебство.
Он купался, плавал в темно-зеленом омуте в стороне от глаз. Ждал – вот-вот в воде среди водорослей, пузырьков появится чудная женщина и он прижмется к ней. Ее мокрые белые руки обнимут его, мокрые длинные волосы прилипнут к его груди. Пробиваясь в травах, вдоль зеленой занавески колосьев, среди стрекоз, желтых бабочек, сладко-душистой пыльцы, он ждал: на розовой тропке появится женщина в сухом легком ситце, с босыми, в белой пыли ногами, с выгоревшими чудно-золотистыми волосами. Белозубо улыбнется ему, и он прижмется лицом к ее смуглому, с белой ложбинкой вырезу на груди, вдохнет ее теплый чудесный аромат.
Он умолял реку, цветы на опушке, вечернюю звезду в зеленоватом небе – умолял послать ему любимую. И эта мольба, это выкликание было древним, языческим, сказочным, и он знал – еще немного, еще несколько дней и ночей, и любимая явится.
Они оставили труп мятежника на ближайшем придорожном посту. На броне, где висело притороченное тросом тело, осталось влажное липкое пятно. На него налетела сухая, как пудра, пыль. Солнце и ветер высушили кровь, и Калмыков, оглядывая колонну, видел корму «бэтээра» с серым пыльным пятном.
В Кабуле они оказались внезапно. Вдруг кончились мерцающие поля и арыки, глиняные лепные дувалы, и их обступил многошумный пестрый копошащийся город, со множеством лиц, лавок, пестрых одежд, вывесок, медных вспышек, трескучих дымных колясок. Стало тесно, душно, шумно. Катились навстречу юркие желто-белые такси, бежали ишаки, семенили впряженные в двуколки рикши. И над всем в ослепительной синеве возвышались две каменные скалы, чьи вершины чуть серебрились от снега.
– Я – «Тула»! Я – «Тула»! – взывал Калмыков по рации, страшась этого шумного многолюдья, в которое врезалась колонна. – Механики-водители, зорче!
Он пугался близких выруливающих велосипедистов, боялся услышать хруст разбитого, раздавленного тела, звон переломанных спиц. И восхищался, возбуждался видом фантастического азиатского города, куда внезапно его поместили.
По скалам клетчато, чешуйчато теснились лепные дома. Вверху, в синеве, превращались в кромки острых поднебесных камней. Казалось, город помещен в огромной раскрытой раковине, чьи перламутровые створки растворились в синее небо, а внутри живет и дышит сочный тысячеглазый моллюск.
Он следил за легковой машиной, возглавлявшей колонну, боясь ее потерять, и тогда он вместе с батальоном потеряется, заблудится среди этого многоликого скопища. Связывался с командирами рот, принимал от них сообщения, во все глаза смотрел на мелькающий фантастический город.
Проехали лавку, освещенную в глубине, напоминавшую маленькую разноцветную сцену, где среди коробок, наклеек, банок и фляг сидел краснолицый торговец, что-то взвешивал на медных зыбких весах.
На тротуаре, на коврике, сидел человек с наклоненной головой, длинной вытянутой шеей. Другой человек намыливал его макушку, заносил над ней тонкое лезвие бритвы.
У крана с водой водоноша с морщинистым, усталым лицом подставлял под бегущую струю кожаный бурдюк, наполнял его сквозь горловину. Другой водоноша, жилистый, мокрый, в кожаном фартуке, навьючивал на себя полный, отекавший капелью бурдюк, устремлялся в узенькую, ведущую в гору улицу.
Голоногий, в грязной повязке парень, с выпуклой мускулистой грудью, толкал перед собой двуколку с горой оранжевых апельсинов. Тут же на этой повозке, как маленькая недвижная статуя, восседал старичок. Его лицо было похоже на желтую сухую луковицу.
В одном месте колеса и гусеницы колонны прошли по грязной земле, на которой лежали черно-красные драгоценные ковры. Калмыков испугался, как бы сталь гусениц не задела, не истерзала сочный узорный ворох. В другом месте из лавки глянул на него рыжеполосатый лобастый тигр – шкура, выставленная в витрину, напоминала зверя в прыжке.
Они катили сквозь глинобитные теснины домов, мечетей и рынков, попадали то в дым жаровен, то в облако визгливых громогласных мелодий. Калмыков изумлялся: лишь вчера он был в своем родном гарнизоне, в знакомой стране и земле, потом погрузился на транспорт и летел на белую немую луну, ожидая оказаться среди остывших и мертвых пустынь, а оказался в громогласном горячем городе. Это и была та луна, на которую он прилетел, не в пустыню и льды, а в тысячную толпу, в музыку, в дым жаровен. Луна была населена смуглолицым народом, клубившимся у мечетей и рынков.
Они проехали Кабул насквозь, обогнули помпезные смугло-желтые палаты и оказались среди пригородных холмов, где были остановлены у шлагбаума. Навстречу из караульной будки вышли офицеры, и среди них высокий, костистый, в фуражке с высокой тульей, с красными галунами. Здороваясь с ним, козырнув и пожав протянутую руку, Калмыков ощутил брызнувшую на него едкую неприязнь. Губы офицера брезгливо улыбались, а глаза остро и зло бегали по колонне, тревожно пересчитывали машины, солдат. Калмыков поразился его руке – огромной, костистой, цепкой, словно хватающей кузнечные инструменты.
– Начальник гвардии полковник Джандат! – Татьянушкин знакомил с ним Калмыкова. – Товарищ Джандат, спецбатальон прибыл в ваше распоряжение!
Джандат не понимал по-русски. Переводчик Николай переводил, и тот кивал, улыбался, бегал жгучими подозревающими глазами по остановившимся машинам.
– Полковник Джандат просит проследовать в район дислокации и строго придерживаться режима и распорядка при несении охранных функций. Не покидать без разрешения казарм. Все перемещения в зоне ответственности производить с личного разрешения начальника гвардии!
Эта встреча удивила и раздражила Калмыкова. Казалось, его не хотели здесь видеть. Он был навязан извне. С его появлением надлежало мириться, но никак не радоваться его появлению.
– Вечером, после размещения, товарищ Джандат встретится с командиром батальона и подробно расскажет о несении службы…
Колонну пропустили сквозь пост, провели по холмистым распадкам, остановили у двух длинных недостроенных казарменных строений. Саманные стены были в грязных потеках. Окна зияли без стекол. Вместо дверей сквозила пустота. Полы, неоструганные, были в грудах тряпья и мусора.
– Вот ваше жилье, подполковник! – Татьянушкин виновато указывал на казармы, будто это он по оплошности обрек соотечественников на неудобства. – Обживетесь, обогреетесь!
– Обживемся, – соглашался Калмыков, уже весь в заботах о батальоне, разыскивая глазами начальника штаба. – Как с продуктами? С топливом?
– Завтра в посольстве вам выдадут деньги. Будете отовариваться сами на рынке. Солярка и дрова – из Союза! Уж очень здесь дрова дорогие!
Он попрощался, синеглазый, виноватый, обещая завтра приехать. Калмыков остался среди саманных казарм, расставлял машины у подножия холмов, отдавал приказы ротным. И уже расторопные солдаты, покрикивая, натягивали в оконных проемах плотный брезент, занавешивали двери пологом. И уже гудели печурки, наполняя промозглые помещения теплом и гарью. И ротный Грязнов, напускаясь на взводных, орал:
– Сортиры отрыть в количестве четырех!.. Дистанция – сорок метров!.. Если увижу, кто мочится у казармы, буду бить в лоб без предупреждения!..
Работа кипела, батальон обживался на чужой стороне, привез в незнакомую землю свой уклад, свой способ жить. Калмыков был рад этой суетливой, осмысленной работе. Бодрил солдат, покрикивал на офицеров. Обогнул казармы, направился вверх по холму, желая осмотреть окрестность.
Он поднялся по каменистой тропке, по серому пыльно-сухому склону, захватывая взглядом все больший простор окрестных солнечных гор, туманных лощин, далеких, чуть видных селений. Взошел на вершину и замер. Перед ним через тенистую низину на озаренном холме, бело-желтый, снежно-янтарный, стоял Дворец, стройный, легкий, с драгоценным мерцанием стекол. Он был похож на женщину в кружевах вокруг обнаженной шеи, с наброшенным на высокие нежные плечи платком, с самоцветами бус и браслетов.
Дворец возник так внезапно, был так прекрасен, знаком, из каких-то детских видений, из тревожных юношеских снов, из недавних предчувствий. Калмыков на вершине холма испытал мгновенное восхищение, будто от Дворца принеслись к нему, неслышно ударили в сердце лучи, стали мягко опрокидывать навзничь.
Это был тот самый Дворец, во имя которого он, Калмыков, колесил по пустыне, стрелял, зарывался в песок, изводил себя в непосильных трудах. К этому Дворцу, на его притяжение летели в ночи самолеты. Здесь, у Дворца, в грязных казармах разместились солдаты, чтобы беречь его и хранить. Этот чудный Дворец привиделся ему в ночное мгновение среди женских объятий и шепотов. Об этом Дворце поведали карты в руках у гадалки Розы.
И теперь Калмыков стоял в горах загадочной азиатской страны и смотрел на бело-желтое диво, на восточный Дворец.
– Товарищ подполковник!.. – кричал ему снизу прапорщик. – Вам где койку поставить?… Посмотрите и сами скажите!..
Он спускался обратно в долину, к людям, к машинам, неся в себе солнечное видение Дворца.
Глава седьмая
Он шел по опушке между зелеными ржавыми колосьями и молодыми лесными дубками. Бабочка-капустница опустилась на цветок красной лесной гераньки, распластала белые крыльца, воздела мохнатое тельце, и другая бабочка страстно на нее налетела, била ее крыльями, обнимала темными лапками, и два их тельца, пульсируя, содрогались, стремились прильнуть друг к другу.
Он услышал хрип, чмоканье, тяжелое простуженное дыхание. В колосьях, поломав, промяв рожь, рядом с пустой бутылкой, с яичной скорлупой, с ворохом белья, лежали мужчина и женщина. Бросились в глаза его худые подвижные ягодицы, острые, ходящие ходуном лопатки, желтые грязные носки на женских ногах.
Он ослеп, ужаснулся, остолбенел перед стеклянной стеной, за которой бились два опрокинутых тела. Женские руки обнимали мужские ребра. Две близкие растрепанные головы колотились друг о друга тупыми ударами.
Мужчина заметил его, оторвался от женщины, выгибаясь над ней. Повернул к нему красные выпученные глаза. Гнал его прочь своим стоном, кашлем, и он, очнувшись, побежал сквозь поле, просекая колосья, все дальше и дальше от ужасного хрипа, пустой на траве бутылки, от желтых, с грязными пятками, носков.
Начальник гвардии Джандат явился не к вечеру, как обещал, а наутро. Теперь он казался более приветливым. Выслушал доклад Калмыкова, приобнял его, и они трижды коснулись щекой щеки.
– Товарищ Джандат предлагает вместе объехать зону ответственности, – Валех, заместитель Джандата, переводил рокочущую речь начальника гвардии. Своим милым толстогубым лицом излучал радость от встречи с Калмыковым, влажными женскими глазами извинялся за резкость и нелюбезность командира. – Товарищ Джандат просит убрать «бэтээры» в низину, чтобы они без его разрешения не покидали места стоянки.
Калмыкова опять поразили громадные костистые руки Джандата, похожие на вагонные сцепки. Он отдал распоряжение начальнику штаба, видел, как кинулись к люкам механики, запустили моторы, отгоняя машины с удобной ровной площадки вниз, в пересохшее, каменистое русло ручья. Сел в машину за спиной у Джандата, и они покатили по холмам и низинам, и Дворец то возникал в прозрачном утреннем солнце, похожий на туманный мираж, то исчезал, словно его проглатывала и поглощала земля.
Они осматривали снаружи казармы гвардейцев, длинные, выкрашенные в серое саманные блоки, перед которыми на плацу маршировали солдаты. На дозорных вышках торчали пулеметы, и комбат прикинул: в казармах могло разместиться несколько тысяч гвардейцев.
Они объехали подножие горы, увенчанной бело-желтым Дворцом, и на склоне, пушками в разные стороны, стояли врытые танки. К ним вела змеиная тропка, танкисты тащили вверх котлы с завтраком, громко переговаривались.
Обогнув гору, проскользнули сквозь заросли безлистых деревьев, на которых перепархивали маленькие розовые горлицы. Осмотрели расположение зенитных батарей – четырехствольные установки были окружены брустверами, прикрыты маскировочной сетью. Офицер при их появлении отдал гортанную команду, и солдаты, побросав завтрак, выстроились у орудий, худые, смуглые, в мохнатой грубошерстной форме, как и он сам, Калмыков.
Они осмотрели всю территорию вокруг Дворца, с гладкими асфальтовыми дорогами, с грунтовой колеей, и везде были посты, явные и открытые. Калмыков натренированным взглядом оценивал их численность, направление, которое они прикрывали, плотность и эффективность обороны, куда влился и его батальон, увеличивая мощь защиты.
Ко Дворцу, к вершине, вел серпантин с колоннами, троекратно опоясывал гору, приближался к высокому порталу с колоннами, завершался парадным въездом, куда подъезжали машины. Туда же, к порталу, от подножия горы к вершине, вела крутая многоступенчатая лестница с маленькими площадками, на которых стояли часовые. Фасад Дворца с великолепием хрустальных окон, лепных наличников смотрел на розовый сад, посаженный на круче. По этому саду, мелькая в голых яблонях, вела неверная зыбкая тропка. Все подступы ко Дворцу были плотно прикрыты, укреплены, простреливались из пулеметов и танковых пушек.
– Кто потенциальный противник? Где самые опасные направления? – выспрашивал Калмыков у Джандата, когда они стояли на маленькой тесной площадке, разглядывая туманный Кабул, горы в солнечной дымке, горлинок в бледном небе. – Кто может атаковать объект?
– Горы! Мятежники! Люди Гульбетдина! – Валех переводил ответ начальника гвардии, указывающего костлявым пальцем в сторону розоватых вершин. – Кабул! Много врагов! Люди Бабрака Кармаля! Предатели партии! – Бугристый палец был направлен в сторону города, его туманных мерцаний и вспышек. – Небо! Пакистан! «Ф-15»! – Палец был воздет к небесам, где ворковали, топорщили стеклянное оперение нежные круглоголовые горлинки. – Товарищ Амин переедет Дворец через одна неделя. Будем вместе держать охрану. Товарищ Хафизулла Амин большой друг Советский Союз. Афганистан, Советский Союз делаем одна революция!
Джандат положил руку на плечо Калмыкова, и тот сквозь толстую мягкую ткань ощутил костяное сжатие пальцев.
Он проводил свои школьные каникулы в маленьком городке, и на пирушке, где гуляли местные телефонисты, медсестры, студенты техникума, познакомился с курносой хохотушкой. Она угощала его пирогом, подкладывала вкусные рыжики. Он выпил одну за другой несколько блестящих стопок, видел, как близко от глаз дышит ее загорелая шея с синими стекляшками, как пунцово светится мочка ее уха, проколотая сережкой.
Когда все танцевали, она увлекла его в темень улицы, повела по ночным деревянным тротуарам к реке, к шаткому подвесному мосту. Переступая по зыбким настилам, видя впереди ее светлое платье, он знал – сейчас случится долгожданное, желанное, страшное.
Она ввела его в домик, в темную душную комнату, освещенную слабым зеленоватым светом уличного фонаря. Пока она ходила в коридоре, шлепала босыми ногами, он вдыхал слабые незнакомые запахи, рассматривал желтевшую на стене гитару, кровать со старинными хромированными шарами, высокие остроугольные подушки.
Она возникла перед ним в темноте, босая, простоволосая. Он подошел, поднял ее пухлые руки, стал целовать ее шершавые пальцы, локти, плечи под короткими кружевными рукавчиками и близкую шею с бусами. Она улыбалась, гладила его по голове, повторяла: «Дурачок!.. Вот дурачок!»
Он поднял ее, тяжелую, смеющуюся, донес до кровати, уложил на подушку. Она с подушки тихо смеялась, помогала ему, убирала из-под его губ бусы, сильно прижимала к своему горячему, подвижному под тонкой тканью телу.
А он, касаясь ее гладкой кожи, ее бедер, скользя пальцами по ее дышащему животу, натолкнулся на волнистую, жесткую кудель лобка и вдруг почувствовал, как бесшумно взорвалась слепящая вспышка, вырвалась горячей болью, стоном. Он упал головой в подушку, переживая свой позор, свое несчастье, ненавидя и ее и себя, ее испуганный шепот, запах ее жаркого возбужденного тела.
Приехал Татьянушкин, расторопный, жизнелюбивый, в нарядной куртке, в красивом галстуке, распространяя вокруг вкусный запах одеколона.
– Да у вас зимовье отличное! – восхищался он убранными, утепленными казармами, где на выметенных полах лежали матрасы, а на длинные потолочные слеги вместо отсутствующих досок был натянут брезент. – Выпишем из Союза двухъярусные коечки, проведем электричество – и курорт! – Его синие смеющиеся глаза смотрели открыто и дружелюбно. Калмыкову важно было видеть их веселое, уверенное выражение. Оно подтверждало: все идет по правильной, продуманной программе. Он, комбат, поступает благоразумно и верно, а если по неведению вдруг начнет ошибаться, здесь, в чужом городе, есть друзья, соотечественники, умудренные, опытные. Они помогут советом и делом.
– Сейчас в гражданское переоденьтесь, едем в посольство, получим валюту. А потом на рынок, отоваритесь местным харчем. Не все же на сухпай нажимать!
Они выехали из расположения батальона. Калмыков и Татьянушкин на «тойоте» с витиеватым афганским номером, а следом за ними – военный грузовик с солдатами и прапорщиком – на базар, за хлебом и мясом.
Город казался таким же фантастическим, гончарно-золотистым и красным, будто дома и люди побывали в печи, и их обожгло, прокалило, покрыло глазурью.
В советском посольстве, нарядно-белом, с обилием мрамора, среди быстрых моложавых людей они повстречали тучного чернявого человека, чьи волосы редкими сальными кольцами прилегали ко лбу, курносое лицо было румяно, с прозрачно-жирным колыханием щек, а маленькие плутоватые глаза насмешливо и колюче блестели.
– Ну что, встретили своих оловянных солдатиков? – остановил он Татьянушкина, погружая его руку в свои пухлые лапы. – Генералы прислали вам свой гостинчик?
– Прошу, командир батальона! – Татьянушкин, прерывая его бестактность, представил Калмыкова. – А это секретарь посольства Квасов.
– Рад познакомиться! – как ни в чем не бывало повернулся человек к Калмыкову. – Важно обозначить военное присутствие, а уж потом посмотрим, что из этого выйдет!.. Ну, еще встретимся, будьте здоровы! – И он покатился по мраморным ступеням, рыхлый, хитрый, довольный собой, оставив у Калмыкова смутное чувство тревоги и неприязни.
Калмыков получил у начфина толстую кипу денег, зеленые и красные купюры, от которых исходил странный горьковато-миндальный запах. Расписался в книге и, покинув посольство, вместе с Татьянушкиным отправился на базар за покупками.
Прежде он видел необильные среднерусские рынки, где в картофельных рядах рязанские тетки в платках плюхали на весы железные гири, а на мясных прилавках два-три мужика, выставив обрубленные свинячьи головы, аккуратно разворачивали из марли соленые бело-розовые окорока. Видел и обильные среднеазиатские рынки с горами винограда и яблок, с расквашенными арбузами и дынями, пряным духом солений. Но рынок Кабула, куда привел его Татьянушкин, был иным, невиданным.
Словно в земле раскрылись щели и трещины и оттуда, из неисчерпаемых глубин, вываливал ось людское варево, бурлило, клокотало, как лава, заселяло землю горбоносыми, черноглазыми, темнобородыми людьми в повязках, чалмах, в тюрбанах, в плещущих шароварах, в безрукавках, в долгополых балахонах. Все это множество толпилось, обступало лавки, приценивалось, присматривалось, било по рукам, вскрикивало, смеялось, гневалось, считало деньги, хватало кули, сердито плевалось, усаживалось в чайхане и снова текло в проулках, лабиринтах громадного восточного рынка, над которым возносился зеленый глянцевитый минарет, похожий на прозрачную солнечную сосульку.
Татьянушкин вел его вдоль рядов, где на лотках и прилавках лежали огненные цитрусы, смугло-красные промытые яблоки, ржаво-железные заскорузлые гранаты, сине-восковые виноградные гроздья. Все это благоухало, отекало соком и сладостью. Торговцы с кирпично-красными лицами казались опьяневшими от медовых ароматов. Их фиолетовые губы под черными усами склеились от медового сахара.
– Привет, Зденек! – Татьянушкин окликнул молодого белолицего человека, выбиравшего фрукты. – Я тебе звонил, не застал. А ты вон чем лакомишься!.. Познакомься, мой друг из Союза Калмыков!.. А это Зденек Новотный, чешский экономсоветник!..
Вместе с советником был второй чех, немолодой, полный, в кожаной кепочке, с добрыми подслеповатыми глазками, в чьей сумке торчали ворохи зеленой травы, сине-стальные перья лука.
– Как Ирэна? Как Владек? – расспрашивал о ком-то Татьянушкин. Калмыков не хотел отвлекаться на эту случайную, совсем ему ненужную встречу. Смотрел на влажные, сгнившие от фруктового сока доски прилавка, на которых пламенел разрезанный арбуз. Торговец маленьким ножичком вырезал из мякоти сочные брусочки, отправлял себе в рот под усы, выплевывал сквозь белые зубы черные скользкие косточки.
– Заходи на виллу, выпьем, обменяемся новостями!.. Ирэне привет! – прощался Татьянушкин. Оба чеха кланялись, улыбались, и второй приподнял с лысой розовой головы кожаную кепочку.
В мясных рядах, на крюках, на воздетых шестах висели туши и полутуши, красные, ребристые, с обрубками ног, с перламутровыми жилами. На прилавках бугрились в тазах кишки, овечьи сердца, склизкие зелено-черные печени и лиловые почки. Пахло кровью, плотью, парным нутром, смертью, мочой и пометом. В загонах жались и блеяли обреченные на заклание овцы, а над ними висели мокрые шкуры только что забитых и освежеванных животных. Утоптанный грунт был черным от впитавшейся крови. Ее проливали здесь многие десятки лет, и земля напоминала кровавую засохшую коросту.
В мясных рядах Татьянушкин нашел быстроглазого молодого торговца в ковровой шапочке. Сердясь, уходя и опять возвращаясь, сторговал для батальона десяток овечьих туш. Отобрал у Калмыкова пачку денег, отсчитал купюры, передал торговцу, приговаривая:
– Ты, Сайд, запомни моего друга!.. Шурави!.. Цену назначай, как сегодня!.. Если будешь обманывать, Аллах тебя покарает!.. Заболеешь!
Оба смеялись, хлопали друг друга по рукам, и торговец, цокая языком, улыбался Калмыкову, повторял:
– Шурави!.. Хорошо!..
Слюнявил, пересчитывал деньги, прятал под полу. Его помощники, быстроглазые юркие мальчики, грузили туши на двуколку, шмякали их со стуком на доски. Прапорщик, следя за погрузкой, сурово тыкал пальцем в белую костяную хребтину.
– Еще погуляем, походим, – предложил Татьянушкин. – А потом купим хлеб и овощи.
Калмыкова не надо было уговаривать. Рынок засасывал его, увлекал, тянул вдоль бесконечных прилавков, изумлял множеством зрелищ.
Там пекли хлеб. В раскаленную земляную печь на палках опускали тестяные лепешки, пришлепывали к накаленным глиняным стенам, и оттуда начинало тянуть жаром, пшеничным горячим духом. Гологрудый плотный пекарь наклонялся над огнедышащей полостью, озарялся красным, выхватывал из центра земли румяные лепешки.
Там резали овцу. Валили ее на землю, задирали, заламывали назад голову с мерцающими глазами, и мясник в грязно-белой чалме проводил маленьким лезвием, и в подставленный таз начинала хлестать алая звенящая гуща.
Там промывали горы зеленого лука, бережно лили из кружки серебряную струйку, и дети ловко смывали со стеблей грязь, сор, клали влажные изумрудно-синие перья на чистое полотенце.
Торговцы сидели недвижно в глубине своих озаренных лавок, среди рулонов мануфактуры, ворохов разноцветных материй. Калмыков не мог оторваться от птиц в деревянных маленьких клетках, мелькавших, как огненные искорки. Смотрел на разложенные ножи, мусульманские четки, поковки из латуни и меди.
Ему было хорошо среди рыночной толчеи. Он забыл и не думал о том, что явился в Кабул на военных машинах, что в стране, куда опустились его самолеты, шла война, что вчера на дороге был застрелен мятежник, а в землю у подножия Дворца врыты тяжелые танки. Об этом он больше не думал.
Он был в другом, небывалом сказочном времени, где люди в древних одеждах, не забывшие старинные ремесла и навыки, пекли первобытный хлеб, чеканили медь, лили кровь жертвенных животных. Он был счастлив и благодарен кому-то за то, что пустили его в это азиатское скопище, на этот древний вселенский торг.
Они сторговали гору лепешек, несколько мешков белоснежного рассыпчатого риса, груду помидоров и лука. Солдаты, помогая торговцам, толкали тележки с покупками, выдирались из желтого вязкого водоворота. На окраине рынка, у выхода, тянулись размалеванные грязные лавки. Медлительные продавцы деревянными совочками кидали на чаши весов горстки черного чая. Люди сбегались, возбужденные, шумные, махали руками, издавали истошные гортанные вопли.
Татьянушкин и Калмыков проталкивались сквозь бороды, накидки, кошелки и увидели: на земле, на грязных истоптанных досках, лежал убитый. Добродушный толстяк чех, что недавно с сумкой ходил вдоль фруктовых прилавков. Его сумка лежала тут же, с синеватыми перьями лука. Кожаная кепочка, отпав от лысой головы, расплющенно темнела рядом. Его полная грудь выдавливалась из расстегнутой куртки. На сбитой рубахе сочно краснело пятно.
Второй чех, Зденек, растерянно метался в толпе, что-то объяснял двум молодым черноусым афганцам. Увидел Татьянушкина, кинулся к нему:
– Стреляли в спину!.. Вот так!.. Михня упал!.. Оттуда стреляли!
Он показывал в черный проулок, где по-птичьему роилась толпа, укрывая убийцу. Из другого проулка, расчищая путь, пробиралась цепочка афганских солдат с автоматами. Окружала убитого, отгоняла любопытных.
– В меня стреляли!.. Попали в Михню!.. Вчера прилетел из Праги! Жена и дочка Натуся!..
И уже подкатывала двуколка, где на досках еще зеленели обрывки луковых перьев. Убитого положили на повозку, рядом поставили его котомку с покупками, подложили маленькую черную кепочку. Солдаты покатили повозку сквозь толпу, покрикивая, разгоняя людей. Зденек шагал за телегой, горестно приговаривая:
– В прошлый месяц югослава стреляли… Теперь Михня…
Татьянушкин приоткрыл полу своей спортивной куртки, под ней на шнурке за поясом торчал пистолет. Калмыков озирался на толпу. Повсюду были глаза, огненно-черные, жгущие, прожигавшие спину. Над грязными крышами рынка, над дымом и гомоном, льдистый, отточенно-острый, сверкал минарет.
Глава восьмая
Был вечер в мастерской у скульптора среди деревянных лакированных дев, бронзовых библейских старцев, алебастровых птиц и животных. Был пестрый, шумный, легкомысленный люд – молодые актеры, балерины, художники. Модный поэт читал новый стих. Известный певец пел под гитару романс. Кто-то показывал слайды Парижа. Кто-то смешил гостей. Он дорожил их обществом, признавал над собой их превосходство, завидовал свободе, легкомыслию, небрежному обращению с женщинами.
Среди гостей была одна, черноволосая, смуглая, с бриллиантовыми сережками, «жена дипломата», как ее называли. Дипломат был в поездке, в какой-то азиатской стране, а она задержалась в Москве, чтобы вскоре к нему уехать.
Он был рядом с ней, старался выглядеть взрослым, умным. Острил, не слишком удачно. Высказывал суждения о стихах и романсах, неточные, приблизительные. Она улыбалась перламутровыми губами, поощряла его. Он ловил тончайшие струйки ее духов, разноцветные лучики бриллиантов. Чокался с ней бокалом, глядя, как тает, исчезает черно-красное вино в ее стекле.
Под утро вся ватага гостей утомленно поднялась и исчезла, оставив их вдвоем в мастерской.
Она обняла его, поцеловала в лоб. Пугаясь, робея, он прижал к себе ее мягкие ленивые плечи, целовал ее губы, чувствуя сладковатый вкус помады. Шелестящие прозрачные искры слетали с ее падающего платья, из которого она, словно из темной воды, шагнула к нему. И когда ослепление, гул, огромная вспышка света, подобная ядерному поднебесному взрыву, померкли, оставив за окном утреннюю синеву, голубоватые отливы на лакированных деревянных скульптурах, и она, сонная, с горячей подмышкой, набрасывала на себя стрекозино-прозрачную сорочку, он испытал мгновенное счастье, свободу и силу, уничтожение преград между собой и миром. Он оставлял в этой исчезавшей ночи свое детство, отрочество, непонимание жизни. Был свеж, весел, любил эту женщину, бронзового отлитого старца, черепок разбитой вазы с табачным пеплом. Верил в себя безгранично.
Через несколько дней казармы были обжиты, щели законопачены ветошью, окна и двери занавешены брезентом. В печках гудели форсунки, впрыскивая пламя горящей солярки, и солдаты сновали у кухонь, рубили бараньи туши, лили воду в котлы. Офицеры повзводно проводили политзанятия, работали на технике, уводили роты на стрельбище, на серый отдаленный пустырь, окруженный сухими холмами.
Джандат пригласил Калмыкова вместе с ротными и начальником штаба на дружеский вечер в офицерские казармы гвардейцев. Быстро собрались, прихватив ящик водки, выданный на этот случай расторопным Татьянушкиным.
В длинной комнате с грубобелеными стенами на деревянном столе мерцал маслянисто плов. Стояли тарелки с оранжевыми плодами. Обильно блестели бутылки. На стенах пестрели ковры. Висел большой портрет Амина – властное, гладкое лицо, красивые умные глаза, выпуклые, резко очерченные губы.
Офицеры сидели плотно, сдержанно улыбались, едва знакомые, старались запомнить имена друг друга. Почти все афганцы говорили по-русски, косноязычно, неуверенно, извиняясь за свою путаную неумелую речь. Переводил Николай, помогал, связывал эти хрупкие отношения, следил, чтобы длились, не прерывались завязавшиеся за столом беседы.
Начальник гвардии Джандат, огромный, мускулистый, похожий на сохатого, большелобый, большеносый, поднял стакан водки.
Его тост был за прибывших в Кабул советских братьев. За высокую революционную задачу, возложенную на гвардию и советский батальон. За товарища Хафизуллу Амина, вождя афганской революции, под чьим руководством афганский народ преодолеет все трудности, победит внутренних и внешних врагов и построит, по примеру своего великого соседа, справедливое общество.
Речь была длинная, громогласно-гортанная. Он хмурил мохнатые брови, ярко водил белками, поворачивал во все стороны жилистое тело. Казалось, он говорил для того, чтобы его услыхал человек на портрете, властный, красивый, спокойный, ради которого они несли свою службу.
Калмыков слушал начальника гвардии. В рокотах и руладах ему чудились жестокость, угроза, обожание и восторг, беспощадная непреклонность и лукавство, беспредельная властность и преданность. Человек, который глядел со стены, знал цену звучащим восхвалениям, принимал их как должное.
Калмыков старался представить Амина живым. Как шевелятся в разговоре его плотные яркие губы. Как дрожит под подбородком гладко выбритый сытый жирок. Как медленно прикрывают глаза выпуклые смуглые веки. Хотелось понять, каков он, этот восточный вождь, недавно удушивший своего соперника, безраздельно управляющий азиатской страной среди мятежей, революций. Какие силы, таинственные и невнятные, связывают его, Калмыкова, с этим вождем, силы, затянувшие его к подножию янтарного Дворца, где ему, русскому офицеру, надлежит охранять чужого властителя от ненавидящих врагов и соперников.
Джандат выпил водку, вытер платком мокрые губы и жестом ладони, похожей на огромный совок, пригласил угощаться. Все потянулись к блюду, черпали ложками рассыпчатый плов. Рис благоухал, окутывался мягким паром. Каждое длинное зернышко, окруженное масляной пленкой, стеклянно мерцало. Валех наклонял к Калмыкову свое милое улыбающееся лицо, брал со стола нарезанный оранжевый плод, выжимал над тарелкой с пловом, окрашивал рис золотистым соком:
– Вот так ориндж выжимать!.. Вкусно, сладко!.. Афганский плов с ориндж кушать надо!..
Джандат извинился, сказал, что его ждут заботы во Дворце, где заканчивались последние приготовления перед вселением туда товарища Амина. Отдал честь и вышел. Мелькнули на погонах скрещенные мечи, высокая тулья фуражки. И всем стало свободней и легче. Офицеры-афганцы вольнее расселись, шире заулыбались, звонче зазвенели стаканами.
Лица афганцев были черноусыми, где каждый волосок отливал металлической синью. Одни – горбоносые, продолговатые, как у лосей и оленей. Другие – круглые, желто-скуластые, с островеселыми, хитрыми надрезами глаз. Они были из разных рас и племен, из разных потоков истории, мешавшей народы в азиатских горах и ущельях. Но все были счастливы и радушны, принимали гостей и братьев. Вместе пьянели, наливались счастливым хмелем.
Лишь один, маленький, круглоголовый, с прилипшей ко лбу черной прядью, не улыбался. Мрачно пьянел, двигал желваками на коричневых скулах. По всему лицу от прилипшей пряди через нос и колючую небритую щеку шел шрам, словно к лицу прикоснулся раскаленный железный прут.
Валех приближал к Калмыкову сиреневое лицо. Его мягкие, маслянистые от плова губы старательно, бережно выговаривали слова:
– Когда Одесса учился, девушка русский дружил, Лена звали!.. Очень добрый, красивый!.. Говорю: кончим войну, будет у нас хорошо, приедет Кабул!.. На море ходили!.. Море большой, теплый, рот попадает, соленый!..
На стенах афганской казармы висели ковры, бумажные цветы. В сухих предзимних горах притаились посты. Кто-то крался в ночи, пряча под накидкой винтовку. Азиатский огромный город засыпал, ворочался, гасил в трущобах лампады. Калмыков чувствовал свое опьянение, как невесомое прозрачное пламя, омывавшее глазницы. Эти смуглые горбоносые люди, еще недавно неведомые и чужие, теперь казались родными и близкими.
– Ты мне покажи, как ваш крестьянин живет! – гудел Грязнов, принимая от соседа-афганца тарелку с пловом, где на белой горке риса смугло темнели кусочки мяса. – Если он бедный, так и у нас в России бедный!.. Ты так сделай, чтоб мужику стало легче! Ты ему землю дай, плуг дай, захребетников от него прогони, тогда он за тобой пойдет!..
Сосед кивал, соглашался, шевелил маленькими усиками, в которых застряло продолговатое зернышко риса.
– Землю даем, воду даем!.. Мулла говорит: «Землю – нельзя! Воду нельзя!» Муллу стрелять надо, стенка ставить!..
Калмыков их слушал, но смысл жестоких слов был неважен ему. Его прозрение помогало проникнуть сквозь непрозрачную коросту слов в светоносную сущность, где все они, недавно еще разобщенные, сидели теперь в едином застолье, роднились, братались. Не напрасно нес Калмыкова тяжелый транспорт, перелетал через хребты и ущелья, высадил в этом застолье среди смуглых добродушных афганцев.
– Ты, Мухаммад, пойми! – Расулов, нервный, горячий, бил по плечу соседа. – Я офицер, разведчик!.. Мое дело – война!.. Меня воевать учили на европейском театре!.. Могу штаб армии захватить, ракетный комплекс взорвать!.. У меня рота спецназа, понял, а не караульная рота!.. Ты мне войну покажи!.. В бой пошли!.. Где тут у вас воюют?
Сосед ответно хлопал Расулова по плечу, закручивал рукав своей офицерской рубахи. На жилистой смуглой руке среди вздувшихся мышц воспалился розовый шрам.
– Пуля!.. Джелалабад!.. Джелалабад бой идет… Полк горы ходит!.. К Пакистану ходит!.. Там пуля была!
– Бери меня в Джелалабад! – кипятился Расулов, блестя глазами, завидуя шраму. – Бери меня на войну, Мухаммад!
Калмыкову казалось, он их понимает обоих. Они были братья, друзья. В своих грубых мундирах, сжимая стаканы с водкой, были готовы подняться, сесть в боевые машины, вместе сражаться.
Ротный Баранов, розовый, возбужденный, жестикулировал, витийствовал, требовал от переводчика донести до афганского ротного глубинный, проверенный смысл своих назиданий:
– Революция везде победит!.. В Союзе она победила!.. В Польше, в Болгарии тоже!.. На Кубе тоже!.. И у вас победит!.. Одна революция должна помогать другой! Наша революция – мать, а ваша революция – дочь!.. Переведи! – требовал он у переводчика.
Тот наклонялся к сосредоточенному, жадно внимавшему афганцу, чье монголоидное лицо напоминало медное начищенное блюдо. Они обменивались рокочущими зычными звуками, и переводчик возвращал Баранову его же слова, отраженные от начищенной медной поверхности:
– Он говорит: «Ваша революция – мать, а наша революция – дочь!» Калмыков слабо вникал в суть разглагольствований. Суть была не в
словах. Она была в огромном дуновении мира, охватившем моря, континенты, судьбы людей и народов. Они, здесь сидящие, были пылинки, подхваченные этим дуновением. Их несло в одну сторону, быть может, в гибель и смерть. Но сейчас, в этом застолье, они были братья, верили, любили друг друга, и в этом была драгоценная, светоносная сущность. Беляев выхватывал из плова коричневые ломтики мяса, быстро проглатывал, продолжая жевать, выспрашивал у соседа, восточного красавца, чьи тонкие пальцы с розовыми ногтями украшал перстень с камнем:
– А сколько стоит мех в лавке?… А сколько серебро?… А золото есть в продаже?…
Красавец мягко поводил своими влажными, как у антилопы, глазами, отвечал:
– Был очень богатый люди!.. Был очень бедный!.. Богатый ушел Пакистан!.. Бедный – в сольдат!.. Мы – не богатый, не бедный!.. Мы – офицер, гвардеец!..
И это казалось Калмыкову понятным, свидетельствовало о доверии, дружбе. Беляев проехал в «бэтээре» по городу, углядел из люка бесчисленные ларьки и прилавки, распростертых в витринах барсов, мишуру украшений, красные узоры ковров. Не имел ни гроша в кармане, но приценивался, приглядывался, выведывал у афганца цены на пушнину и золото.
Все они, сидевшие в застолье, гомонившие, пьющие водку, ронявшие на скатерть зерна риса и капли бараньего жира, были братья. Плыли, ухватившись за доски стола, в огромном безымянном потоке.
Расулов отодвинулся на стуле. Выхватил из сумерек гитару. Положил на колени рыжий гулкий короб. Ударил по струнам.
- Прилетели мы в Баграм,
- Очень мы устали,
- А приехали в Кабул,
- На охрану встали.
- Развернули «бэтээр»
- Пулеметом в горы.
- Если сунутся к Дворцу,
- То узнают горе…
Он пел, наклонив к гитаре черноусую голову, ярко скалился, надувал на шее пульсирующую жилу. Его косноязычная, наспех сочиненная песня вызывала у афганцев восхищение. Они притоптывали под столом, прищелкивали пальцами, прицокивали языками. Калмыков и сам восторгался этим энергичным бряцанием, яростной музыкой, бесхитростным стихом, в котором уместились впечатления от гончарного восточного города, лихость, вопреки всем тревогам, смелая бесшабашность, вопреки всем опасениям.
После Расулова пели афганцы. Они встали в рост, напрягая груди, одинаково встряхивая черноволосыми головами, пророкотали, прогудели, простонали воинственный гимн, в котором звучали непреклонность, отвага, готовность маршировать в боевых колоннах и что-то еще, сверх этого, от чего сердце у Калмыкова дрогнуло, сжалось болью, как бывало, когда он слушал песни минувшей войны. Если их долго слушать, то в глазах становилось горячо и туманно.
Но эта боль и это больное предчувствие продолжалось недолго, ибо все они, сидящие в застолье, не сговариваясь, по невидимому согласию и знаку, заулыбались, закивали и, сладостно, отрешенно закрыв глаза, запели «Подмосковные вечера», радуясь возможности произносить одни и те же слова, переживать одни и те же чувства. Калмыков не любил эту сентиментальную, петую-перепетую песню. Но, слушая ее здесь, в Кабуле, среди предзимних холмов, где прячется мятежник с винтовкой, несутся пули и падают убитые люди, он вдруг ощутил острую нежность к поющим. Многоголосый хор соединял их в братство по оружию, по судьбе, по военной доле.
Его душа, обремененная заботами и предчувствиями, устремлялась в лучистое, удаленное в бесконечность пространство. Он чувствовал молниеносный рост души, испытывал необыкновенный восторг, нежность. Из груди, из сердца рвался стремительный светоносный луч, сквозь косматую ткань мундира, сквозь глинобитную стену казармы, теснины гор, ночные тусклые тучи – ввысь, в беспредельность. Там, в этой беспредельности, нашел и коснулся безымянного, беспредельного, чудного и вернулся обратно, в грудь, в сердце, в сумрачную казарму.
Офицеры пели, коверкали, переиначивали петые-перепетые слова, а он не мог понять, где он только что побывал, с чем на мгновение встретилась его душа.
Очнулся от грохнувшего по столу удара. Маленький офицер афганец с плотными, прилипшими ко лбу волосами, с багровым накалившимся шрамом саданул кулаком по столу. Его лицо дергалось от множества мелких, сменявших одна другую гримас. Сквозь оскаленные свистящие зубы брызгала слюна. Он хрипел, выдыхал ненавидящие рокочущие слова. Все смолкли, слушали его хрип и клекот.
– Что говорит? – Калмыков обратился к переводчику, чье чуткое лицо, побледневшее, отражало лицо кричавшего, и казалось, на нем вот-вот выступит поперечный шрам. – Что он такое кричит?…
– Говорит, в партии засели предатели!.. В армии засели предатели!.. Предатели убьют революцию!.. Предатели убьют товарища Амина! Надо стрелять предателей!.. Он сейчас поедет в тюрьму Пули-Чархи, где сидят арестованные предатели, и расстреляет их своими руками!.. Он подвесит их к потолку и станет по кусочкам срезать с них кожу!.. И тогда они скажут, кто им платит деньги, чтобы убить революцию, убить товарища Амина!.. Он сам, своими руками, расстрелял в Герате восемнадцать предателей, прокравшихся в армию и партию!.. Стрелял и будет стрелять!..
Он хрипел, ненавидел, бил по столу кулаком. С ним случился припадок страдания. Его товарищи кинулись к нему, схватили за руки, унимали, лили в рот водку, а он хрипел, отбивался, грыз стакан, а потом вдруг утих, умолк. Сник над столом, качая скуластой плосконосой головой с побледневшим шрамом.
Грязнов обошел стол, налил в стакан водку.
– Лучше пить, чем бузить! – говорил он, булькая бутылкой. – Лучше пить, чем стекла бить!
Валех, огорченный случившимся, извиняясь перед гостями улыбкой, поднялся:
– Будем вместе всегда! Будем дружба всегда!.. Здравствует Советский Союз! Здравствует товарищ Хафизулла Амин!..
Все встали, чокались, пили. Снова гомонили и пели.
– Будем вместе всегда! – Валех наклонился к Калмыкову, горбоносый, глянцевитый от пота, шевеля мягкими, блестящими от водки губами. – Тебе подарок даю!.. Моя дружба тебе!..
Он снял с запястья браслет с часами. Под граненым хрустальным стеклом дрожала золотистая стрелка. Протянул Калмыкову.
Тот отстегнул свои, неоновые, с тусклым стеклом, истертым о пески и броню, поднес на ладони Валеху. Они обменялись часами, нацепили их на запястья, пожали друг другу руки.
– Твое время – мое! – смеялся Валех. – Мое время – твое!.. Живи по афгански время!
Чернявый офицер за столом что-то тихо бормотал, закрыв глаза, скрипел зубами. Внезапно поднимал тяжелые, липкие веки, и под ними горели, вращались ненавидящие безумные зрачки.
Они возвращались в свою недостроенную казарму, светя фонариками, выхватывая из тьмы серую каменистую тропку. Калмыков приотстал, пропуская мимо командиров рот, начальника штаба.
Хмельные, веселые, бестолково посмеиваясь, они глотали студеный ночной ветер гор.
– Что отстаешь, командир? – Файзулин ослепил его на мгновение фонариком, а потом перевел огонь на свое блаженное улыбающееся лицо. – Афганцы – мужики подходящие! Мусульмане, а пить умеют!
– Ступайте, я догоню! – отсылал их всех Калмыков, глядя, как удаляются, мигают, пересекаются лучики света.
Он не стал спускаться к казармам, а косо, по склону, двинулся к вершине холма, вырезая себе путь фонарем. Спотыкался, торопился, тянулся вверх, не понимая, зачем и куда идет. Достиг вершины и стал, задыхаясь.
Дворец в ночи сиял золотыми окнами, распуская в холодную тьму зарево света. Казалось, парит, не касаясь земли, упираясь в гору столбами огня. Опустился из неведомых запредельных высот. Вот-вот оттолкнется и взмоет. Уйдет, исчезнет, превращаясь в малую искру.
Калмыков стоял на холме, обдуваемый ледяным чистым ветром, смотрел на Дворец. Хотелось туда, в неведомые залы, где, казалось, идет ночной праздник, – наглядеться на убранство Дворца, на люстры, на драгоценные вазы, на наряды и лица танцующих. Дворец влек его, притягивал, манил таинственной красотой. С горящим лбом, улыбаясь, он тянулся на золотистое зарево. Медленно брел обратно, неся в себе видение Дворца.
Спустился к казарме, к глухому фасаду, где окна были затянуты брезентом, и за ними глухо, многоголосо урчала жизнь батальона.
Глава девятая
Уже курсантом училища, сделав военный выбор, он встречал Новый год под Москвой на даче художника-пейзажиста. Приехали московские гости – историки, студентка университета, зеленоглазая, насмешливая, милая. За столом он оказался с ней рядом. Острил, наливал в ее высокий бокал шампанское, а потом танцевал, играл в шарады то восточного принца, то рычащего первобытного зверя.
Уже было разбито несколько елочных игрушек, уже от бенгальских огней едва не вспыхнула занавеска, и толстяк историк, с седыми кудрями, поднялся на стул и читал свои вирши, когда они вдвоем, накинув шубы, выскользнули на воздух.
Ночной мягкий снег лежал на заборах, на деревьях, на деревянном столе и скамейках. Туманно голубела луна. Они поднимали головы, чувствовали разгоряченными лицами опадавшую холодную изморозь. Смотрели на голубоватую луну, на черную веточку, перечеркнувшую лунный круг. Он ее целовал, видел ее близкие закрытые веки, черную веточку, заслонившую круг луны.
Эта любовь была мгновенной, сильной, как расширяющиеся волны света, захватывающие в свое свечение необычные переживания, фантастические мысли, необыкновенные прочитанные книги, выученные наизусть стихи, удивительные знакомства и встречи. И среди всего этого была она, ее зеленые насмешливые глаза, пышные, душистые, щекочущие губы волосы, ее комнатка в деревянном доме в Сокольниках, где в открытую форточку залетал легкий снег, запах свежих булок, скрип проходящей электрички.
И в этой любви он впервые ощутил свою телесную силу и красоту, неутомимость гибких мускулов, когда бежал за ней по лыжне, видя, как скользят ее зеленые свистящие лыжи. Она оборачивалась к нему смеющимся розовым лицом, и потом плечом к плечу они лежали в душной темноте, и он, устало закрыв глаза, видел ее всю, от рассыпанных по подушке волос до кончиков пальцев, зная, что она принадлежит ему безраздельно, создана для него, все ее биения, шепоты, ароматы отданы ему, для него.
Любя ее, он вдруг остро и радостно открыл для себя природу. Драгоценность снега, в который вморожены сухие зонтичные цветы. Красоту туманного тяжелого ливня, грохочущего по дубам. Сочную густоту сине-желтых цветов в колее, на которой босые ноги оставляют черные чавкающие отпечатки. Его зрачки научились различать тончайшие оттенки синего цвета – неба в бело-розовых весенних березах, капель воды в чашечках красных осиновых листьев, вечерней зари с первой водянистой звездой.
Он понял глубину и величие родной истории, когда ездили в Александровскую слободу, обитель Грозного царя, взбирались на звонницу Ростова Великого, где на огромных колоколах, среди медно-зеленых рельефов ворковали голуби. Она, его милая, филолог, знаток древних текстов, читала письмена на каменных, вмурованных в стены плитах, – об усопших монахах и воинах. Любя ее, он любил ее вместе со старинными усадьбами и церквами, которыми любовались ее любимые зеленые глаза.
Он переживал мгновения полноты и могущества, когда господствовал над всем белым светом, заслоняя его от напастей, помещая в свою хранящую и спасающую любовь всех милых и близких, все живые и неживые творения.
Зима, снегопад, темная хрупкая веточка, отпечатанная на лунной поверхности.
Батальон обживался, осваивался. Роты повзводно водили машины в горах. Операторы «Шилок» наводили стволы зениток на далекие вершины, изрыгали из пушек струи огня, и вершины окутывались дымом, снаряды вырезали ниши в граните, рассеивали в небе каменную летучую пудру. Калмыкова заботили начавшиеся у солдат простуды и расстройства желудка – сказывались новая пища, климат, состав воды. В Кабуле действовал советский госпиталь, работали русские врачи. Их собирался навестить Калмыков.
Утром приехал Татьянушкин, на кофейной «тойоте», в кожаной куртке, в джинсах, похожий на спортсмена.
– Покатаемся, город посмотришь! – пригласил он Калмыкова, и тому было неясно, то ли это дружеское приглашение, то ли неявный приказ.
– Мне бы надо в госпиталь, – сказал Калмыков. – Медикаменты взять. А то личный состав прихварывает.
– Заскочим. Главврач – мой дружок. Получим таблетки!
Они уселись в «тойоту». Следом в «УАЗе» разместился Расулов с санинструктором. Двумя машинами, не теряя друг друга из виду, покатили по утреннему Кабулу.
Калмыков опять изумлялся, восхищался видом азиатского, грязно-коричневого, нежно-золотистого города с внезапным огненно-красным мазком ковра, зелено-голубым минаретом. Машина зарывалась в толпу, в ворохи тканей, накидок, в скопление повозок, в пыльные мешки и котомки, а потом неслась среди великолепных вилл с мерзлыми безлистыми садами, стынущими блеклыми розами.
– Смотри, вот здесь телеграф, радиоцентр, телевидение! – указывал Татьянушкин на белый, облицованный мрамором дом, над которым ветвились антенны, а поодаль на лужайке, пушкой к улице, стоял танк. – А вот там за кустиками колодец с узлом связи! – Калмыков разглядел сквозь ветки бетонную тумбу с люком. Под ней в глубине таились клубки кабеля, распределительные коробки, подземные коммуникации. – На карте отметь! – Татьянушкин развернул карту Кабула, и Калмыков послушно отметил значком расположение радиоцентра.
– А это комитет государственной безопасности ХАД, – указывал Татьянушкин на высокий забор с воротами, за которыми стоял караул и виднелась в саду группа зданий. – Охрана – два взвода! Отметь на карте!
Калмыков отметил. Карта была знакомой. Та же, что висела в Союзе над его изголовьем в гарнизонной квартире.
Они колесили по городу. Повинуясь Татьянушкину, Калмыков наносил на карту Дворец Революции, похожий на равелин, с уступчатыми башнями и глухой стеной. Министерство иностранных дел – ребристая призма, облицованная серо-голубым камнем. Посольство Америки – чопорное здание, окруженное зеленым газоном, за чугунной оградой, увитой колючей проволокой.
Они объехали город, и Татьянушкин указывал ему расположение полка «коммандос» в крепости Балла-Хиссар, дислокацию двух танковых батальонов, трассы, по которым танки из пригородных гарнизонов могли быть переброшены в центр. Калмыков чутким взглядом разведчика, с обостренной интуицией всматривался в возникавший на карте чертеж. Город переставал быть скоплением базаров, минаретов и лавок, становился системой объектов, имевших оборону, пути подходов, способы преодоления препятствий. Город был центром управления государством, сам имел центр, нервную ткань управления, спрятанную среди клубящегося многолюдия, зимних прозрачных садов, восточных дворцов и мечетей.
Калмыков испытывал скрытое волнение, почти нетерпение. Ему открывали истинное строение города – узлы его жизни и смерти. Военный разведчик, командир батальона спецназа, он мог воздействовать на эти узлы точечным умелым уколом. Кабул, как моллюск в перламутровой раковине, пульсировал, жил, а он разглядывал его своим острым колючим взглядом.
– На сегодня довольно, – сказал Татьянушкин. Его синие глаза были холодными и стальными. – А теперь развлечемся немного. Зайдем в дукан, на камушки полюбуемся! – Глаза его вновь потеплели. Лицо стало милым, открытым.
Они свернули в проулок, сплошь уставленный тесными магазинами и лавчонками. В витринах было пестро и нарядно от меди, крашеной шерсти, тисненой кожи. Из дверей выглядывали любопытные, любезные, манящие торговцы в каракулевых шапочках и шароварах.
Татьянушкин остановил машину, дождался, когда подрулит «уазик» с Расуловым. Они втроем, звякнув дверью, вошли в тесный, завешанный коврами дукан. Едва переступив порог, Калмыков оказался среди чудесного, небывалого множества фантастических, таинственно-привлекательных изделий, говоривших о былой, отшумевшей жизни, которая исчезла, оставила после себя ворох блестящей мишуры.
Здесь были высокие разукрашенные седла, медные стремена, чеканные уздечки. Наездники и кони давно умерли, покоились в каменистой земле, их белые кости медленно рассасывались в дождевой воде.
На стенах висели длинные кривые мечи и сабли с потемнелой сталью, узорными костяными рукоятями. Лежали длинноствольные, с раструбами ружья, чьи тяжелые прокопченные приклады были инкрустированы перламутром, серебром и каменьями. Сами воины, стрелки и охотники превратились в пыль на дорогах, в воду арыков, в снег на горном перевале. Оставили в лавке воспоминания о забытых погонях и битвах.
Струнные инструменты, лакированные дудки, кожаные барабаны висели на коврах с опавшими кистями, шерстяными, свитыми туго шнурами. Сами музыканты, певцы, игравшие на свадьбах, пирах и поминках, превратились в эхо ущелий, в рокот воды, в шум камнепадов, в молчание туманных звездных ночей.
На витринах были разложены женские украшения, выкованные из белого мягкого сплава, из колечек, спиралей и бусин. Бубенцы и браслеты, цепочки и броши, ожерелья и перстни. В оправы были вставлены голубые и розовые камни, зеленые и золотистые яшмы. Владельцы браслетов, невесты, танцовщицы, наложницы, отлюбив, превратились в сухие бурьяны, в глиняные обломки дувалов, в пни умерших садов.