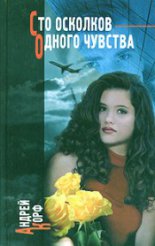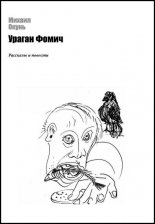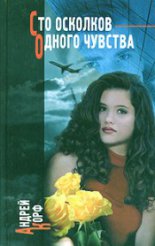Война с Востока. Книга об афганском походе Проханов Александр
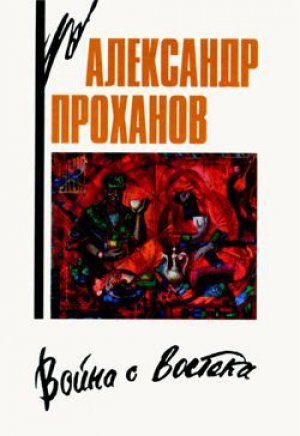
Пользуясь быстротой и внезапностью, надлежало обезвредить экипажи танкистов, вывести танки из капониров и использовать их для поддержки атаки. В случае неудачи – сжечь танки из гранатометов.
Подстанция с трансформаторами обеспечивала освещение Дворца, питала прожекторные установки. Ее следовало разбить в первые минуты штурма – вырубить электричество, чтобы операция прошла в темноте.
Но главная хитрость состояла в том, чтобы накануне атаки, за полчаса до штурма, пригласить в казарму гвардейцев – Джандата, Валеха, начальника контрразведки, главных командиров охраны. Устроить товарищеский ужин и взять всех в плен. А если будет нужда, то и уничтожить, лишить гвардейцев командования.
Все это довел Калмыков до своих подчиненных. Выслушал их замечания. Отослал назад в роты шлифовать и оттачивать замысел.
Наутро появился Татьянушкин. За его «тойотой» к казармам подкатил грузовик. В кузове валялась рухлядь, поломанные стулья, матрасы, листы отсыревшей фанеры.
– Это зачем? – удивился Калмыков.
– Там человек. Из тех, кого мы завезли на виллу. Поставьте пост. Никого не подпускайте к машине. Завтра, когда все кончится, ему покажут Амина. Он опознает труп. Мы должны быть уверены. Пусть в машину кинут пару одеял, поставят горячий чайник. В случае непредвиденных обстоятельств, мало ли что завтра может случиться, – уничтожить! – Его лицо было спокойным, жестким. Он уже не думал о притаившемся в грузовике человеке, а только о завтрашнем штурме, в котором сам будет участвовать, выполняя главнейший замысел.
– Утром приеду с людьми. Мои люди внедрятся в группы захвата. Ваша задача – доставить нас к объекту, прикрывать продвижение, пока мы не сделаем дело.
– У нас есть бронежилеты, – сказал Калмыков. – Ваши люди их могут надеть.
– Все есть, – ответил Татьянушкин.
Они пожали друг другу руки. Татьянушкин укатил. Калмыков смотрел на грузовик с рухлядью, прислушивался. Из кузова не доносилось ни единого звука, но чувствовалось – там терпеливая безмолвная жизнь, смирившаяся перед грозной высшей волей, готовая к любому для себя исходу.
Вечером после отбоя Калмыков наблюдал, как укладывается казарма. Солдаты снимали мешковатую грубошерстную форму, сбрасывали тяжелые краги. Их голые плечи, бритые головы мелькали в тусклом свете ламп. Худые и крепкотелые, чахлые и налитые силой, с татуировкой и нежными родинками, славяне и азиаты, они не ведали о том, что предстоит им завтра. Не знали, что во многих вонзится острый горячий металл, станет рвать и буравить их кости, жилы и мускулы.
Узбек на худых ногах стаскивал мятый носок, рассматривал свои длинные нечистые пальцы. Плосколицый казах с синей наколкой вяло взбивал подушку. Все они завтра пойдут под пули, станут умирать, убивать. Это он, Калмыков, отнял их у матерей и отцов, навьючил на них патронташи и вещмешки, погрузил в самолеты, привез в чужой азиатский город и завтра кинет их в бой.
Он лежал за брезентовым пологом, удерживая в сознании весь окрестный ландшафт с Дворцом. Следил за выдвижением рот. Притормаживал разогнавшиеся на серпантине машины. Торопил штурмовые группы, бегущие сквозь сад по горе. Открывал огонь из самоходных «Шилок» с фланга по белым колоннам Дворца. Подавлял пулеметные гнезда. Летал, вился, взмывал, как сокол, кружил над Дворцом, озирая картину боя. Пикировал вниз, в открытый люк транспортера, гнал «бэтээр» через рытвины навстречу закрытым танкам.
– Товарищ подполковник!.. Товарищ подполковник!.. – За брезент заглянуло испуганное лицо лейтенанта. – В четвертой роте рядовой Хакимов с гранаты кольцо сорвал!.. Держит!.. Грозит подорваться!..
И пока торопливо натягивал форму, застегивался на бегу, слушал булькающие бестолковые слова лейтенанта, вспомнил: Хакимов, щуплый, тощий, стоит на коленях среди красной глины бруствера, жует липкую грязь, а над ним наклонились глумливые лица мучителей.
Казарма гудела, сгрудилась на одной половине, освободив другую. Под тусклыми лампами валялись скомканные матрасы, гудела форсунками печь. В углу, в рост, на кровати, голоногий, с тонкой воздетой рукой, стоял Хакимов. Бритоголовый, с безумными прыгающими глазами, сжимал в кулаке гранату.
– Хакимов, выйди и кинь ее в снег к едреной матери! – не приказывал, а умолял ротный Беляев из дальнего угла казармы, готовый упасть, распластаться на земляном полу. – Обещаю тебе во всем разобраться, и кто тебя пальцем тронул, того, гада, под трибунал!.. Давай, парень, иди и метни ее в снег!..
Калмыков мгновенным прозрением постиг случившееся. Отчаяние замученного, затравленного, забитого до полусмерти Хакимова, одинокого и безгласного среди веселых, неутомимых мучителей. Пропадая вдали от близких, от матери, братьев, сестер, отделенный от них непреодолимым пространством враждебной земли, сырой глинобитной казармой, непрестанной мукой и пыткой, рванул у гранаты кольцо, – кинет себе под ноги, умирая в клубке огня, разбрасывая по ненавистной казарме вихрь осколков.
Прозревая все это, стиснутый полуголыми солдатами, зная, что завтра будут другие осколки и взрывы, Калмыков пробрался вперед, медленно пересек пустое пространство, мимо солдатских постелей, гудящей печки, и подошел к солдату, чья рука была занесена для броска, а глаза, огромные, белые, сверкали и прыгали:
– Хакимов, это я, Калмыков, комбат!.. Об одном тебя прошу: на минутку успокойся!.. Подумай о своей матери, о братьях!.. Тебе домой возвращаться!.. Минуту пережди, ничего не делай, а дальше все будет нормально!..
Он медленно приближался, уговаривал солдата, видел, как дрожит в стиснутом кулаке округлая стальная картофелина, торчит задранный локоть. Чувствовал, как на шаткой грани колеблется измученная, лишенная опоры душа, не желающая больше жить. Калмыков подходил к солдату, что-то говорил, отвлекал. Уводил от колеблемой грани, удалял от последней, необратимой секунды.
Подошел к кровати, наступил ногой на матрас, ощутил исходящий от солдата запах: ужаса, предсмертного пота. Обнял его за худое плечо. Провел ладонью по острому локтю, к запястью, к стиснутому кулаку. Чувствуя, как пульсируют на тонком запястье жилы, проник своими осторожными сильными пальцами в сплетение его, худых, схвативших гранату. Нащупал влажный лепесток предохранителя. Перехватил в свой кулак гранату. Повернувшись спиной к толпе, сбившейся в дальних углах, понес перед собой гранату, как светильник. Прошел мимо печки, вдоль застывших полуголых солдат.
Вышел в темноту на снег. Двинулся прочь от казармы, хрустя ботинками, вверх по пологому склону. И удалившись на расстояние, когда стих, не стал слышен гул голосов, метнул гранату наверх, чуть пригнувшись, зная, что веер осколков минует его, просвистит над его головой. Увидел красную ранку взрыва. Услышал короткий грохот. Ветер донес теплое зловоние взрывчатки.
Он вернулся в казарму. Сам надел, навьючил на Хакимова одежду. Увел к себе. Тот безвольно, понуро брел, словно потерял все жизненные силы. Калмыков уложил его на свою койку, подоткнул под ноги одеяло, выключил свет.
Снова вышел на снег. Медленно, вдыхая ледяной воздух, зашагал вверх по холму, туда, где на вершине поджидало его видение Дворца. Пока взбирался, чувствовал, как дотягиваются до него через гребень, влекут невидимые силы. Послушно шел, подчиняясь безымянной понуждающей воле.
Вышел на вершину холма и стал. Дворец был окружен туманной кристаллической изморозью. Свет окон расщеплялся на туманные причудливые лучи, сливался в розоватые кольца и нимбы, словно вокруг морозной луны.
Дворец казался огромным небесным светилом, парил над туманным ландшафтом земли. Щупальца света пронизывали атмосферу, слабо отражались на обледенелых склонах, на глянцевитых наледях, достигали зрачков Калмыкова, проникали в глазницы, в кровь, в дыхание, наполняя их таинственными цепенящими ядами. Он стоял, пойманный щупальцами розоватого света.
Ему было странно стоять одному на холме и смотреть на Дворец, который завтра он должен разрушить. В ответ из Дворца полетит в него огонь и железо и, быть может, его завтра убьют.
Но сегодня, живой, дышащий, он стоит среди ночного мира. Во Дворце, не ведающий о своей участи, отдыхает властитель. Золотистая резьба на стойке деревянного бара. Девочка в ночной рубахе перелистывает книгу с картинками. Врач, похожий на дятла, капает в хрустальную рюмочку безвкусное и бесцветное зелье. В казарме забылись солдаты. В ружейных комнатах, в пирамидах, рядами стоят автоматы. В тяжелом грузовике под брезентом притаился безвестный человек, чутко слушает ночь. И все это совершается в единое непрерывное время, которое завтра может для него оборваться. Завтра его могут убить.
Он стоял на холме, овеваемый ветром гор, чувствуя в последнюю ночь перед боем шарообразность Земли, тонкую пленку жизни, в которой он появился на свет, под ней – каменную неживую толщу Земли, над ней – в бесконечном космосе – млечные спирали галактик, хвостатые звезды, туманы иных миров.
Он стоял на вершине, чувствуя под ногами глубинный донный огонь, а над головой удаленные мирозданья. Смотрел на Дворец, который он завтра разрушит.
Часть третья
Глава четырнадцатая
Утро блестело, сверкало, было голубым, розово-белым, как перламутровая раковина. Горы вдали напоминали крылья огромной птицы, готовой к взмаху и взлету. Калмыков встретил этот солнечный день, как грозную неизбежность, которую по ошибке украсили глазурованной белизной, ослепительной чистой лазурью. К вечеру, когда солнце отсверкает и уйдет за хребты, на мгновение зажгутся на вершинах многоцветные хрустали и лампады, он, комбат, поведет батальон на штурм. Теперь же он проживал этот день в непрерывных заботах и хлопотах, предварявших атаку.
Были опробованы штурмовые лестницы, припрятанные в казарме, заваленные одеялами и матрасами. Баки транспортеров и боевых гусеничных машин были полностью залиты горючим, а в люки был спущен двойной боекомплект. В арык, отделяющий склон с зарытыми танками, еще прежде, под покровом ночи, были опущены бетонные плиты, по ним транспортеры преодолеют арык, доставят группу захвата.
Солдаты вокруг казармы весело, бодро работали, не зная об истинном замысле, готовились к предстоящим учениям.
К полудню он выехал на КПП, где дежурил афганский пост, и там поджидал Татьянушкина. Вышел из машины, прислонился к капоту, смотрел, как в стороне за безлистыми деревьями вздымаются выпуклые, похожие на огромные пузыри кровли министерства обороны. Из будки, где сидели афганцы, вышел солдат. Обогнул КПП, оглядываясь, будто за ним следили. Вынул из кармана потрепанный платок. Расстелил его на снегу темно-зеленым квадратом. Опустился на колени и стал молиться. Падал ниц, касаясь лбом кромки платка и снега, словно прожигал наст своими горячими закрытыми веками. Что-то беззвучно, истово наговаривал заснеженной земле. Отталкивался от платка ладонями, распрямлялся на коленях, обращая долгоносое лицо к небу, открывая небесам разжатые смуглые ладони, будто принимал на них весь лазурный сияющий купол. Снова склонялся, вдыхал, вдувал в холодную гору услышанные из небес слова. Казалось, смысл его молитвы в перенесении небесных энергий к земле, без которых она, земля, умрет и замерзнет.
Так понимал его Калмыков, оцепенев у радиатора остывшей машины. Испытывал странную боль при виде молящегося человека. Ему было не дано молиться, просить о милости и прощении, каяться в грехе, в котором был виноват. Сами же грех и вина состояли в немощи, глухоте, в неспособности обратиться к синему небу, услышать в нем тихое слово, передать это слово холодным камням, не дать им оледенеть и замерзнуть.
Татьянушкин подкатил к КПП. Его щегольская хромированная «тойота» была полна до отказа. Плотно, плечо к плечу, сидели молодые парни, их лица были знакомы Калмыкову, бесшумно примелькавшись в переходах и комнатах виллы.
Они последовали с Татьянушкиным к казарме на снежный отдаленный пятачок. Четверо парней, выйдя из «тойоты», разминались на снегу. Их куртки топорщились на боку, скрывая портативные автоматы.
– Внедрите их в группы захвата. Командиры групп переходят в подчинение моим людям. – Татьянушкин говорил сухо и жестко. – Я пойду с вашей группой. Ваша задача – фронтально, по склону атаковать объект, сопровождать меня снаружи и внутри на всех этапах операции.
Это уже было оговорено прежде. Калмыков многократно обсуждал с Татьянушкиным план операции. Выбрал для себя фронтальное направление по глазурованному снежному склону, через яблоневый сад туда, где вздымались колонны до портала и над ними парило ажурное, словно одетое в кружевной кринолин, женственное тело Дворца.
– Пункт связи расположен на вилле. На время всей операции генерал остается в эфире. Позывные известны. Москва через космос будет информироваться о ходе операции.
И снова – не мысль, а осколочек мысли, как малый черепок от расколотой фарфоровой чашки. Женщина в московской квартире. Забилась в угол дивана, накрыла босые ноги шелковой нарядной подушечкой. В синем окне, как в экране, виден Дворец. Ночной глазурованный свет, и он, Калмыков, идет, спотыкаясь, по склону, солдаты с деревянными лестницами.
– Десантники нас прикроют с флангов. Их ближайший объект – министерство обороны. В случае нашей неудачи они выдвигаются в район серпантина и вторично, по нашим следам, атакуют Дворец.
И этот вариант проговаривался. Если гвардейцы сорвут операцию, разгадают план, расстреляют батальон из танков, истребят из бетонных дотов, десантники выкатывают на прямую наводку самоходные пушки, сжигают танки, долбят фасад, превращая в труху и щебень хрупкое здание Дворца. Об этом говорилось прежде. Татьянушкин в своем педантизме повторял хорошо усвоенное.
– Мы мало с тобой знакомы, – Татьянушкин, меняя тон, вдруг посмотрел на него долго и пристально изменившимся взглядом, в котором загадочно и внезапно возникла прежняя, поражавшая голубизна. – Водку даже вместе не пили. А сегодня бок о бок в бой! Может, одного, а может, обоих убьют! Если пронесет и живыми в Москву вернемся, приглашаю тебя к себе. Жена угощение поставит. Тогда уж друг другу расскажем, кто из нас откуда взялся. Задним числом познакомимся!
Глаза Татьянушкина, теплые, синие, нежно, почти с любовью смотрели на Калмыкова, словно из другой, наивной, давно исчезнувшей жизни.
– У тебя есть дети?
– Нет, – сказал Калмыков.
– Как же это ты детей не народил? В смертный бой идешь, а потомство после себя не оставил. Мы с тобой ничего не стоим, а дети – все! Это я тебе говорю!
В глазах его возникла ослепительная синева. Калмыков изумился этому малоизвестному человеку, с кем сегодня в ночь побегут на льдистый откос. В этом человеке, которому сегодня предстояло убить главу государства, было нечто привлекательное и прекрасное и одновременно отталкивающее и жуткое. Как и в нем самом, Калмыкове.
– Вы хоть в грузовик к тому, замурованному, горячую пишу носите? – кивнул Татьянушкин на брезентовый кузов, где за грудой тряпья и мусора скрывался неведомый человек. – А то околеет от холода!
– Прапорщик суп ему ставит. А пустую тарелку уносит.
– Джандат когда на пьянку придет? – Татьянушкин посмотрел на часы. – Свяжите и в каптерку их спрячьте. А если будут верещать, ликвидируйте!
Его глаза были тускло-стальные, жесткие, как осеннее небо, по которому пронесся и канул случайный клочок лазури.
Еще было светло, но морозный воздух стал розоветь, зеленеть, словно густел, стекленел. В казарму, где были составлены столы, покрытые вместо скатертей свежими проглаженными простынями, явились офицеры-гвардейцы, приглашенные с ответным визитом на дружескую посиделку. За несколько минут до штурма их надлежало взять в плен, запереть в каптерку, лишить охрану Дворца командиров. Сразу же после этого личный состав батальона получал задачу, и в означенное время «Ч» начиналась атака Дворца.
Афганцы входили в казарму, праздничные, благоухающие одеколоном, с ярко-красными петлицами и кокардами, в шелковых гвардейских шнурах. Обнимались с хозяевами.
– А где Джандат? – Калмыков прижимался своей щекой к гладкой, прохладной щеке Валеха. – Специально для него «Столичную» водку достал!
– Джандат Кабул поехал! Разведка!.. Потом придет, водка выпьет! На столе дымилась баранина, маслено искрился приготовленный
поваром таджикский плов. Сверкала на блюдце промытая редиска, сизые перья лука. Два прапорщика в белоснежных поварских куртках стояли поодаль, держали на салфетках бутылки с водкой. В одной бутылке была вода, и Калмыков долго втолковывал усатым верзилам, что водку следует лить гвардейцам, а своим офицерам только воду. Всматривался в бутылку с водой, нет ли в ней пузырьков воздуха, еще и еще раз наставлял усачей, оглаживал их белые куртки, под которыми были спрятаны пистолеты. Другие прапорщики с автоматами притаились в глубине казармы за брезентовым пологом, готовые выскочить по окрику Калмыкова.
– Дорогие братья, товарищи по оружию! – Татьянушкин поднялся, держа перед собой граненый, наполненный водой стакан. – Мы рады вам, благодарим за то, что пришли. Но прежде чем выпить за наше боевое братство, за благородный афганский народ, за товарища Хафизуллу Амина, позвольте сделать вам маленький подарок!
Он щелкнул в воздухе пальцами. По его мановению появился молодой человек. Держа в руках коробку, стал обходить гостей, извлекая и преподнося им значки – красные застекленные кружочки с портретом Гагарина.
– Мы в Советском Союзе считаем, что Юрий Гагарин – лучший из нас! Его улыбка – символ России! Верю, когда-нибудь и афганский народ будет иметь своего Гагарина и вы нам подарите значок с его улыбкой!
Офицеры аплодировали, радостно прикалывали значки. И все стоя выпили за дружбу, за боевое товарищество, за товарища Хафизуллу Амина. Татьянушкин, проглотив свою «водку», морщился, крякал, тянулся сиреневой редиской в солонку, торопился закусить.
Следом поднялся Валех. Было видно, что его коснулся первый хмель. Красивые навыкате глаза влажно блестели, губы порозовели, дрожали в улыбке.
– Я вам скажу маленький слово! Мы вас любим! Делаем все, как вы! Вы делай революцию, мы делай революцию! Вы бороться, мы бороться! Мы будем делать свой Гагарин, свой колхоз, свой метро! Товарищ Джандат сказал: советский друзья дадим новый форма, тонкий, английский материя! Красивый, как это! – Он пощупал себя за рукав, помял тонкое выделанное сукно. – Будем пить за дружба, за Советский Союз!
Он вдохновился, разволновался. Выпил водку, потянувшись тонкими смуглыми пальцами за ломтиком мяса. Калмыков видел, как пьют воду командиры рот, слегка переигрывая, излишне морщась и крякая.
Он посмотрел на часы, подарок Валеха, под хрустальным стеклом которых билась хрупкая стрелочка, приближая секунду, когда по его взмаху и крику из-за брезентового полога выскочат вооруженные прапорщики, гостей заставят встать, обыщут, расшнуруют ботинки, выдернут из лямок ремни и стволами погонят в каптерку, непонимающих, хмельных, оскорбленных.
– Почему не пришел Джандат? – Калмыков повернулся к Валеху, подкладывая ему на тарелку перо голубого лука. – Посидели бы, отдохнули! Когда же отдыхает Джандат?
– Джандат товарищу Амину пошел! – Валех наклонился к нему, тихо зашептал, осторожно оглядываясь по сторонам: – Товарищ Амин заболел. Желудок болит, лежит дома. Сегодня политбюро сказал нет, болен. Индийский посол сказал нет, болен. Джандат товарищу Амину пошел, дома с ним говорит!
Валех жарко дышал в ухо Калмыкову, доверяя ему профессиональную тайну. А у Калмыкова догадка – невидимое зелье врача достигло цели, распустилось в крови Амина убивающими тонкими ядами. Во Дворце на богатом ложе, страдая, умирает властитель. Рядом в комнатушке томится врач-отравитель. И скоро пойдут на штурм боевые машины, заработают по Дворцу скорострельные «Шилки». Группы захвата ворвутся в покои, довершат истребление.
– Я тебе Кабул покажу, какой из русских никто не видел! – Валех, опьянев, умягченный, любящий, наклонился к Калмыкову, дорожа их дружбой, возможностью выговаривать, вспоминать русские слова: – Хайр-Хана покажу, Шари-Нау, чайхана сидеть будем, чай пить, кебаб кушать, афганский люди смотреть!
Калмыков увидел, как в дверь казармы быстро вошел, почти вбежал, один из парней, что приехали вместе с Татьянушкиным. Татьянушкин тут же поднялся, пошел навстречу. Они стояли поодаль, переговаривались. Калмыков заметил, каким озабоченным, строгим стало лицо Татьянушкина, хотел угадать, какое известие принес белобрысый крепыш.
Татьянушкин вернулся к столу, улыбающийся, хмельной, благодушный.
– Комбат! – обратился он громко, на весь стол, к Калмыкову. – Не все у тебя здесь в порядке! Есть замечания! Есть предложения! Прошу налить! – приказал он усачам в белых куртках. – А тебя, комбат, прошу на минуту ко мне!
Когда Калмыков подошел, Татьянушкин нежно, полупьяно облапил его, крутя хмельной головой, бражно улыбаясь. Приблизил губы и резко, зло прошептал:
– Операция переносится на полтора часа!.. Десантники, суки, не успевают развернуться!.. Арест гвардейцев отложить на час!.. Протяни время, понял! – Отстранился от Калмыкова, благодушный, пьяный. Обвел застолье ласковыми синими глазами, произнес: – Сейчас мы едим плов таджикский, а кебаб афганский!.. Пусть командир прикажет зажарить шашлык кавказский!.. Пока шашлык будет жариться, есть предложение, товарищи офицеры, еще раз по маленькой!
Калмыков услышал, как снаружи раздался хрип тяжелых моторов, чавканье колес. Пошел на выход. На снегу перед казармой стояли два афганских «бэтээра», стальные корыта, наполненные солдатами. Над бронированными кабинами торчали крупнокалиберные пулеметы. Стрелки целили в глинобитные стены казармы.
От транспортеров к казарме шел Джандат, худой, костлявый, сжимая автомат огромным багровым кулаком. За ним поспевали четверо вооруженных гвардейцев.
Зло козырнув Калмыкову, Джандат прокричал:
– Где мой люди? – оттеснил Калмыкова жилистым жестким плечом, прошел в казарму.
Офицеры-афганцы при его появлении вскочили. Дожевывали, отирали платками жирные губы. Джандат быстро, крутя белками, оглядел пространство казармы, все углы, ниши, хищно, затравленно, по-звериному втягивая ноздрями воздух, словно вдыхал запах опасности, чуял засаду, отыскивал глазами ее приметы. Его охранники держали автоматы, готовые к броску и стрельбе.
Джандат топорщил усы, скалил желтые зубы, сипло, грозно приказывал офицерам. Те послушно, сутулясь, как провинившиеся, выходили из-за стола, направлялись к дверям.
– Товарищ Джандат! – Татьянушкин наивно, доверчиво подошел к начальнику гвардии, и Калмыкову показалось, что сейчас последует выстрел и жилистое, продырявленное тело Джандата грохнет на пол. – Мы вас так ждали! Отведайте нашего угощения, выпейте с нами! – Татьянушкин налил стакан, протянул начальнику гвардии.
– Нет времени! – сказал Джандат, все еще злой, подозревающий, держа костлявый палец на крючке автомата. Но уже успокоился, убедившись в сохранности своих офицеров. – Работа много!.. Другой день!..
Пропускал мимо себя офицеров, словно пересчитывал их. Прогромыхал им вслед тяжелыми крагами, и охранники гибко, один за другим, вынырнули из казармы.
Снова заработали двигатели, зачавкали колеса. Транспортеры удалялись, увозя хмельных офицеров.
– Суки, всегда все портят! – грубо, с ненавистью, не к Джандату, а к кому-то невидимому, сорвавшему план захвата, выдохнул Татьянушкин. – Ну и хрен с ними! Мы их в рабочем порядке!.. Еще полтора часа волокиты!..
И пошел упруго, косолапо, словно шагал по болоту, охотник, пастух, разведчик.
Калмыков вслушивался в затихающий шум транспортеров, переводил взгляд на соседние холмы и горы. Там, на вершинах, в вечерних небесах совершалось волшебное и таинственное. Начиналась огромная бессловесная музыка, возгорались прозрачные льдистые пласты неба, словно в них открывалась иная высота, глубина, из них начинали струиться алые, зеленые, золотые волны света. Ближняя гора стала красной. Над ней пролегла изумрудная гряда далеких хребтов. Вершины холмов стали золотые, как купола. Над снежными пиками возникли голубые, синие облака с розовыми тихими перьями.
Все это двигалось, меняло цвет, дышало. Казалось, на вершины садятся бестелесные светоносные существа, зажигают лампады, разноцветные стеклянные фонари. Поднимают эти фонари, с бесшумным колыханием крыльев, переносят на другие вершины.
Калмыков смотрел на светомузыку гор, испытывая изумление, мучительную сладость и боль, будто это для него, как загадочный знак, отворились небеса, обнаружили незримую прежде сущность. Бестелесные духи небес для него танцевали свой танец, расцвечивали мир, развешивали над хребтами невесомые прозрачные флаги.
Темнело, смеркалось. Духи улетали, уносили с собой фонари и лампады. Небо угасало, становилось пустым и серым. И только вдали на самом высоком леднике горел золотой мазок.
– Всех командиров рот ко мне! – приказал Калмыков, отводя глаза от гаснущего чуда, гася его в себе. – Довести до личного состава цели и план операции!
Он чутким слухом ловил разноголосые звуки казармы. Топот, крики, стук металла. И внезапную тишину. В этой тишине, охватившей длинные саманные строения, где замерло множество остановившихся вдруг людей, что-то свершалось. Грозное, тревожное, угрюмое. Знание проникало в солдат, останавливало в них недавнюю резвость, бестолковость, шумливость. Обращало их всех в одну сторону, к единственной цели, к общей внезапной опасности. Знание, бывшее недавно достоянием только его, Калмыкова, теперь пропитывало души и плоть множества людей, превращалось в человеческую массу, в мускулы, в тревожное нетерпение, в сталь.
– Командирам групп вьщвинуться на исходные позиции!.. Начало боевых действий – девятнадцать тридцать!.. Раздать бронежилеты!..
Он видел, как в сумерках, мигая кормовыми огнями, пошли боевые машины. Как зазвенели, кинули едкие струи дыма, двинулись «Шилки». Как длинно, змеисто, колыхая броней, проструились «бэтээры». И уже выносили из казармы штурмовые лестницы. Татьянушкин застегивал на бегу латы бронежилета. Прапорщик зажигал и гасил длинный ручной фонарь. Калмыков, поднимая за ремень автомат, на одно лишь мгновение бросил взгляд в чернеющее туманное небо, где только что реяли пернатые разноцветные силы. Было темно и пусто. Дул черный холодный ветер.
Глава пятнадцатая
Командир третьей роты капитан Баранов ходил в темноте по мелкому снегу, ожидая начала атаки. Его группа, состоявшая из механиков-водителей и гранатометчиков, расположилась на двух «бэтээрах». Солдаты недвижно, как глыбы, бугрились на темной броне. В задачу группы входил захват танков, врытых в пологий склон, чьи пушки и пулеметы прямой наводкой могли истребить наступающих. Предстояло первыми, на десять минут опережая действия других групп, вьщвинуться к арыку, преодолеть илистое раскисшее дно и рывком, внезапно достичь танков, обезвредить экипажи, выгнать машины из укрытий и, развернув пушки, поддержать штурм Дворца.
Ротный расхаживал вдоль бортов «бэтээров», слыша запах железа и смазки, слабые позвякивания металла, шуршания солдатских тел на броне. Он зажигал фонарь, направлял сноп света на часы, наблюдал движение стрелки. И по мере иссякания последних минут росла его растерянность и тревога.
Он старался себя укрепить все эти дни повторяемыми, как заклятия, мыслями: «У каждого, черт возьми, должна быть своя Испания, своя Чехословакия, своя Куба!» Но казавшиеся прежде мужественными и праведными мысли, делавшие его сопричастным героическим событиям прошлого, прославившим армию и государство, – эти слова и мысли казались теперь никчемными, словно ночной ветер выдул из них живое содержание, оставил пустопорожнюю продуваемую скорлупу.
Его пугала переправа через арык, где по дну, по вязкому илу была тайно проложена узкая бетонная колея. По ней след в след должны были пройти транспортеры, перепрыгнуть через арык, рвануть на склон. Однако приближаться к арыку предстояло с потушенными прожекторами и фарами, в полной тьме. Механик-водитель мог промахнуться, соскользнув с бетонной направляющей, увязнуть в арыке. И тогда танки превратят «бэтээры» в растерзанное стальное тряпье.
Он снова зажег фонарь, подставил под него циферблат, видя, как бьется стрелка, словно крохотное насекомое.
– Сколько осталось, товарищ капитан? – С брони свесилось к нему неразличимое лицо, в скользнувшем луче фонаря мелькнула тяжелая, упертая в скобу подошва, труба гранатомета. – Хуже нет ждать!..
Баранов по голосу узнал Дерибу, гранатометчика, здоровенного малого, первого в роте силача, крестившегося двухпудовыми гирями. В учебном центре в Союзе он был славен самоволками, драками, отсидками на губе. Это он на ходу с брони жестоко поразил из гранатомета бегущую по пустыне козу. Теперь, ерзая в нетерпении, он счел возможным окликнуть своего командира.
– Пусть бы у арыка кто из наших слез и провел вброд «бэтээры». Хоть бы и я!
– С ходу возьмем арык! – Баранов всматривался в неразличимое лицо солдата. – Секунды дороги. Захватим экипажи – будем живы. А успеют они люки захлопнуть – тебе работать! Жги танки! Иначе все на склоне останемся.
Он прошел вдоль борта, предчувствуя, как через минуту-другую кинется на плоский ледяной металл, вденет в скобу ногу, метнет на броню тело, поместится в первом командирском люке.
– У каждого, черт возьми, была своя Испания, Чехословакия, Куба! – повторял он отрешенно, чувствуя пустоту этих слов. И вдруг, повинуясь больному толчку испуганного сердца, шагнул в сторону на нехоженый снег, нагнулся и горячей рукой начертил на снегу: «Лена, Андрюша» – имена жены и сына. Веровал, что утром, после боя, живой, невредимый, вернется сюда и при свете дня прочитает на снегу любимые имена.
Он вскочил на броню, окунул ноги в черный люк, нащупал подошвами спинку сиденья:
– Вперед!
Ровно, с готовностью заработали, загрохотали механизмы, толкнули машину вперед.
Они прошли низиной по накатанной трассе, уводившей на стрельбище. Отвернули в каменное пересохшее русло ручья, полузасыпанное снегом. Круто, цепляясь скатами за шершавый бугор, поднялись на холм, и Баранов увидел Дворец. Окруженный золотистым заревом, он сиял, парил в высоте. Под ним среди сумрака таились врытые танки. Баранов через пространство ветра и воздуха ощутил на себе чуткие стальные жерла танковых пушек. Тело его тоскливо сжалось, и ему захотелось нырнуть в глубину транспортера, где светились на щитке цветные огоньки индикаторов.
– Вперед! – гнал он водителя, чувствуя пульсацию колес, наезжавших на камни и рытвины.
«Бэтээры» спустились в низину, проломили хрустящую преграду кустов, выкатили к арыку. Вода черно, глянцевито текла в белых берегах. Золотое отражение Дворца играло на мелких волнах.
– Левее! – командовал Баранов, направляя усеченный клин транспортера к берегу, где в снегу были протоптаны ориентиры, уводившие под воду и имевшие своим продолжением донные плиты бетона. – Щупай дно колесом!
Вода забурлила у борта, брызги долетели до лица. Мышцами, стиснутыми кулаками, упрямой волей он проталкивал транспортер сквозь арык, чувствуя под колесами узкий бетон, умоляя кого-то, чтобы скаты не потеряли опору.
«Бэтээр» клюнул носом, ударил железным днищем, закрутил колесами, надсадно взвыл, прокручивая скатами ледяные буруны, буксуя, сползая с опоры, проворачиваясь со скрежетом на железном днище.
– Промазал, м…ла! – в тоске взвыл Баранов, чувствуя непоправимое. – Газуй!
Машина, севшая на днище, крутила всеми колесами, чавкала, ревела, подымала на воздух огромные буруны. Дворец, злой, золотой, светил с горы. Баранов в панике, в бездействии вцепился в крышку люка. Ожидая, что лопнет пламенем близкий склон и танковый снаряд превратит их в ничто.
– Чего сидим? Вперед! – Дериба толкнул его в спину. Сгребал, стаскивал с брони десант. Кинулся в воду, утонул по грудь, в бурунах и брызгах пошел по дну, неся над головой гранатомет. Остальные солдаты с обеих машин кидались в арык, перебредали его, мокрые, черные, словно вырезанные на белом снегу, бежали вверх по склону. Баранов, одолев свою немощь, бежал со всеми, чувствуя, как прилипла к горячему телу мокрая ледяная одежда. Ждал – сейчас замерцают впереди огненные пузырьки пулеметов, продернут сквозь бегущую цепь разящие синие трассы.
Они вбежали на склон и у первого врытого танка, у его длинной пушки, у земляного припорошенного вала, в маленьком окопчике увидели экипаж. Афганцы грелись у костерка, кипятили котелок, подкладывали дощечки и щепочки. И им на головы с хрястом и хрипом прыгали солдаты спецназа. Заваливали, месили кулаками, глушили прикладами, прессовали в дно окопа липкими тяжелыми телами.
Баранов видел, как прапорщик легко и упруго вскочил на танк, погрузил длинные ноги в люк, захватывая первую машину. Ротный продолжал бег ко второму танку, от которого на звук рукопашной поднимались афганцы. И в их растерянную горсть, сминая и разбрасывая, расшвыривая ударами ног, кулаков, врезался спецназ.
Баранов ночным острым зрением увидел худое горло афганца. С выдыханием рубанул по нему кромкой ладони, и афганец, хлюпнув, осел.
– Бляха!.. Достану!.. – Дериба вырвался из клубка рукопашной, метнулся косолапо на склон, где чернел на снегу убегавший афганец – к третьему удаленному танку. Туда, за афганцем, за косолапым Дерибой бросился Баранов, увлекаемый безумной горячей силой, вогнавшей его на склон.
Они приближались к танку, к длинному, выраставшему из земли орудию. Афганец вскочил на броню, его высокая гибкая фигура мелькнула на фоне Дворца, и он нырнул в люк, как в воду, вниз головой.
И снова у Баранова пугливая мысль: сейчас лязгнет стальная крышка, закупоренный в танке афганец откроет пулеметный огонь, истребляя группу.
Дериба по-медвежьи косо и ловко, заслонив горящие окна Дворца, навис над люком, кувыркнулся в него, исчез в танке. Баранов, задыхаясь, харкая сиплым кашлем, громоздился на танк, слыша внутри возню, удары и рыканье.
С ним вдруг случился паралич, словно в тело вошел стальной стержень. Он не мог шевельнуться, согнуться.
Горел золотыми окнами Дворец. В недрах танка перекатывался клубок, разноголосо хрипел, выл, визжал. Доносился мат, гортанные вскрики, удары мякоти о металл. А Баранов застыл над люком, парализованный и безвольный.
Внезапно по другую сторону холма, где размещались казармы гвардейцев, раздалась стрельба. В черном небе полетели красные и белые трассеры, и на этот звук откликнулось множество невидимых огневых точек. Стали выбрасывать брызги и пучки огня. Пересекались во многих местах лучистые трассы, и вся ночь заголосила, застонала, захлюпала.
Оцепенение его вдруг прошло, словно вынули из мышц металлическую спицу, и вместо нее разом вошла холодная и яростная сила.
Он зажег фонарь, направил в глубь люка свет. Озарил выступы, цинки, медные колонны снарядов, свившиеся хрипящие тела. На мгновение к свету поднялось худое, оскаленное, окровавленное лицо афганца. Баранов опустил вниз, в поток света, ствол автомата и выстрелил в белые зубы, лиловые глаза, в пузырящуюся на губах слюну.
Погасил фонарь. Из люка на воздух стал выкарабкиваться Дериба, вялый, усталый, с глухим постаныванием. Баранов видел, что на щеке его глубокий порез, из раны наплывает кровь, чернит лицо.
– Спасибо, командир! – Дериба выбрался и плюхнулся рядом с башней. – Он меня на нож посадил!
Подбегали солдаты, ныряли в люк. У соседнего танка взревел двигатель, замигал рубиновый хвостовой огонь. Это механики-водители выкатывали танки из капониров, разворачивали пушками ко Дворцу.
Глава шестнадцатая
Начальник штаба майор Файзулин завел свою малую группу в мелкий колючий кустарник, откуда видна была заснеженная гора с Дворцом, туманилось мглистое варево Кабула с блуждающими огнями, сквозь кусты чернело строение подстанции, питающей Дворец электричеством. Группе вменялось обезвредить охрану, взорвать трансформаторные блоки, лишить Дворец освещения. К началу штурма лампы и люстры Дворца, прожекторы и наружные осветители следовало обесточить. Операция должна была проходить в темноте.
Файзулин сквозь сетку кустов осматривал контур строения, рыжий огонек караулки, где дежурил афганский пост – двое наружных охранников и двое внутренних. Задача была проста и понятна. В рюкзаке плотными брусками лежала взрывчатка. Объект охранялся слабо, взорвать его было нетрудно. И Файзулин сетовал на комбата. Калмыков не пустил его на опасный участок, не доверил штурмовую группу.
Он жевал отломанную веточку. Жесткая, замерзшая, она оттаивала в его губах, начинала источать тонкие горьковатые соки. Файзулин глотал слюну, смешанную с соками растения, и вдруг вспомнил летний отпуск, глухую деревню у озера, жену, полоскавшую с мостков пузырившиеся рубахи, поляну в дожде, на которой на глазах росли, шевелились глянцевитые красноголовые грибы. Они парились в бане, брызгали на закопченные камни из деревянного обглоданного ковшика. Баня наполнялась звоном, жаром, душистым еловым туманом. И жена казалась стеклянной – груди с розовыми сосками, живот с темным глубоким пупком, округлое бедро с влажным березовым листиком. Утомленные после бани, они лежали в светелке с оконцем на ночное озеро, и казалось, в озерных туманах шествует бестелесное существо, призрачное и колеблемое. Ступает по водам, наполняя пространство слабым сиянием. Ночной дух звал его за собой, и он тянулся на это удалявшееся мерцание, пока не проснулась жена, тревожно его окликнула.
Теперь, лежа на холодной земле, чувствуя лопатками твердые бруски взрывчатки, а языком – горьковатые волокна надкусанной веточки, он вдруг мимолетно вспомнил об этом и тут же забыл.
– Пошли!.. Аккуратно!.. Без писка!.. – скомандовал он, увидел, как гибко зазмеились, поползли вперед сквозь кусты разведчики.
Два часовых-афганца сошлись вместе, заслоняя желтое окно караулки. Их льдистые штыки, высокие с козырьками картузы сбились. И в тот же миг рядом с ними взметнулись два вихря, опрокинули пару караульных, открыли желтый прямоугольник света. Файзулин, подбегая, успел рассмотреть разведенные башмаки гвардейца, рыжий, в пятне света, приклад автомата.
– Работаем!.. – одними губами беззвучно приказал он солдатам. Прижался к дверному косяку, пропуская в дверь два мощных упругих клубка. Кинулся следом в освещенное взломанное нутро караулки. Увидел, как сержант ударом в лицо глушит, заваливает худого темнокожего афганца. Другой гвардеец, получив удар в кадык, выпучил глаза, харкал красным.
Разведчики, шумно дыша, крутили лежащим гвардейцам руки, лепили им на губы пластырь. Файзулин бегло оглядывал караулку – нары с одеялами, красную спираль обогревателя, чайник на столе и пиалки с недопитым чаем, и вторую, внутреннюю дверь, ведущую в трансформаторную подстанцию.
– Волоки их наружу, а то взрывом башку оторвет! – приказал Файзулин, круша ломиком дверь, выколупывая из щепок тело замка.
В каменной будке тускло горели лампы, освещали ребристые кубы трансформаторов, фарфоровые изоляторы, медные жилы, распределительный щит с циферблатами. Файзулин определил входные толстожильные провода, соединяющие будку с городской питающей сетью. Раскрыл рюкзак и прилепил к изолятору взрывчатку с обрезком шнура. Второй брусок приклеил к выходным, утекавшим во Дворец проводам. Третий – на распределительный щит с рубильниками и квадратными стеклами циферблатов.
Он достал зажигалку, прислушался. Было тихо, лишь слабо урчал трансформатор, перегонял энергию из туманного Кабула вверх на гору, питая Дворец. Оставались последние минуты до штурма, и эти минуты он использовал для понятного и несложного дела.
Файзулин запалил зажигалку. Поднес огонек к обрезку шнура. Дождался, когда задымит, зашипит на конце шнура красная мушка. Подпалил два других заряда и, схватив мешок, проскользнул сквозь пустую караулку, выскочил на воздух.
Разведчики отволакивали сквозь заросли оглоушенных гвардейцев. Дворец сиял сквозь кусты. И Файзулин, глядя на окна Дворца, чувствовал, как укорачиваются окруженные дымками обрезки шнура, уголек проползает сквозь пепел к взрывчатке.
Три взрыва слились в один, грохнули длинно и тупо, выдувая из караулки жаркую вонь, ворох колючих щепок. Дворец погас, будто его срезало с горы. В пустоте, где только что сияло унесенное взрывом диво, раздались отдаленные выстрелы, крики, полетели трассеры.
Файзулин испытал ликование. Он безупречно совершил свое дело. Малым точным ударом, направив его в самую уязвимую точку трансформатора, ослепил Дворец, прихлопнул его золотые глазницы, смел с горы озаренный остов.
Теперь комбат в темноте, невидимый, поведет штурмовую группу, а он, начштаба, вернется на командный пункт и оттуда станет слушать позывные, готовя подмогу штурмующим.
– Давай бросай здесь эти мешки с костями! – приказал он солдатам, тащившим оглоушенных гвардейцев. – Вот какие вы звери полосатые! Людям чай не дали допить!
И вдруг Дворец загорелся. Вспыхнул ярко и чисто, возник на горе золотыми окнами, белыми колоннами. Файзулин испугался, не поверил. Подумал, что его зрачки, сотрясенные взрывом, вернули изображение Дворца и оно через секунду погаснет.
Но Дворец сиял, вокруг него разрасталась стрельба, и Файзулин понял, что подрыв не удался. Взрывчатка не разомкнула контакты, электричество поступает во Дворец. Задание командира не выполнено.
Он рылся в мешке, извлекая оставшиеся кубики тола. Торопился, проклинал себя. Кинулся к караулке, освещая путь фонарем.
Мелькнул опрокинутый стул, осколки пиалы, растоптанный сахар, растворенная задымленная дверь подстанции. Он направил в дым луч фонаря и увидел, как из дыма выступает ему навстречу ободранный человек с липким обрубком руки, с выбитым глазом, с кровавым шматком на усах.
Начштаба не знал, что энергопитание Дворца продублировано дизелями. Машины германского производства были упрятаны в бетонный бункер по другую сторону горы. Разрыв городской сети привел в движение автоматы и релейные группы, дизели заработали, и Дворец получил электричество.
Не знал майор и того, что начальник караула, услышав шум за стеной, бросился из караулки в помещение трансформаторной будки. Укрылся в сумраке среди шкафов и щитов.
Взрыв, разметавший трансформаторы, ранил офицера, оторвал ему руку по локоть. Еще не чувствуя боли, держа здоровой рукой автомат, он поднимался из дыма. И когда боль сквозь раздробленные кости и мышцы стала стремительно в него проникать, он увидел сноп фонаря, очертания идущего к нему убийцы. Он стал стрелять с одной руки, простреливая близкого врага, вырывая из него клочки одежды и плоти. Сам падал, пропадал, умирал от боли.
Файзулин выронил из рук фонарь. Он больше не видел бетонной стены, по которой скользнул луч падающего фонаря, разрушенных приборов, стрелявшего человека. В нем уже не было пугающей мысли о невыполненной задаче, гневе командира, о своей вине перед товарищами. Он видел лесное тихое озеро. Из озерного тумана появилось бестелесное существо, словно одетое в полупрозрачную рубаху. Протягивало к нему руки. Дотянулось до него, обняло, и они оба, бестелесные, полупрозрачные, закачались над озером, не касаясь воды.
Файзулин лежал бездыханно. Кругом метались лучи фонарей. Солдаты штыками кололи безрукого мертвого гвардейца. Сквозь распахнутые двери одиноко и ясно сиял Дворец.
Глава семнадцатая
Группа капитана Расулова на шести «бэтээрах» притаилась в темной ложбине. Машины тесно, слитно, с погашенными огнями готовились к броску. Солдаты, почти невидимые, слились с броней. Группе надлежало ворваться в расположение зенитчиков, обезвредить расчеты, закрепиться в капонирах, развернуть четырехствольные установки в сторону Дворца, поддерживать огнем атакующих. «Бэтээры» на больших скоростях должны были одолеть простреливаемые участки, избежать минных полей и внезапным ударом сокрушить зенитчиков. Расулов, нервный, бодрый, чувствуя горячие переливы мышц, крепость и гибкость суставов, ходил вдоль машин, глотая студеный воздух, испытывал нетерпение, жадное ожидание боя.
Солдаты смотрели на своего командира, и он, не умещая в себе эту нервную горячую силу, делился ею с солдатами. Цеплял то одного, то другого бодрыми грубоватыми шутками.
– Ну вы, зверюги, что скукожились! Нахохлились, как вороны!.. Сержант, смотри в портки не надуй, лучше сейчас отлей!.. Старшина, давай постучи им кулаком по башке, а то спят, как сурки!.. Джигит, глаза протри, это тебе не по мишеням лупить!.. – Он дразнил солдат, отгонял от них страх, тревогу, направлял вперед, в темноту, в бой.
Поглядывая на фосфорный циферблат с мягкой дрожащей каплей, он заботился о том, чтобы головной «бэтээр» не въехал на минное поле, чтобы солдаты на крутых виражах не свалились с брони, и одновременно, в такт шагам, складывал слова и напев своей будущей песни, которую завтра же, после боя, прогремит на гитаре: «В холодную ночь унесли „бэтээры“ последнего света последнюю веру…»
Он чувствовал, как сокращается время, отделявшее его от атаки. Еще минута-другая, и он кинется в люк, нажмет тангенту, отдаст короткий приказ: «Вперед!» – и железная гибкая колонна с рокотом метнется на склон. В эти последние исчезающие секунды его страстные мысль и память вызвали мимолетное зрелище – недавнее свидание в госпитале. Полутемная пустая палата. Ее влажные шелковистые груди, открытый дышащий рот. Он целует ее подмышки с куделью, белое выпуклое бедро, горячие колени. Она слабо защищается, кладет руку на свой живот, не пускает его жадные губы. Он целует ее пальцы с серебряным перстеньком и сквозь пальцы темную ложбинку пупка, щекочущий мягкий лобок.
Это зрелище возбудило его. Сквозь грубую одежду, кожаные ремни и железо он почувствовал, как его пах наполняется горячей силой. Исчезающие перед атакой минуты были наполнены этой влекущей раздражающей силой.
– Ну вы, зверюги, прилипли к броне задами!.. Слушай сюда! Дворец возьмете – час ваш! Что хапнете – унесете! Сувениры домой!..
И снова в такт шагам складывался неясный струнно-гремящий напев: «И пусть сбережет твоего офицера последнего боя последняя вера…»
Солдаты на броне сжимали автоматы и гранатометы. Водители ждали приказ, чтобы включить стартеры. Пулеметчики приникли к прицелам ночного видения. Солдат Амиров прижался щекой к шершавой ледяной башне, и холод брони наполнял его тоской и страхом. Он боялся этой ветреной ночи, боялся боя, боялся своих товарищей и своего командира, ожидал близкой для себя боли и смерти. Ему хотелось спрыгнуть и убежать, без тропы, без дороги, в горы, через седловины и расселины, камнепады и хребты туда, где в маленьком узбекском поселке живут его мать и отец, бабушка и любимые сестры. На веревке перед домом развешаны пестрые одеяла. Сестра лупит по пыльному покрывалу палкой. Сквозь золотистую пыль видно близкое поле, цветущее деревце граната, которое цвело в те дни, когда его забирали в армию. Если броситься и побежать, не слушая окриков и погони, то можно добежать до дома, до цветущего пахучего деревца.
Чтобы не было так уныло и страшно, Амиров достал из кармана коробочку, где хранился зеленый, едко пахнущий порошок конопли, выменянный им у солдата-афганца. Осторожно, чтобы не заметил толстоплечий, в бронежилете, прапорщик, он отсыпал порошок на ладонь, быстро метнул пригоршню в рот. Разжевал, смачивая слюной, всасывал в себя горьковатые соки. Они согревали его, наполняли боящуюся слабую плоть бодростью, теплом и весельем. Глаза стали видеть зорче. В черной ночи расцветало перед ним все ярче розовое чудное деревце.
– Нуты, водила! – Расулов шмякнул ноги в люк. – Запускай!.. Держи колею!.. На минное поле не влезь!.. Вперед!.. – нажимал он тангенту рации.
Рванулась вся единая, стиснутая тесно колонна. Не зажигая огней, покатила распадком, огибая глыбы камней. Многолапо вскарабкалась на подъем. Процарапалась сквозь снег и заносы. Продралась сквозь хрустящие, полегшие на сторону кусты. И, вцепившись в асфальт, метнулась по трассе мимо деревьев, сквозь которые засиял, зажелтел Дворец.
– Держать интервалы!.. Расходимся каждый на свой объект!.. Мины смотрите!.. – командовал он, собирая в точку свою чуткость, ум, прозорливость. – Водила, бей впереди, что увидишь!
Хрустнул шлагбаум, проломленный тяжким ударом. Часовые, ошеломленные, с криком наставили штыки. И им на спины с брони по-кошачьи кидались разведчики, валили, глушили. «Бэтээры» веером, ломая колонну, расходились к позициям зениток. Расулов, хватая в раскрытый рот ком ветра, кричал:
– Звери, работаем!.. – Прыгнул вниз, пропуская над собой борт «бэтээра».
С разбегу, едва не упав, он ткнулся в землянку. Увидел, как открывается брезентовый полог. В слабом отсвете возник гвардеец – высокая офицерская фуражка, красный уголек кокарды. Рука с пистолетом протянулась, почти уткнулась в грудь Расулова, и тот поднырнул под выстрел, под рыжий шар пламени. Схватил стрелявшую руку, вывернул против изгиба, и человек с хрустнувшей переломленной рукой взвыл, а Расулов, бросая его, сорвал с гранаты кольцо, катанул ее под полог землянки. Отпрыгнул в сторону, слыша, как грохнуло в земле и кусочки стали, пробив полог, вылетели наружу.
– Сержант, к пушкам!.. – крикнул он, видя, как крутятся у орудия несколько неразличимых фигур, стягивают маскировочную сеть. – Не дай им орудие!..
Он пустил в темноту очередь, отгоняя от установки зенитчиков. Слышал, как пули рикошетят от стальных элементов орудия.
– Звери, работаем!..
В темноте, на батарее крутилось, хрипело, визжало. Под разными углами, вверх и вниз, летели трассеры. Падали, прыгали, катились черные комья. И вдруг ртутный слепящий свет ударил из близкой чаши прожектора. Из дыма, из лилово-белого котла прилетала на батарею шаровая молния, и каждая соринка, каждый камушек стали видны, отбрасывали тень. Люди, сцепившись в комки, боролись, махали руками вместе со своими длинными уродливыми тенями.
Расулов, заслонившись локтем от сверканья, видел четырехствольные установки под полусброшенной сеткой, ползущего по земле окровавленного артиллериста, своего сержанта, отбивавшегося ударами ног от двух цепких гвардейцев, серебряную обертку от сигарет, казавшуюся осколком зеркала. Видел бой, его завершение. Люди в пятне ярчайшего света боролись, как на арене. Казались погруженными в серебристое вещество, накрытыми стеклянным прозрачным колпаком.
Два зенитчика одолели сержанта, свалили его, били штык-ножами. Расулов, стреляя навскидку, отгонял обоих, отшвыривал вспышками, погружал очередь в лохматый мундир гвардейца, в блестящие пуговицы.
– Крути установки!.. – Расулов вился волчком, пригибался, пропуская над головой пули, кидался в сторону, уклонялся от взрыва гранаты. Успевал ударить, вонзить, хлестнуть очередью. Рычал, выдыхал, тонко взвизгивал.
Разведчики сволакивали маскировочную сеть, разворачивали зенитки, направляли их раструбы ко Дворцу. Обертка от сигарет валялась у него под ногами. Он сделал шаг, чтобы ее раздавить, и, шагая, наступил на фольгу, гася ее сверкание, увидел, как из-за бруствера поднялось узкое, с вдавленными щеками лицо, горбатый нос, черные усы, сбитые на лоб короткие черно-синие волосы. Ручной пулемет, пошарив рыльцем, уперся сошками в край бруствера, и оттуда дунуло, ударило жутким страшным ударом ему, Расулову, в пах, в промежность, отстреливая, отрывая всю его силу, свирепость и страсть. Лопнул тугой запаянный шар, и из него вместе с болью вырвались и унеслись все его песни и пьянки, и он сам, оскопленный, с выдранной сердцевиной, катался клубком и визжал, затыкая ладонями пах, схватив кулаками кровавые шматки и волокна, – на сверкающей круглой арене, в свете прожектора.
Рядовой Амиров, наглотавшись наркотика, вместе с группой захвата ворвался на батарею. Вместе со всеми прыгнул с брони, побежал в темноте. Ему не было страшно, он не видел взрывов и выстрелов. В его счастливых безумных глазах колыхались цветные одеяла, сестра палкой колотила пыльную цветастую ткань, хлопки и удары гулко отражались в ушах. Когда вспыхнул прожектор, осветил батарею, ему показалось, что он на танцплощадке, вокруг него, обнявшись, танцуют, играет громкая музыка.
Он пошел вместе с танцующими туда, где в открытой степи цвело его любимое деревце, желая вдохнуть аромат розовых, покрытых цветами веток. Он перелез через бруствер, пробрался сквозь путаницу бурьяна и колючую проволоку, пересек помойку, оставляя за спиной музыку и свет танцплощадки. Шел, протянув вперед руки, на ощупь, наугад находя дорогу, не зная, что ступает на заминированную землю. Минное поле защищало батарею, и он подорвался на первой же мине, чуть припорошенной снегом. Из-под ног его вырвался косой красный взрыв, раскалывая его кости и череп. И последним видением выбитых глаз было маленькое цветущее дерево, трепещущее среди синих пространств.
Глава восемнадцатая
Командир четвертой роты Беляев сидел в головной «бээмдэ», ухватившись за холодную пушку. Чувствовал затылком застывшую колонну боевых гусеничных машин, их литую неподвижность, готовность к одновременному рывку, огневому удару. Но это чувство не рождало в нем уверенности и силы. Боевая мощь колонны была источником опасности для него самого. Ему, Беляеву, волей глупых и жестоких людей помещенному в железный люк, в черную азиатскую ночь, грозили боль, страдание, смерть.
Его группа из шести машин с десантом готовилась к штурму Дворца. По серпантину, сметая посты, гася пулеметные гнезда, они достигнут портала, соединятся с группой захвата, штурмующей резиденцию в лоб, с боем подымутся на этажи.
Беляев сидел, прислонившись лопатками к пушке, боялся и ненавидел. Он ненавидел комбата Калмыкова, всегда спокойного и уверенного, мнимопонимающего смысл и цель их появления в дикой и жестокой стране. Ненавидел саму страну из камней и грязи, из пыли и снега, отторгавшую цветом своего неба, вкусом воды и воздуха, запахом селений, формой деревьев, очертаниями лиц. Ненавидел обитателей страны, бестолковых, шумных и нищих, затеявших грязную, кровавую, бессмысленную усобицу, назвав ее революцией. Ненавидел лепной, как осиное гнездо, зловонный город с липкими ручьями нечистот, путаницей перекрестков, убогим подобием других городов. Ненавидел Дворец с жестоким и умным властителем, которого он, Беляев, должен сегодня убить, но перед этим охрана властителя изуродует его, Беляева, тело свинцом и сталью.
«Все дерьмо! – поносил он страну, город, мечети, рынки, мужчин в грязных перевязках, женщин в нечистых балахонах, размалеванные дымящиеся грузовики, бренчащие трескучие повозки, и эту ночь, и невидимые горы, и асфальтированный виток серпантина, по которому машины рванутся к порталу Дворца. – И сам я дерьмо!..»
Он думал, как бездарно и опрометчиво он согласился на этот афганский поход. Ему следовало, подобно другим, увильнуть, отказаться. Договориться с врачом и улечься в госпиталь. Сослаться на невроз, на обострившийся геморрой, устроить операцию аппендицита. Нужно было воспользоваться связями в округе, в Москве, в управлении, добиться протекции подобно блатным сынкам и племянникам, которые, узнав о походе, исчезли из батальона, перевелись в другие части.
«Как же, за меня похлопочут!.. Без волосатой руки!.. Без генеральской родни!.. Мы – рабоче-крестьянские!.. Сам дерьмо, чужое дерьмо разгребаю!..»
Он ненавидел своих беспомощных, бесполезных родителей, не сумевших оградить его своими влиянием, властью, достатком. Но больше всего ненавидел и боялся неотвратимой минуты, когда машины пойдут вперед, навстречу боли и смерти. Это ожидание боли и смерти вызывало спазм желудка. В кишечнике бурлило, и он чувствовал резь в животе.