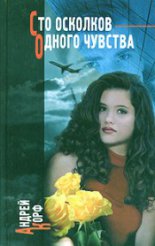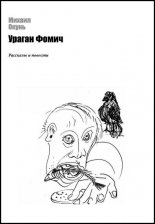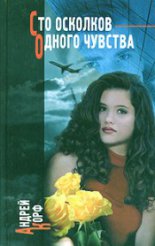Война с Востока. Книга об афганском походе Проханов Александр
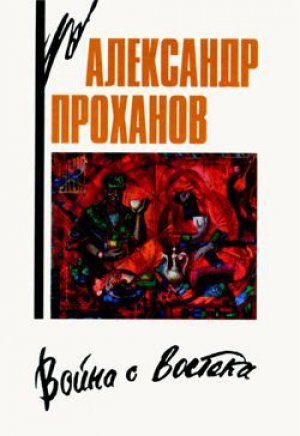
Пошел к «бээмдэ», одолевая притяжение земли, прокручивая, проворачивая стальной вал в промерзшей смазке, быстрей и быстрей. Влез, взгромоздился на броню, слыша, как шлепают по металлу солдатские подошвы, начинают реветь неостывшие моторы.
Они шли колонной в шесть машин, собранных из разрозненных групп. На острой, врезанной в ягодицы кромке люка Калмыков испытывал острую неприязнь к генералу, сидящему в этот миг на уютной вилле, пославшему их после первого кровопролитного боя во второй, смертельный. Эта неприязнь к генералу, достающему из наборной каменной табакерки дорогую сигарету, это злое чувство быстро сжигало усталость, разлеталось по телу горячим звенящим звуком.
– Я – «Первый»! – командовал он. – При подходе из всех стволов! Лупим по казарме, чтоб пух и перо!..
Он увидел, как с обочины из черного стриженого кустарника поднялся гранатометчик. Навел короткую, промелькнувшую в темноте трубу. Проследил в прицел железный борт «бээмдэ». Перевел трубу на следующую колыхавшуюся машину. Дунула красная метла, короткий белый огонь впился в борт «бээмдэ», погрузился в броню. В машине чмокнуло, хрустнуло, из люка повалил красный дым, полетели частые искры, словно включили сварку.
Машина ткнулась, и другая, не успевшая отвернуть, саданула ее в корму. Включили прожектор. В белом пучке убегал гранатометчик, по-козлиному перепрыгивая рытвины.
– Огонь!.. – ревел Калмыков, направляя вслед бегущему первую неверную очередь. – Добей его, падлу!..
С машин в луч света, как внутрь световода, ввинтились трассы. Находили бегущего человека, окружали его, накалывали, толкали вперед. Наколотый на спицу, он трепетал, пульсировал, а потом падал и исчезал из прозрачно-белых лучей.
– Обходи по правому борту! – командовал Калмыков, проводя колонну мимо подбитой «бээмдэ», которая продолжала гореть.
На броне под пушкой, головой вперед, лежал долговязый взводный в ребристом танковом шлеме.
У Калмыкова не было ненависти к генералу, а остервенение последних усилий.
Воспаленно светили прожектора, рассыпали вокруг снопы голубого света. Примчались к казарме и с ходу, ломая колонну, развернулись по фронту перед оградой. Ударили из пулеметов и пушек, разнося ворота, давя амбразуры, навешивая над казармой зыбкие волны пламени.
– С брони!.. В цепь!.. – сгонял он солдат. Укладывал их в снег на обочине. – Долби их!
Орудия грызли бетон, ломали ворота. Бронебойные снаряды впивались в стену, зажигательные горели в скважинах, извергая сыпучие ворохи. На дворе казармы тлела ветошь, бегали быстрые светлячки. По кровле скользило жидкое пламя.
– Прекратить огонь!.. За мной!..
Отворачивая голову от пожара, от ртутных лучей, от метущихся трасс, в сторону, в темноту, без надежды и веры, произнес: «Спаси!.. Не убей!..» Встал и кинулся в пролом ворот.
Бежал, нагоняемый тяжелым топотом. Гранатометчик, обгоняя его, поднимал трубу, готовясь влупить заряд в близкие двери казармы. Расколотые створки дверей раскрылись, и из них, шатаясь, вышел офицер, без фуражки, с белым, намотанным на кулак полотнищем. Он стоял на крыльце, шатаясь, ослепнув от прожектора. Кровь на его лице липко блестела, словно глазурь, а белая простыня спадала ему на плечо. Он шевелил полотнищем, стараясь придать ему видимость флага.
– Не стрелять!.. – проорал Калмыков. – Гранатометчик, мать твою, трубу опусти!..
За парламентером толпились, выглядывали, опять пропадали неясные лица. Из дверей валила гарь.
– Выходи по одному! – крикнул Калмыков, надеясь, что будет понят. – По одному, без оружия!..
Вслед за первым, за его волочащейся простыней, стали выходить офицеры. Волокли на себе раненых, под руки, на спинах, в растерзанной форме, с бегающими непонимающими глазами.
Солдаты бегло охлопывали их, обыскивали, ставили на утоптанный голый двор под лучи прожекторов в неровную щербатую шеренгу. Среди офицеров Калмыков узнал знакомых командиров рот, с кем встречался на офицерских пирушках, начальника разведки, начальника гвардии, долговязого, костистого Джандата. И Валеха, чье носатое смуглое лицо было в каплях пота, морщилось, как от боли. В руке Джандата, в огромной стиснутой пятерне белела салфетка, словно штурм застал его за столом и судорога свела его костяные фаланги.
– Всем сесть! – командовал Калмыков. – Да посади их на снег, сержант! Дай им по кумполу!
Солдаты стали усаживать офицеров. Те не понимали, шарахались, а солдаты награждали их тумаками, пока те не начали понимать, торопливо усаживались – нервные, живые бугорки на истоптанном снегу под лучами и пушками.
Калмыков повесил на плечо автомат, приблизился, вглядываясь в пленных. Раненые отвалились на спину и лежали. Кто-то ел с земли снег. Кто-то комкал снежок, залеплял им рану.
Когда проходил мимо начальника гвардии, тот вдруг вскочил, жилистый, костяной, сотрясаемый судорогой. Закричал, поднося ко рту салфетку, кусая ее зубами:
– Расстреляй меня!.. Расстреляй!.. Бить, мучить будут!..
Он рвал салфетку желтыми зубами, захлебывался слезами. Калмыков, глядя на его огромные костяные суставы, представлял, как Джандат смыкал свои пальцы на жирной шее Тараки.
Начальник гвардии умолк, ссутулился, сел на снег. Плечи его вздрагивали. Изгрызенная салфетка была в крови.
Когда Калмыков проходил мимо Валеха, тот поднял глаза. Горько, тоскуя, презирая, смотрел. Протянул руку. Заголил запястье, на котором поблескивали часы, подарок Калмыкова. Расстегнул ремешок и кинул часы через плечо, в снег. Они промелькнули в свете прожектора.
Калмыков посмотрел на свое пустое запястье, с которого пуля сорвала часы Валеха. В лучах света бугрился красный рубец. Их часы валялись теперь в снегу в окрестностях разгромленного Дворца. Будут ржаветь, показывать остановившееся время.
Он чувствовал опустошенность, тщету и безвременье, в которые превратилась вся его прожитая жизнь. Хотел исчезнуть прочь с этого окровавленного пустыря, озаренного жестоким искусственным светом, пропасть и не быть.
– Грязнов! – позвал он. – Строй их в колонну!.. Гони в накопитель!.. Утром разберемся!..
Пошел, запинаясь, к машинам.
Они двигались обратно ко Дворцу, уложив на днища машин своих убитых и раненых. Обогнули тлеющую подбитую «бээмдэ». Выехали на поворот, где туманился близкий Кабул и мутно горел пожар соседнего министерства обороны.
Он увидел перед собой на дороге два тяжелых красных разрыва. Гул и грохот ударили по колонне. Калмыков ощутил на лице хлопок тяжелого воздуха.
Опять проревело и шмякнуло, вспучив гору пузырей огня и разрыва. Дым от тяжелых снарядов, подсвеченный красным, клубясь, улетал в небеса.
– Водитель – реверс!.. Назад!.. Колонна, стоп!.. Рассредоточиться! Отходить за гору!.. – Калмыков находил последние силы для команд, для действий, для постижения того, что случилось.
Стреляли прямой наводкой от министерства обороны, где десантники, захватившие здание, смыкали фланг с его батальоном. Оттуда летели снаряды, дергались вспышки, били танки или самоходки десантников.
И страшная догадка: их хотят уничтожить свои. Стереть с земли, чтоб следа не осталось. Ни звука, ни слова, ни памяти. Они, взявшие штурмом Дворец, застрелившие его обитателей, совершили такое, после чего не живут. И поэтому, гоняясь за ними по свету, вылавливая по одному, посылали бесшумные пули. Их уберут с земли, сделавших презренное дело, чтоб не мешали своим знанием и видом, не свидетельствовали на судах и процессах.
Догадка была ослепительной. Она породила ярость и ненависть к тем, невидимым, в московских штабах, пославшим их убивать. Разработавшим план операции, последним звеном которой было убийство его, Калмыкова.
И, видя, как рвутся снаряды, как мерцают вспышки с туманной окраины города, он приказал операторам:
– По вспышкам огонь!.. Дави их, сук!.. Суки кровавые!.. До последнего!.. Мозги по стене!..
Боевые машины развернули башни и ударили из своих скорострельных пушек в ночь, в туман, испятнав его малыми красными нарывами, метинами взрывов.
– Я – «Кора»! – забулькала рация, и дальний, витавший в ночи голос генерала остановил его. – Что у вас происходит?… Почему ведете огонь?… Доложите обстановку!..
– Докладываю!.. Если не прекратят огонь по колонне, разворачиваю машины и двигаюсь в город!.. Дойду до посольства!.. Хоть на одной гусенице дойду!.. И раздолбаю в упор!..
С ним случилась истерика. Его бил колотун. Горло и грудь рвал кашель. Он был готов дать приказ по колонне и направить машины сквозь взрывы. Пробиться к прямой Дарульамман, к белому мраморному посольству, где укрылись мерзавцы, задумавшие его истребление. Упереться траками в асфальт и садить из пулеметов и пушек по ненавистному логову, вырубая в мраморе дымные дыры.
– Разнесу посольство к едрене фене!..
– Прекратить огонь!.. Обозначьте ракетой свой передний край!.. Огонь прекратился. Он чувствовал, как истерика, подобно кипятку,
стекает вниз, в желудок, порождая жжение, словно открывалась в желудке язва. Приказал:
– Вперед!.. Гони!.. Чтоб зацепить не успели!
Промчались по трассе, высекая из асфальта искры, развернув орудия в стороны туманных предместий. Пригибаясь к крышке люка, он чувствовал сквозь обжигающий ветер, как следят за ним далекие прицелы, движутся вслед за ним дульные отверстия тяжелых самоходных пушек.
Глава двадцать вторая
Они подкатили ко Дворцу, к сумрачному неосвещенному порталу. И первое, что увидел Калмыков, сползая с брони, был «мерседес», в который стреляли солдаты. Машина отсвечивала лаком, белым хромом, хрусталями фар, а в нее в упор стреляли из автоматов. Драли очередями, лохматили. Всаживали пули в багажник, в радиатор, кололи стекла.
– Падла вонючая!.. – тонко выкрикивал плосколицый казах, ударяя по скатам, из которых со свистом вышел воздух, и «мерседес» просел на обод. – Падла, паскуда! – взвизгивал казах, разряжая магазин в радиатор, из которого полилась жидкость.
Солдаты били ботинками в борта машины. В них клокотала неизрасходованная ярость боя, стремление крушить, разрушать. Они мстили за раненых и убитых товарищей, срывали все свое зло на дорогом автомобиле.
– Паскуда вонючая! – вопил казах, стреляя по красным хвостовым габаритам, топя в металлическом теле машины свои ненавидящие пули.
– Отставить стрельбу, дурила! – вяло сказал Калмыков, огибая «мерседес». – Бак рванет!
Входя под своды Дворца, слышал за спиной – опять завизжал казах и ударила очередь.
В холле Дворца на каменном полу горел костер. Солдаты штыками крошили узорную дверь, кидали в огонь щепы. У колонн, мерцавших своими яшмами и сердоликами, лежали раненые – забинтованные головы, перевязанные плечи, в белых обмотках руки.
– Товарищ подполковник! – выступил из темноты ротный Баранов. – Ваше приказание выполнил. Танки противника захвачены. Потерь нет.
– Где Беляев? – Калмыков скользил глазами по лежащим, слыша вздохи и стоны, наркотическое бормотание тех, в чьей крови гуляло обезболивающее зелье.
– Легко ранен. Осколочком его чиркнуло.
Беляев лежал на животе с голой спиной, перебинтованной крест-накрест.
– Товарищ подполковник… Ваше приказание… – Он пытался встать, но Калмыков остановил его:
– Лежи!.. Жив, и слава Богу! – отошел, чувствуя исходящее от капитана зловоние.
В глубине комнаты, где размещалась охрана гвардейцев и куда не долетал свет костра, слышались стоны и всхлипы.
– Пить им дайте! – сказал Калмыков.
– Поставил ведро с водой, – ответил Баранов.
Третий раз подымался Калмыков по ступеням Дворца. Впервые – с врачом, восхищаясь красотой, позолотой. Вторично – во время недавнего штурма, в размытом беге, среди вспышек и взрывов. И теперь, в темноте, среди скользящих фонариков, по разгромленным липким ступеням.
На втором этаже, куда он взошел, светя фонарем, было громко, гулко. Луч осветил солдата, который мочился на пол, прямо на ковер. Струя переливалась в свете фонаря, солдат, облегчаясь, скалил зубы.
Кучка солдат швыряла в высокую люстру автоматные рожки, сбивала подвески. Хрусталь звенел, осыпался, как сосульки. Солдаты ловили стеклянную капель, рассовывали по карманам, смотрели на фонари сквозь радужные грани.
– Домой привезу, под лампу в избе повешу! – радовался здоровенный парень, подняв к счастливому голубому глазу мерцающее стекло.
В библиотеке тлел вялый пожар. Несло дымом, едким запахом горелой бумаги и кожи. Пламя лизало полки, разгоралось и гасло, превращалось в зелено-синие химические язычки. Вновь распалялось ветром, дующим в разбитые окна.
В кожаных креслах развалились прапорщики, пили вино. Сосали из горлышек, запрокидывая пузатые бутылки с наклейками. Их кадыки, грязные от нагара и пота, жадно шевелились и дергались. Оба были пьяны, не встали при появлении Калмыкова.
Маленький ловкий узбек, отложив гранатомет, трудился над узорной дверной ручкой, выламывая ее штык-ножом. Ручка не поддавалась, летели щепки, узбек пыхтел, сердился. Дергал узорную бронзу, напоминавшую лилию.
У дверей, в которые час назад вбегал Калмыков, вышибая гвардейцев, стояла группа солдат. Переминались, пересмеивались. Приоткрывали створки, заглядывали, светили фонариками.
– Что здесь? – спросил Калмыков.
– Не знаем! – Солдаты гасили фонари, воровато оглядывались, расходились.
Он вошел и в гулком свете среди перевернутой мебели, разгромленных шкафов, развороченных постелей услышал возню, частое жаркое дыхание.
Его фонарь осветил комья одеял и подушек, здоровенного, с голым задом солдата, лежащего на женщине. Ее голые синеватые колени были раздвинуты, голые руки разбросаны. Солдат давил ее лицо своей лохматой головой, ерзал, хрипел.
– Мразь!.. Отставить!.. Убью!.. – крикнул Калмыков, ударил солдата в обнаженную мускулистую поясницу. – Пристрелю!
Солдат оглянулся оскаленным безумным лицом. Фонарь осветил слюнявые губы, черные усики, мокрую кровавую ссадину на скуле.
– Уйди! – прохрипел солдат.
– Мразь! – орал Калмыков, ударяя из автомата в потолок, чувствуя, что сейчас наведет ствол на лохматую башку, снесет в упор череп.
Солдат, матерясь, неуклюже слез. На четвереньках, оглядываясь, хрипя от страсти и ненависти, пополз к дверям, а женщина осталась лежать, недвижная, с большими расплывшимися грудями.
– Баранов! – Калмыков увидел входящего ротного. – Сам встань у дверей… Бабу береги… Если что, стреляй… – Потащился на третий этаж.
Он увидел солдатика, сдиравшего с окна гардину. Тот дергал тяжелую ткань, она трещала, рвалась, сползала на голову солдата.
– Что ты делаешь? Зачем тебе? – беззлобно и безнадежно спросил Калмыков.
– Товарищ полковник приказал! – ответил солдат, выпутываясь из матерчатого свитка.
– Это ты, Калмыков? – Татьянушкин в своей короткой распахнутой куртке возник в снопе света. – Живой? Ну и ладно… Я приказал… В занавеску хмыря завернуть…
Он повернул в сторону свой фонарь. Пробежал лучом по разгромленному, с осколками бутылок бару. Скользнул по резной золоченой стойке. И у стойки на полу, вытянув босые ноги, в трусах и майке, лежал Амин. Одутловатое лицо свернулось набок. Темнела на губах сукровь. Стеклянно, недвижно выпучились глаза.
– Опознают его, и к чертям!..
Весь Дворец, от подвалов до крыш, дышал, хрустел, стонал. Был как женщина, которую насилуют. Срывают покровы, сдергивают драгоценности, бьют, заваливают, мучают непрерывной сладострастной мукой. И запах был – пота и крови. Запах бойни.
Калмыков подошел к окну, без стекол, с вырубленными кирпичами. Здесь поработали скорострельные «Шилки». Кабул вдали туманился, в нем ухали взрывы, колебались пожары.
Он, Калмыков, крохотная песчинка, малый и слабый, был выбран для жестокого деяния. Он смотрел на дело рук своих, на красные пожары в ночном азиатском городе, и Дворец стонал непрерывным задушенным стоном.
Часть четвертая
Глава двадцать третья
Вся его сознательная военная жизнь, где преобладали упорная работа, преодоление, чувство тревоги, была воплощением грубых материальных энергий, очерствлявших душу, огрублявших мысль. Но среди грубого и жестокого бытия оставался малый потаенный заповедник, в который он редко заглядывал, но знал о нем по слабому лучику света, бьющему из-под старинной, тесно прикрытой двери. Он предчувствовал: когда проживет свою жизнь, одряхлеет, ослабеет умом и телом, когда сгорят все грубые, поддающиеся тлению материи, он двинется по этому лучику света и найдет ту старинную дверь. Там откроется ему знакомая, с детства любимая комната, высокое мутноватое зеркало, буфет с голубыми чашками, и в креслице будет сидеть бабушка, поджидая его. Они усядутся рядом, возьмут друг друга за руки, станут рассказывать, как жили порознь, друг без друга. Она посмотрит на него своими чудными карими глазами и скажет: «Мое солнышко!.. Мой милый, мой милый мальчик!..»
Калмыкову казалось, он на мгновение задремал у разбитого ночного окна. Очнулся – за окном тусклое мглистое утро, белые дали, черная путаница деревьев. Комната, в которой он задремал, – разгромленная богатая спальня, скомканная кровать, золоченый шнур с кистью и засохший размазанный след от кровати к порогу.
Он услышал налетающий свист, ожидая удара и взрыва. Свист перешел в оглушительный рев, и в небе вырастающей точкой возник самолет. Накрыл Дворец камуфлированным треугольником, и Калмыков успел разглядеть красную звезду на хвосте.
Самолет ушел, невидимый, взмыл над кровлей, оставляя рубец звука. И вторая машина, вслед первой, возникла на бреющем, протыкая зимнее небо отточенным острием. Круто, задирая нос, взмыла над Дворцом. Калмыков, опираясь на обугленный подоконник, увидел пятнистый киль и красную звезду.
Первая машина, совершив петлю, стала увеличиваться из малой точки, обрушилась на город, неся ему разящий удар звука, страх разрушения, падающее, рассеченное небо.
Город после ночной смуты получил под утро беспощадные, крест-накрест удары по плоским крышам, лавкам базаров, глазурованным чашам мечетей. Жители, слыша, как в продырявленное небо хлещет жестокий металлический вой, скрылись в жилищах.
«Это я… Мое утро…» – думал Калмыков, подтягивая за ремень автомат. Переступил раздавленную стеклянную крупу очков. По высохшему грязно-ржавому следу вышел из спальни.
След вел по коридору, словно протащили мокрую швабру. Калмыков старался не наступать на высыхающую полосу, озирал утренний Дворец. Стены казались скользкими, в подтеках, в жирной копоти. Солдаты сидели, спали на полу вповалку, прижавшись друг к другу. Их лица казались синими, неживыми, в проступивших трупных пятнах.
Он шел по следу, слыша, как снаружи, над крышей выходит из пике самолет, сотрясая штукатурку стен, остатки стекол, разрушенную лепнину и люстры. Болел прокушенный распухший язык. Ныло запястье с рубцом от браслета.
Он шагал по коридору среди стреляных гильз, оброненных рожков, раздавленных хрусталей, стараясь не наступать на след, оставленный мертвым телом, из которого, пока его волочили, изливалась лимфа и кровь. Ему казалось, что теперь весь век он будет идти по этому следу мимо городов, деревень, по площадям, переулкам, вдоль храмов и памятников, к собственному порогу и дому.
Калмыков казался себе нечистым, в липком холодном жире, скопившемся во всех складках и порах усталого тела. Ему захотелось помыться, услышать плеск чистой воды. Он ткнулся в несколько комнат, где скопился слоистый, плавающий под потолком дым. Угадал туалет. Вошел, повернул узорную рукоять.
В раковине из зеленоватого мерцавшего камня была зловонная жижа. В кранах не было воды. Зеркало наполовину осыпалось, и длинные стеклянные лезвия хрустели и лопались под ногами. В ванной из того же полудрагоценного зеленоватого камня были нечистоты, валялось махровое, с кровавым пятном полотенце, женский огромный лифчик с твердыми выпуклыми кругляками. Калмыков поторопился выйти. Снаружи с ревом прошли самолеты, и прапорщик, просыпаясь, ошалело крутанул белками.
Он нашел Татьянушкина у стойки золоченого бара. Татьянушкин выглядел исхудавшим, желтолицым, с костяными впадинами глазниц, с провалами висков. Глаза белые, вываренные. Он щерился, тянул сквозь зубы воздух.
– Сейчас придут, опознают, и ко всем чертям! – быстро произнес он, увидев Калмыкова, будто повторял эту фразу всю ночь, а теперь произнес ее вслух: – Опознают, и ко всем чертям!
Он кивнул на длинный, обмотанный гардиной куль, у которого обрывался размазанный высохший след. Под тканью угадывалось лицо с подбородком и носом, живот с выпуклыми, сложенными кистями рук, ноги со ступнями и коленными чашечками. Гардина была саваном, в котором покоился труп.
– Попить сходить, снег пожевать! – Татьянушкин сосал воздух, словно в нем были водяные пары. Его нейлоновая куртка была прожжена, на животе торчала рубаха, штаны были полурасстегнуты. – Хрена они возятся с опознанием!
По лестнице поднимались, поворачивали в коридор двое в штатском, один в долгополом пальто с поднятым воротником, в котором пряталась голова с черной кольчатой бородой. Другой в клетчатой тужурке, отороченной мехом. Их сопровождали солдаты, лениво, небрежно шаркая тяжелыми крагами.
– Наконец-то, мать их!.. – проворчал Татьянушкин.
Первый, с бородой, не был знаком Калмыкову. Во втором, облаченном в куртку, Калмыков узнал афганца Азиза, того, что на вилле говорил о народном восстании.
Оба неуверенно, торопливо шли под конвоем солдат, ждали, куда их приведут, где поставят. Остановились у бара, переминались перед длинным, лежащим на полу кулем.
– Давай покажи! – приказал Татьянушкин маленькому солдатику, притулившемуся за резной золоченой стойкой. – Сейчас вам покажут тело, – обратился он к пришедшим. – Вы должны опознать его и сказать, Амин или нет!
Солдатик развертывал, сволакивал гардину, обнажая разведенные врозь босые ступни, синеватые ляжки, выпуклый простреленный живот, на котором, прикрывая дыру, скрючились пальцы рук, тяжелую запрокинутую голову с редкими волосами, лицо с тусклыми остановившимися глазами, черный рот, полный жидкого вара.
– Давайте смотрите лучше! – требовал Татьянушкин.
Оба наклонились к трупу, вглядывались в опавшие щеки, поросшие щетиной, в мертвые глаза, осматривали жирное тело, сальные, поросшие шерстью плечи, кудель волос на груди, ступни с подогнутыми пальцами, на которых желтели ногти.
Калмыков смотрел не на труп, а на тех, кто склонился над трупом. Вдруг заметил, что кольчатая борода отклеилась, и под пластырем обнаружилась бритая щека. Этот, в пальто, с фальшивой бородой, сказал:
– Амин!.. Он, Амин!..
Азиз издал гортанный, похожий на клекот звук. Стиснул кулак, ударил в воздух над лицом убитого. Заговорил, выбулькивая слова.
Пнул лежащее тело. Переходя на русский, коверкал в косноязычии слова:
– Собака!.. Мучил!.. Стрелял!.. Глаза колол!.. Огонь жег!.. Брата убил!.. Дядя убил!.. Достегир убил!.. Махмуд Дост убил!.. Сайвутдинубил!.. Сам подох, собака!..
Он пинал труп. От удара в животе лежащего раздался похожий на выдох стон.
Азиз отпрянул, умолк. Второй, с приклеенной бородой, не отрываясь смотрел на убитого.
– Все ясно… Идите… – отсылал их Татьянушкин. Устало смотрел в их удалявшиеся спины. – Айда, – сказал он Калмыкову. – Возьмем «бэтээр», закопаем…
Солдаты завернули тело в гардину с лохматой бахромой. В несколько рук подняли тяжелый куль, понесли по коридору.
Внизу его забросили на корму «бэтээра», и Татьянушкин, сев на броню, упер в куль ступню, прижимая к уступам металла.
– Давай, водила, за стрельбище!
Калмыков поместился в люк, приказал: «Вперед!» Машина, огибая исстрелянный «мерседес», покатила по серпантину, где слабо дымилась сожженная «бээмдэ» и снег на обочине был черный от разлитого топлива.
За стрельбищем в унылой низине, запорошенной песком и снегом, «бэтээр» стал. Два солдата по приказу Татьянушкина начали тут же копать, отламывая от мерзлого грунта камни и щебень.
– Давай канистру! – потребовал Татьянушкин у водителя. Мертвое тело, не разворачивая, стянули с транспортера, шмякнули
в тесную ямину.
Татьянушкин носком сапога затолкал поглубже гардину. Раскупорил канистру и аккуратно, как клумбу, полил бензином рыжую бугрящуюся ткань, хлюпающую, впитываюшую топливо.
Калмыков, не вылезая из люка, сверху смотрел, как пропитывается саван и солдат, опираясь на лопату, длинно сплевывает.
– Отойди, а то поджарю! – прогнал его Татьянушкин, чиркнув спичкой.
Сразу зачмокало, словно внутри лопались пузыри.
Труп горел жарко, чадно, как автомобильная покрышка. Дым летел на транспортер, и Калмыков брезгливо отстранялся от частичек сгоравшего жира и мертвой крови. Думал: вот так исчезает жестокий восточный правитель, убитый им, Калмыковым.
Труп горел, черный, с разведенными стопами, сложенными на животе руками. В рыжем пламени белыми языками отдельно горели нос, соски, пах, ногти ног.
Калмыков оглядывался, стараясь запомнить место. Тусклые голые склоны. Дикие валуны. Далекая дымка хребта.
Быть может, в старости, прожив свою жизнь, он снова вернется, отыщет сухую рытвину, торчащий из глины валун. И тогда у безвестной могилы над горсткой обгорелых костей ему откроется смысл происшедшего, жестокость беспощадного мира, его собственные зло и вина. И мелькнет на мгновение дух восточного деспота, надменное волевое лицо, властный презрительный рот.
– Давай забрасывай! – Татьянушкин понукал солдат, и те в две лопаты стали кидать глину на тлеющий полуобгорелый труп. Сквозь комья сочился наружу дым.
– Хорош! – сказал Татьянушкин. – Если весной размоет, лисы и собаки сожрут…
Они выруливали, отъезжали, колотясь на ухабах. Калмыков оглянулся на дымящую рытвину.
Многие годы после смерти бабушки она являлась ему во сне. Вдруг возникала живая, улыбающаяся. Полное ощущение, что это явь – ее голос, улыбка, блеск любящих глаз, тепло ее присутствия рядом с ним. И от этого – счастливое изумление: она не умерла, но ее остывшее тело он клал на старый дедовский стол, где мерцала хрустальная чернильница, бронзовый подсвечник, стеклянный шар с морским разноцветным чудищем. Но ее хоронили под плач и воздыхание родни. И вслед за этим – ослепительная догадка – ее смерть мнима, бабушка жива. Вот она, рядом. С ней можно говорить, целовать, слушать ее любимый голос. От этого – ликование, счастье, огромное облегчение, благодарность. Но вслед за этим – другая загадка, страшная, жестокая: это всего лишь сон, бабушки нет, она приснилась, и сновидение начинает улетучиваться, бабушка от него отлетает, тянется к нему, а ее у него отнимают, и там, где она только что была, теперь пустота, боль, знание, что он один, без нее, навеки.
Он просыпался с криком. Его слезы, его рыдания. Бабушка давно умерла, а он, уже стареющий человек, лежит один в темноте.
На обратном пути они повстречали колонну пленных. Тысячи гвардейцев, продрогших, полураздетых, с синими лицами, тянулись по обочине, шаркая, запинаясь. Их сопровождали десантники в беретах, в ремнях, поигрывая автоматами, с румяными от утреннего мороза лицами. «Бэтээр» стал, пропуская колонну, гвардейцы исподлобья взглядывали на Калмыкова, и в их глазах было одинаковое покорное, испуганное выражение, как в овечьей отаре.
Перед порталом Дворца стояли две самоходные артиллерийские установки с десантными эмблемами на пупырчатой броне. Сновали рослые длинноногие десантники. Покрикивали офицеры в голубых беретах. Властный, потный, без знаков различия офицер пожал Калмыкову руку. Татьянушкин сказал офицеру:
– Спасибо!.. Отлично сработали!.. – и тут же крикнул желтоусому капитану: – Да пусть тут же в саду копают!.. Куда их еще тащить!..
В саду, розовом от зари, среди голых развесистых яблонь, перламутровых ледяных мерцаний пленные гвардейцы копали могилы. На снегу, готовые к погребению, лежали убитые. Из Дворца на брезентах вытаскивали новых убитых, переваливали через парапет и под гору по наледям сваливали к могилам.
– Все стволы – на учет! В общий трофейный список! – распоряжался седовласый десантник. И Калмыков понял, что у Дворца теперь другие хозяева. Он, Калмыков, сделал свое дело, и в нем нет нужды. Его поредевший батальон возвратился в казарму, туда же свезли убитых, а раненых на санитарных машинах отправляли в кабульский госпиталь.
Из Дворца, путаясь в дверях, появились солдаты с носилками. На них лежала убитая девочка, накрытая шубкой. Лица ее не было видно – только выбивались черные косицы с красными бантами. За носилками тяжело переваливались грузная мясистая женщина с желтым опухшим лицом и другая, молодая, та, которую Калмыков отбил у солдат.
Они прошли к фургону. Десантники втащили носилки, посадили женщин, и те скрылись в коробе железной машины.
Опять показались носилки, в них лежал врач Николай Николаевич, по грудь накрытый одеялом. Его острый нос был задран, рот приоткрыт, а захлопнутые коричневые веки были наподобие грецких орехов. Калмыков посмотрел на него, испытав знакомое, ослабленное усталостью чувство недоумения и боли.
– Едем к нам на виллу дерьмо смывать! – сказал Татьянушкин, дернув его за локоть. – Кое-кого захватим, и айда! – И пошел во Дворец, увлекая за собой Калмыкова.
Ожидая, когда вернется Татьянушкин, Калмыков уселся на ступеньки под картиной, где люди в чалмах сшибались в сече. На ступеньке осколками гранаты был оцарапан мрамор. Рядом темнел засыхающий кровавый шлепок. Мимо сновали десантники, стаскивали оружие, рулоны ковров, медные подносы и блюда. Дворец был наполнен беготней, треском, звоном стекла.
Калмыков увидел – по лестнице поднимается Квасов, дипломат из посольства, тучный, грузный, в распахнутом пальто. Колыхался его живот, жирный розовый подбородок. Он старался не наступать на рассыпанные гильзы, выбирал на ступеньках неизмызганное место. За ним следовали два молодых человека, по виду посольские, несли одинаковые кожаные сумки.
– Подполковник, доброе утро! – Квасов увидел Калмыкова, выкатил на него смеющиеся, умные, презирающие глаза. – Видно, не спали? Хорошо поработали! Когда-то здесь было красиво! – Он повел своей пухлой чистой рукой по закопченным стеклам, расколотым люстрам, истоптанному тряпью. – Проведите, подполковник, по своему хозяйству!
Калмыков, повинуясь не словам, а странному, ноющему любопытству антипатии к этому сытому цинизму, властной самоуверенности, поднялся и вслед за холеным юнцом, за посольскими добротными пальто и кожаными саквояжами направился по коридору.
– Да куда же вы! Направо! – Квасов направлял своих спутников уверенно, словно знал давно эти коридоры, кабинеты и залы.
Проследовал в библиотеку. Под потолком слоями висел коричневый дым, из которого косо свисала обгорелая, обколотая люстра. В книжную полку вошел и взорвался снаряд гранатомета, и из черной лохматой дыры вяло сочился дым. Пол был усыпан обгорелыми страницами, тлеющими переплетами. Истоптанные ковры, стол, кресла запорошил сухой пепел. На этом сером пепле кровянел брошенный бинт, желтели латунные гильзы.
– Здесь!.. Ключи!.. – командовал Квасов, принимая от спутников связку ключей. Вставил ключ в скважину невидимой, замаскированной обоями двери. Калмыков удивился – Квасов знал расположение комнат Дворца, его секреты и тайны. Имел ключи от дворцовых секретов и тайн.
Дверь раскрылась, и Калмыков вслед за Квасовым шагнул в небольшую, неярко освещенную комнату. Вдоль стен стояли металлические стеллажи и на них – аккуратные, завязанные брезентом тюки, закрытые деревянные ящики.
Квасов быстро, жадно оглядел стеллажи. Снял ближний ящик, раскрыл. Калмыков из-за жирного плеча Квасова увидел: на черной бархатной подстилке, продавливая ее, светясь нежной желтизной, лежали золотые изделия. Маленькие литые скульптуры людей, животных, фантастических птиц. Браслеты, украшенные орнаментами, с голубыми и зелеными каменьями. Серьги, свитые из золотых струящихся нитей. Овны с крутыми рогами, украшавшие гребень. Волки, плотной стаей бегущие по рукояти кинжала. Изделия ювелиров были разложены в коробках и ящиках. Квасов снимал их с полок, раскрывал, и тусклая комната наполнилась нежным чистым свечением драгоценностей, руки Квасова покрылись тончайшей золотой пыльцой.
– Откуда? – спросил Калмыков, испытывая головокружение от обилия лучистой энергии.
Он чувствовал сладостное больное недоумение от вида совершенных изделий, которые хранились во Дворце за потаенной дверью, в то время как он, Калмыков, бежал, разбрасывал вокруг пламя, пули и кровь. Люди, штурмовавшие и оборонявшие Дворец, хрипели, харкали кровью, мочились и блевали в углах, а в это время прелестная золотая танцовщица с луновидным лицом, длиннохвостая рыба, ныряющая в волнах, остроклювая цапля, раскрывшая крылья, недвижно, беззвучно притаились в бархатной тьме. И вдруг теперь обнаружились.
– Откуда все это?
– Бактрийское золото! Тюля-Тепе!.. Мы знали, что оно во Дворце. Если вам интересно – из алтайских степей двигались три великих кушанских рода. Один растворился в Иране. Другой исчез в эфемерном царстве Александра Македонского. Третий осел здесь, в долине Гиндукуша. Таким образом сложилось великое царство Кушан. В культуре этого царства дышит Египет, Греция, дух монгольских кочевий. Это золото добыто из гробницы Тюля-Тепе. Ваши солдаты могли его украсть, уничтожить. Теперь оно не пропадет.
Квасов любовался, восхищался. Его лицо, еще недавно циничное, с брезгливо оттопыренными губами, с презирающими глазами, теперь было наивным, изумленным и нежным, в легчайших золотых отсветах.
– Сколько же крови пролилось вокруг этого золота! – говорил Квасов. – И сколько еще прольется!.. Сколько мерзости, глупости, дикости совершено и еще совершится!.. Война, политика – дерьмо, гнусь! Но мерзость пропадает бесследно, и остается чистейший осадок – эти самородки!
Он достал из кармана листок бумаги – список изделий, перечень ящиков и коробок. Стал перекладывать украшения в кожаные сумки, и лицо его было счастливым.
Золотым брызгом от золотой траектории полетела и упала на пол крохотная отливка – полуобнаженная женщина, стоящая на спине у льва. Калмыков поднял ее, держал на ладони. Тепло его руки согревало холодный металл. Лучистое свечение золотой богини проникало в его ладонь, разливалось в крови, и он пережил легкое головокружение, словно таинственное безымянное знание из древних времен коснулось его. Он унесет его в оставшуюся жизнь, а малая золотая скульптура, знавшая столько прикосновений, повидавшая столько пиров и пожаров, переносимая из огня в огонь, из кургана в курган, сохранит отпечаток его руки, неисчезающий оттиск его временной, обреченной на исчезновение жизни.
– Все мы куклы, кровавые куклы! – сказал Квасов, принимая, почти отнимая у Калмыкова скульптуру. – Вы получите свои ордена, похороните своих мертвецов, а золото перекочует из одного сундука в другой!.. Что понаделали! – Он оглянулся на библиотеку, где тлели книги и кружился по ковру сухой пепел. – Уехать отсюда, из дерьма!..
Его лицо, еще недавно наивное, нежное, стало ненавидящим и брезгливым. Эта ненависть была против него, Калмыкова. Комбат, в своей грязной, потно-кровавой робе, с автоматом, с прокушенным языком и ноющей болью в запястье, ответил дипломату моментальной волной ненависти и презрения.
Глава двадцать четвертая
Бабушка умирала тяжело. Крепи, связывающие ее с жизнью, не отпускали. Склеротичные сосуды в голове сжимались, порождали бреды и ужасы. Она грезила наяву, бормотала, выкрикивала чьи-то незнакомые, из прошлого, имена, названия железнодорожных полустанков, обрывки библейских притч.
Все это скопилось в ее огромной прожитой жизни, неизвестное ему, все, что перенесла она среди войны, революций, истреблений любимых и близких, среди бегств и гонений, всплывало теперь в ее бредах, в выпученных невидящих глазах, в костистых горячих руках, которыми она стискивала его руку. Не узнавала, принимала за другого, враждебного, мучающего ее. Кричала, билась. Он плакал, пугался, жалел ее.
В то лето она умирала в деревне на даче. Старая церковь, в которую упала молния, горела в дожде. Черная, переполненная ливнем туча. Горящая церковь. Бабушка в доме борется с несметными полчищами. И он плачет над ней.
Дворец был не его. Не он, штурмовавший палаты, был в них хозяин. Другие взяли их под охрану. Другие шныряли по коридорам, рыскали в закоулках, шарили в ящиках и шкафах. Обдирали Дворец.
Полковники в полевой форме пересыпали в брезентовые мешки пачки и ворохи денег, зеленые, розовые купюры. Торопливо прятали под полу тугие стопки банкнот. В кабинетах вскрывали письменные столы и бюро, извлекали документы и папки. Офицер, воровато оглядываясь, схватил со стола серебряную, инкрустированную лазуритом печатку, сунул в карман. В гостиных и ванных отвинчивали узорчатые ручки, хромированные краны, откалывали от колонн полупрозрачные камни, отрывали от стен ковры и атласные обои. Он, убивший Дворец, расстрелявший бело-желтое, снежно-янтарное тело, отдал труп Дворца другим, и те слетелись на падаль, выклевывали из мертвого тела сочные ломти и лоскутья.
– Поехали! – появился Татьянушкин. – В госпиталь, проведаем наших! А потом на виллу!
Они выехали в город. Кабул, обычно многолюдный и пестрый, был пуст и безлюден, с замурованными домами, забитыми окнами лавок. В тусклом небе железно гудели вертолеты, кружили жужжащую карусель, словно завинчивали над городом огромную жестяную крышку, консервировали его.
Министерство обороны было обуглено, у входа стояли десантные самоходки, патрули, синея беретами, двигались по тротуарам. На перекрестке застыл, накренив пушку, сожженный афганский танк, кругом валялось горелое промасленное тряпье. Тут же в земле зияла дыра и торчали огрызки телефонных кабелей. Людей не было видно, но жизнь, спрятавшись в хрупкую глиняную оболочку, как моллюск в раковину, наблюдала сквозь щели и скважины. Над Майвандом, над мечетями и духанами, прошел самолет на бреющем, ударил хлыстом по Кабулу, оставил в воздухе воспаленный рубец.
Перед госпиталем стояли «бэтээры», отъезжали и подъезжали санитарные машины. Из зеленого микроавтобуса санитары вытаскивали носилки. На них, отрешенный, с голубыми невидящими глазами, лежал десантник – остроносый, стриженый. Солдат-санинструктор, следуя за носилками, нес флакон капельницы.
Они вошли в здание госпиталя. Здесь пахло карболкой, йодом, несвежей кислой одеждой, теплым запахом истерзанной плоти. Койки стояли по коридору, в палатах было битком. Повсюду шевелились, стонали, дышали воспаленно и хрипло забинтованные раненые. Воздух был насыщен общим страданием. Калмыков вдыхал это варево боли и муки, теплое, едкое, тошное.
Мимо санитары протолкали тележку. Навзничь, вверх подбородком лежал человек, голый, с дрожащим провалившимся животом, на котором кровянели тампоны. Из этих красных клочковатых тампонов, затыкавших пулевые ранения, били фонтаны боли. Лицо человека было белым, в капельках голубоватого пота. На ноге грязным комком торчал дырявый носок.
В коридоре на койке лежал обожженный. Его лицо продолжало кипеть, пузыриться, отекало липкой черной смолой. И из этого смоляного клокочущего лица смотрели остановившиеся, выпученные от боли глаза.
Навстречу из операционной пробежал санитар с эмалированным белым ведром. На дне колыхались, плескались желто-красные ошметки.
Они шагали по госпиталю. За матовыми стеклами операционных резали, кромсали, ломали, пилили, отсекали, вливали, вычерпывали, вонзали. В тусклой белизне огромного здания стоял хруст и скрежет. На дно оцинкованных ведер падали извлеченные сплющенные пули, зазубренные осколки, выбитые зубы, щепы костей, разорванные органы простреленного человеческого тела.
Калмыков шагал, ужасаясь: «И это я натворил?… Моих рук дело? Я наломал, нарубил?…»
Все, кто корчился и страдал на койках, были брошены на покорение азиатской столицы, напоролись на ее минареты, мавзолеи, увязли в лабиринтах глинобитных кварталов, упали, сраженные, на площадях и базарах. Другие, кого миновали пули, захватили столицу, укротили ее, господствовали, навешивали над городом реактивные траектории звука, полосовали из неба режущими хлыстами.
«Это я натворил, понаделал…»
Они вошли в палату, где стояло несколько капельниц. Татьянушкин, обежав глазами раненых, нашел седовласого, коротко стриженного человека с отброшенной голой рукой, в которой торчала игла. Приблизился осторожно, склонился и нежно, тихо позвал:
– Коля, слышишь меня?
Глаза человека раскрылись. В их слезной дрожащей темноте мелькнула слабая искра.
– Коля, родной, держись!.. Это твоя третья дырка!.. Чтоб последняя, понял?!
Флакон в капельнице отражал зимнее солнце Кабула. В стеклянной колбочке сочилась прозрачная влага. Человек молчал, и в зрачках его зажигалась и гасла искра жизни. Он вздохнул и закрыл глаза.