Жизнь без бога. Где и когда появились главные религиозные идеи, как они изменили мир и почему стали бессмысленными сегодня Казеннов Дмитрий
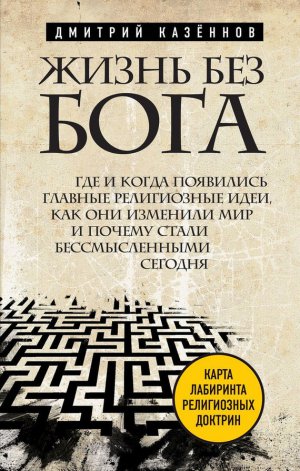
Введение
Всякий идеализм есть ложь перед необходимостью.
Фридрих Ницше
Неверующему человеку может быть сложным начать разговор о религиях. Сложность заключается не в том, чтобы каким-то образом преодолеть влияние религиозных представлений и «сбросить с себя оковы веры», а как раз наоборот, в том, чтобы каким-то образом реконструировать причины поведения и эмоциональных реакций верующих людей.
Начать разговор лучше всего с того, насколько обоснованны и осмысленны те или иные утверждения. Как только я расскажу о соотношении научного метода и религиозных догм, рассказать об истории атеизма будет значительно проще. Сразу же можно будет сказать о том, как естественнонаучные представления о происхождении человеческого вида и об устройстве человеческого мозга разрушают классический миф о душе и теле, об интеллекте и замысле. Станет понятным, почему все наиболее значимые атеистические и пронаучные авторы Нового времени вроде Жюльена Ламетри или Поля Гольбаха были эмпириками, а рациоцентристы вроде Гегеля и его последователей создали свои собственные спекулятивные мифы об Абсолюте. Наконец станут более понятными позиции современных атеистических публицистов вроде Докинза, Деннета или Хитченса. А после этого будет просто подвести итог разговору о «жизни без бога». Как мне кажется, несложно будет показать, что человек ничего не теряет в своей жизни, если обходится без излишне сложных и лишенных практического смысла метафизических умопостроений. Мне кажется очевидным, что религия никак не влияет на наши моральные чувства и не помогает нам жить. Если мы можем отличить истину ото лжи, а истину и ложь от непроверяемых утверждений, нас труднее обмануть. Если нам известно о способах демагогического убеждения, мы не позволим манипулировать собой. Если мы понимаем, что оценочные суждения не могут быть выведены из фактов, мы не будем излишне категоричны в наших оценках. А когда мы осознаем все это, религия просто не будет нам нужна.
Религии свойствен философский изъян. Этот изъян невозможно устранить. Предусмотрительный апологет может осудить трагические или преступные эпизоды церковной истории, сославшись на пороки тварного мира или божественное испытание. Можно принести извинения за действия инквизиции, но нельзя исправить присущее религиозным идеям принятие метода умозрительных рассуждений, фактическое отсутствие у религии достоверного знания о чем-либо. И именно по причине того, что философские корни религии слабы, следует начать разговор с вопросов философии, а не собственно религии.
Для постороннего вере человека религиозность выглядит странной. Любое религиозное учение по своей сути является не информацией о фактах или событиях, которую можно просто принять к сведению, а оценочно нагруженным способом убеждения. Религия начинается с выбора целевой аудитории и выбора способов влияния на нее. Каждый элемент каждого мифа в мире направлен на внушение. В этом религии не отличаются от маркетинга, политической пропаганды, мошенничества или сетевой провокации (троллинга). Смысл игры в том, чтобы вызвать у человека ответную поведенческую реакцию, спровоцировать его, в сущности — контролировать поведение жертвы.
Человек, отрицающий содержание религиозного учения, уже принадлежит к целевой аудитории религиозных деятелей, апологетов и миссионеров. Я имею в виду не логическую сторону вопроса, а эмоциональную. Отрицание — это сильная поведенческая реакция. Я бы стал отрицать только то, что имело бы непосредственное значение для меня и моей жизни, например несправедливые обвинения, которые могли бы разрушить мою репутацию. Но религиозные представления, мифы и городские легенды вызывают лишь недоумение. Неверующий человек — это в первую очередь тот, кому само содержание религиозных сюжетов не интересно, чуждо, бесконечно далеко и кажется лишенным всякого смысла. В этом и заключается принципиальная разница между верой и неверием.
Представьте себе детей лет пяти-шести, которые играют на пустыре во дворе спального района, где когда-то были частные дома. Пустырь полон удивительных вещей (как в той песне группы «Воскресение»: «А когда был целым миром двор, был полон тайн чердак»): на нем могут быть целые джунгли сорной травы, подвалы снесенных домов, «каньоны» строительных котлованов, брошенная строительная техника, сложенные железобетонные конструкции, образующие лабиринт. Теперь представьте себе, что дети придумали небольшой и несложный миф: в груде строительного мусора на дальнем краю пустыря живет чудовище. Тот, кто решится туда отправиться, обратно не вернется. Один из ребят не согласен. Он говорит, что чудовищ не бывает, по крайней мере, не на их пустыре. Он отрицает то, о чем убежденно спорят его сверстники. В то же время он не полезет доказывать своим друзьям, что все в порядке и бояться нечего. Возможно, старая груда мусора просто кажется ненадежной, а под ней может оказаться яма от старого подвала когда-то стоявшего здесь частного дома. Возможно, чудовище на самом деле где-то рядом.
Теперь представьте себе, что на пустырь приезжают строители. Одна из первых задач — вывезти строительный мусор, разровнять бульдозерами площадку, похоронить последние следы дореволюционных трущоб под толщами грунта, подготовить территорию к сооружению типовой школы и многоэтажных жилых домов. Для строителей, в отличие от шестилетних мальчишек, пустырь — это не целый мир, в котором те выросли, в котором происходили самые запоминающиеся события, где были драки, строились шалаши, жглись костры и плавился свинец. Пустырь — это только пустырь и ничего больше. Пустой участок земли в кольце панельных новостроек, один из сотен тысяч таких объектов, повседневная работа, что-то не заслуживающее особого внимания. Между опытом, мыслями и мышлением человека, прожившего десятилетия, и «внутренним миром» ребенка-дошкольника есть целая пропасть событий, воспоминаний, навыков, поведенческих решений и ошибок.
Что могут сказать о «чудовище под грудой мусора» ребенок из первого примера и строитель из второго примера? Чудовища, конечно же, не существует. Вообще-то сложно себе представить ситуацию, в которой человек, работающий на сдельной основе, замотавшийся за последние месяцы, возможно, имеющий проблемы в семье или с жильем, вообще станет говорить о чудовищах, эльфах, пришельцах и тому подобных вещах. Эти двое из нашего воображаемого примера сказали бы одно и то же, но совершенно по-разному, и за их утверждениями скрывались бы совершенно разные поведенческие причины. Ребенок верит своим сверстникам. Он воспринимает все, что говорят окружающие его люди, как нечто, с чем нужно считаться. Он способен различить лишь самую откровенную ложь и самый очевидный вымысел. Способность к критическому анализу, способность игнорировать внушение, способность быть избирательным в том, на что обращать внимание, придут позже, с опытом. Но даже тогда эти способности будут требовать усилий. Для юного скептика слова сверстников — вызов. Возможно, он чувствует протест. Возможно, его характер отличается склонностью к соперничеству и упрямством. Возможно, он попытается заручиться поддержкой авторитетных для него людей. Но как бы там ни было, для него это проблема. Так уж получилось, что в этом возрасте дети — целевая аудитория сказок, мультфильмов или страшных историй, какие обычно рассказывают ночью в летних детских лагерях. Ребята из лагеря будут бояться вызывать домового. Этот несерьезный пример касается очень серьезных вопросов: человеческих поведенческих способностей и навыков, природы внушения, убеждения и внимания, принципов работы мозга и устройства культуры. Спустя десятилетия те, кто боялся домового, будут ненавидеть внешнего врага.
Представьте себе другой пример: обычной домохозяйке и человеку, работающему в экономической или правовой сфере, предложили поучаствовать в финансовой пирамиде (мошеннической организации, в которой проценты по вкладам старых членов выплачиваются за счет привлечения новых членов). Домохозяйка слышала что-то о финансовой пирамиде и возьмется вслух доказывать (скорее себе, чем агенту пирамиды), что финансовые пирамиды — это мошенничество. Однако мошенник — хороший психолог, он по роду своего занятия должен быть изобретателен и постарается сыграть на колебаниях чувств своей жертвы. Коммивояжеры и мошенники не бросают просто так тех из своих жертв, кто начинает протестовать. Финансист же или юрист совсем не станут обсуждать предложение. Для них это вообще не вопрос.
Для человека, знакомого с историей научного метода и антропологией, имеющего образование и опыт, проблема «веры и неверия» — это вообще не вопрос. Трудно буквально и непосредственно воспринимать сюжет, если ты знаешь его происхождение. Мотив умирающего и воскресающего бога слишком широко распространен на Средиземноморье с бронзового века, чтобы казаться уникальным историческим откровением. Логика, лежащая в самом основании богословия, появилась на свет в Афинах времен Сократа. Для антропологов содержание имеющих одинаковую формальную структуру мифов взаимозаменяемо. Для философов история метафизики — это история выдающихся заблуждений и замечательных логических ошибок. Есть огромное количество причин, которые в совокупности делают восприятие всерьез содержания религиозных представлений просто невозможным. И дело здесь не только в невозможности воспринять миф буквально. Есть среди всего того, что доступно разуму, нечто несравнимо более важное, сложное и интересное, чем эскапизм, экзальтация и фантазии о власти религиозных мифов. Когда мы приобретаем новое знание и новый опыт, само наше воображение меняется. Иногда нечто менее общее и менее полное мелодраматическим пафосом, но более конкретное и более близкое нашей собственной жизни становится для нас несравненно более интересным.
Что же до мифов? Религиозные представления имеют метафизическую природу, то есть лежат вне всякой мыслимой проверки, вторичны по своей нарративной структуре множеству еще более архаичных мифологических сюжетов, оценочно нагружены (выдают оценки за факты), внутренне противоречивы, служат самым низким политическим целям реальных религиозных организаций, но что самое главное — предсказуемы и неинтересны. Между религиями, культами, политической пропагандой, маркетингом и мошенничеством нет четкой границы. Религиозная вера, потребность придавать эмоциональное значение мифологическим сюжетам, — как доверие внушению: некритична, эмоциональна, связана с биологическими механизмами человеческой коммуникации, нашей потребностью реагировать на поведение соплеменников. Для неверующего человека содержание религиозных сюжетов не имеет смысла по такой причине, по какой не заслуживают внимания ни мысли о чудовище на свалке, ни мысли о быстром обогащении при помощи схемы Понци[1]. В жизни есть вещи значительно более серьезные, чем воображаемые монстры и перспективы стремительного обогащения.
Можем ли мы вернуться в детство? В некотором смысле да, но с известными ограничениями. Мы можем оценить хорошую историю для детей. У нас остались ностальгические воспоминания о лучших моментах наших жизней. Но есть опыт и знания, которые делают невозможным воспринимать мир, как раньше. Качественно изменилось все то, что мы собой представляем: характер, поведение, память. Однажды оказывается, что на некоторые вещи невозможно смотреть, как раньше. Это касается не только отдельных людей, но и культуры в целом. Даже современные сюжеты о религиозности в массовой культуре как бы «извиняются» перед аудиторией.
Роман «Жизнь Пи» Янна Мартела и фильм по этому роману изображают миф компенсирующей реальность аллегорией. Аудитория свободна делать выбор между двумя историями на свой вкус, и читателю действительно может показаться более приличным рассказ о зебре, орангутанге, гиене и тигре. Но выбор предпочтений — не вопрос истины. Мысль о религиозном сюжете как о способе принятия жизни не нова, об этом писали и Зигмунд Фрейд, и Фридрих Ницше. Выходит, филология разрушает религию, потому что низводит последнюю на уровень литературы.
Роман Карла Сагана «Контакт» и одноименный фильм как бы «примиряют» религию и науку, уподобляя эмоциональную составляющую «поиска истины» в том и в другом случаях. Особенно неловкой выходит авторская фантазия с числом , бесконечной десятичной дробью. Любая бесконечная десятичная дробь может с некоторой вероятностью содержать в своей десятичной части любую комбинацию, в том числе такую, которая бы совпала с каким-либо кажущимся нам осмысленным значением, подтверждение чего можно найти в теореме 146 «Введения в теорию чисел»[2] Годфри Харди и Эдварда Райта. В конце концов, это бесконечная десятичная дробь. Но более важным является то, что число «пи» не является физической константой в отличие, например, от радиолинии атома водорода или скорости света в вакууме! Это математическая константа, которая не имеет никакого отношения к эмпирической действительности, а лишь обозначает отношение длины евклидовой окружности к длине ее диаметра. Геометрия и математика, как на этом настаивали Бертран Рассел и Альфред Уайтхед в «Принципах математики», являются лишь способами описания действительности, подобными обычному языку. Математическая истина — это не идеальная истина Платона, не априорные синтетические суждения Канта, а лишь лингвистика. Когда мы говорим о том, что 2+2=4, мы утверждаем лишь, что обозначаем при помощи символа «4» то же, что и при помощи символов «2» и «2» вместе. Строго говоря, это тавтология. Допускать, что какой-то «нечеловеческий» разум (опустим на секунду сложность дефиниции интеллектуальности) пользуется евклидовой геометрией, лишь чуть менее наивно, чем ждать от такого разума владения английским языком.
Нельзя сказать, что содержание художественных произведений Мартела или Сагана сколько-нибудь удивляет, но не следует быть к литературе особенно строгими (если только вы — не известный литературный критик). В итоге это довольно вежливые к чувствам верующей аудитории литературные произведения, приятные, как чашечка кофе. Это не Кристофер Хитченс и не Сэм Харрис. Когда я смотрю фильм или читаю книгу, то не могу выкинуть из головы мысль, что это тоже способ убеждения (и еще какой!). Автор имеет в своем распоряжении множество трюков, чтобы произвести на нас впечатление, но это не означает, что мы обязаны ему за это. Христианская карикатура о сухопутной рыбе, над которой смеются другие рыбы (у всех рыб смешные человеческие лица с огромными носами), может быть забавна, но нет ничего смешного в реально существующей кистеперой рыбе латимерии.
Литературное произведение можно оценить, только если согласиться с теми негласными правилами, по которым оно устроено. В английской филологии есть введенное Сэмюэлем Кольриджем понятие suspension of disbelief, которое можно примерно перевести как «сдерживание недоверия». Если произведение кажется достаточно интересным, мы готовы сдержать свое недоверие по отношению к вымышленным элементам сюжета, чтобы получить удовольствие от произведения. Мы готовы посмеяться над анекдотом, даже если он абсурден. Англичанин, француз и русский нашли на необитаемом острове бутылку с джинном, исполняющим желания? Нет проблем. Мы не против сопереживать драме, даже если она переворачивает исторические события вверх ногами. Распутин был главным виновником падения царской России? Почему нет? При определенных условиях мы готовы буквально воспринять самый очевидный художественный вымысел, например чудесные истории пророков из Назарета или Мекки.
Складывается впечатление, что современная массовая литература, касающаяся роли религий, только и делает, что ищет основания для подобного «сдерживания недоверия» по отношению к религиозным сюжетам. Поскольку к чудесам всерьез относиться трудно, религиозные сюжеты берутся не буквально и не целиком. Иисус Христос был просто отличным парнем, не правда ли? Предметом такой литературной апологетики становится плохо формализованная «суть религиозности», не зависящая от частностей содержания религиозных мифов. Персонаж Янна Мартела интересуется индуизмом, христианством и исламом, но не делает окончательного выбора. Он просто религиозен. А вот что собой представлет такая «просто религиозность»? Эмоциональное удовольствие от аналогий между собственным опытом и судьбами отдельных религиозных персонажей? В таком случае, где разница между верующим человеком, ассоциирующим себя с историей о праведнике или герое, и девушками-подростками, ассоциирующими себя с переживающими разлуку лирическими героями поп-музыкальных песен? Или речь о вере в рациональный замысел мироздания? Но что это такое? Спросите у тех, кто верит в замысел, что такое «интеллект», и вы поймете, что особенно важных и универсальных откровений от литературного сюжета «о замысле» ожидать не стоит.
Вот что мне вспоминается, когда я думаю о «Жизни Пи», — слова из «Исследования о человеческом познании» Дэвида Юма: «…сочинения, изложенные легким стилем, не слишком отвлекающие от жизни, не требующие для своего понимания ни глубокого прилежания, ни уединения, сочинения, по изучении которых читатель возвращается к людям с запасом благородных чувств и мудрых правил, приложимых ко всем потребностям человеческой жизни. Благодаря таким сочинениям добродетель становится приятной, наука — привлекательной, общество людей — поучительным, а уединение — занимательным»[3].
Литературный сюжет о религиозности не так категоричен, как сам религиозный миф, наоборот, он вежлив к верующим и неверующим. В современных сюжетах религия или нечто, близкое ей по форме, изображается не как буквальная истина, а как извинительное приватное увлечение отдельных персонажей, их индивидуальный способ мириться с собственной жизнью, истинность и полезность которого оставляется на усмотрение аудитории. В таких сюжетах религиозные персонажи борются, страдают и преодолевают конфликты, а их просветленное состояние в конце является прямым следствием их сюжетного пути. Форест Гамп из одноименного фильма находит внутренний мир сам и помогает в этом окружающим. Репортер Фил Коннорс в фильме «День сурка» переживает цепочку перерождений снова и снова, пока в конце концов не побеждает собственный эгоизм. Мне кажется, читатель сможет продолжить этот ряд сюжетов сам, вопрос в другом. При чем здесь истина?
Впрочем, изображать религиозность интимной частью личной жизни могут себе позволить только просвещенные представители цивилизованных стран. В нашем, казалось бы, вполне современном мире есть еще много мест, где религия — инструмент политической власти, и потому она не уйдет молча со сцены, чтобы покорно занять нишу литературного жанра или частных увлечений. В мире невежества и истерии религия — это власть. Как коллективный феномен религия служит тем же целям, что политическая пропаганда, и мы слишком отчетливо видим это даже сегодня. Люди, которые внезапно сменили коммунистическую демагогию на православную, слишком активно разоблачают сами себя. Миф управляет поведенческими реакциями человеческих масс. Это настолько очевидно, что сегодня даже автор блога может создать себе впечатляющий сценический образ и покорить свою аудиторию: трус, подвергавшийся унижениям в детстве, может внушить подросткам пиетет, изобразив из себя многоопытного мужчину. Мы живем в мире, где гуру правят своими сектами, главы духовенства действуют с еще большим размахом, политики используют тех и других, и все это далеко не новость. Но что заставляет людей становиться верующими?
Я могу представить себя верующим человеком. Я могу представить себя христианином, причем в моих представлениях идеальным. Я мог бы выгодно и привлекательно представить и изобразить вариант любой конфессии или деноминации — католической, православной, протестантской. Я не был бы агрессивным неофитом, вообразившим, что мгновенно стал лучше окружающих (в отличие от всяких шумных «новообращенных» членов чиновничества, бомонда и рок-сцены, не говоря уже об откровенных провокаторах, погромщиках и наркоманах). Я не был бы суеверным и формально соблюдающим правила благочестия членом общины. Меня не приводили бы в восторг новодельные иконы или иерусалимские магнитики на холодильник. Я не требовал бы расправы над теми, кто не разделяет мои убеждения или не живет моим образом жизни. С моими знаниями я был избирателен в своих убеждениях, легко избежал бы разнообразных форм «прельщения». Я в совершенстве изучил бы, например, библеистику, патристику или литургику, знал бы каждый нюанс своей традиции, но при этом вряд ли был бы буквоедом и подошел бы к делу апологетики и миссионерской деятельности творчески (в разумных пределах, чтобы не смутить критиков-коллег). Поскольку большинство тропов христианских сюжетов мне в целом знакомы, я легко пользовался бы ими в риторике, направленной как против внешних, так и против внутренних оппонентов (как же без них?). Я не был бы отягощен детскими комплексами и не чувствовал бы себя обязанным «духовным авторитетам» с двусмысленной репутацией (если «авторитет» призывает хвататься за оружие или неловко позорится в ток-шоу, лучше посылать ему благодарности на расстоянии). Я мог бы немного покритиковать стяжательство и вмешательство в политику (с беспроигрышных позиций чистоты веры, но без лишнего оппозиционного энтузиазма). Я мог бы представить любому потенциальному члену моей паствы христианскую традицию как красивую, привлекательную и открытую мечту о весьма понятных вещах, вроде спасения (как объединения с нетварными энергиями апофатического антиномическим образом тринитарного бога, что может быть проще?). Я был бы чертовски харизматичным и убедительным в этой роли (здесь, пожалуй, я уже себе льщу).
Однако проблема здесь вот в чем: все это мне неинтересно. Пусть это будет своего рода кенозис: «Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы…». Быть идеальным христианином — все равно, что быть идеальным игроком в настольные игры. Это не преувеличение. Я не могу придумать сравнение, более точно отражающее мои мысли. Я подробно познакомился с христианством и другими религиозными учениями только в университете, уже после текстов Платона и Аристотеля. Христианская патристика слишком очевидным видом вторична той платонической логике «идеального» и аристотелевской логике «первопричинности», которая сама по себе изначально контринтуитивна, спекулятивна и противостоит всему тому, что можно назвать интеллектуальной честностью и здравым смыслом.
Какое-либо представление о религии сложилось у меня достаточно поздно. До университета мои представления о религии были довольно поверхностными, я думал, что Троица — это что-то вроде семьи из трех медведей. В детстве из всех моих друзей и близких у меня была лишь одна престарелая родственница, которая увлекалась религией. Но теперь я понимаю, что ее верования были обычной «сборной солянкой», получившей широкое распространение в поздней советской и постсоветской России: какое-то «фиолетовое пламя», «звенящие кедры» и еще что-то, не менее невообразимое. Те из моих сверстников, кто уделял слишком много времени «духовным поискам», увлекались дзен-буддизмом, реконструкцией славянских верований и сочинениями Кастанеды, казались мне инфантильными бездельниками. По правде говоря, большинство людей, чрезмерно увлеченных религиозными, эзотерическими и метафизическими проблемами, до сих производят на меня именно такое впечатление.
Мне не интересно содержание какой-либо отдельной религии. Мне не интересны соответствующие богословские споры. Религия в сущности скучная и предсказуемая вещь. Человеческому уму могут быть доступны несравненно более интересные предметы. Интерес представляет то, что открывает само существование религий — об устройстве культуры и мозга, о природе воображения и о способах убеждения. Есть еще более интересные вещи, например вопросы научного метода и логики. Знание и опыт меняют вкусы и интересы. Человеческий рассудок способен на столь удивительные достижения, что в сравнении с ними метафизика есть буквальное ничто. Если сравнить философию с литературой, люди, получающие удовольствие от чтения работ Джозефа Хеллера или Роберта Пенна Уоррена, Лоренса Дарелла или Гертруды Стайн, чаще всего не особенно интересуются фантастикой или детективами.
А вот теперь сложный вопрос. Как следует назвать подобное отношение к «вопросам веры»? Странно, что самые простые вопросы порождают неожиданно большие трудности. Как лучше назвать человека, который не находит ровным счетом никакого смысла во всем том, что мы обычно называем религиозностью? Чем, к примеру, атеисты отличаются от агностиков, и важна ли эта разница в конечном счете? Если мы связываем свои самые принципиальные убеждения с атеизмом, не предполагаем ли мы тем самым значимость теологических вопросов? Если слово «атеизм» не подходит, что следует использовать вместо него? Следует ли вообще использовать какие-либо специальные слова, если наше отношение к известному кругу «вопросов веры» — не центр наших убеждений, а лишь их периферия? Частность, о которой приходится вспоминать раз в год?
Не подумайте, что я слишком легкомысленно отношусь к религиям. Религиозные проповеди можно снисходительно игнорировать ровно до тех пор, пока в них не звучат призывы к погромам или террору. Адольф Гитлер использовал религиозную риторику, обращаясь к своему народу, и поддерживал отношения с христианскими церквами, включая Ватикан. Московский патриархат Русской православной церкви в ее современном виде был создан Иосифом Сталиным. Современный патриарх Кирилл показывает себя верным политическим сторонником Владимира Путина. Антиклерикализм затрагивает политические и правовые вопросы. Почему современная цивилизация готова назвать нацизм нацизмом и большевизм большевизмом, но скромно замолкает, когда речь заходит об испанской или доминиканской инквизиции, о педофилии католического духовенства или об исламском терроризме?
Историческое существование религий — хроника жестокости и борьбы за власть. Не следует забывать об этом, когда кто-то начинает отвлеченно говорить о вере. Другой момент, который редко затрагивается в дискуссии о религии, — внутреннее устройство религии. У религий есть буквальное содержание, например история о Сиддхартхе Гаутаме, но есть принципы, которые определяют такое содержание, как повторяющиеся принципы голливудского кино, которые можно отыскать в самых разных, казалось бы, кинокартинах. В этом сравнении нет ничего уничижительного, ведь архаичная легенда, народная сказка или религиозный миф устроены так же схематично, как и блокбастер широкого проката. Что есть современная массовая культура, включая истории супергероев, отважных полицейских и хоббитов, если не мифы и легенды нашего времени?
Если я спрашиваю, в чем заключается важность и значимость содержания религиозных представлений, то это отнюдь не случайный и не праздный вопрос. Дело здесь вот в чем. Многие люди привыкли считать, что существуют такие вопросы, которые важны для каждого. Вопросы причины, цели, начала, смысла человеческого существования и подобные им. Сами эти вопросы будто бы вечны и общезначимы, хотя они редко формулируются в явном виде в каком-либо учении. И каждая религия как будто дает способ ответа на такие вопросы. Сами того не понимая, верующие люди видят своего рода ответ на эти незаданные вопросы и в атеизме, в отсутствии религиозной веры. Атеизм как бы говорит: у человеческой жизни нет ни цели, ни причины, ни смысла. И это кажется отказом от всяких «высших целей», расточительным, бесперспективным и неблагодарным жестом. Это все равно как выбросить ценный подарок.
Неудивительно, что изображенный таким образом атеизм представляется верующим людям разновидностью нигилистических религиозных настроений, исключающей спасение, достижение нирваны или какое-либо иное особое благо, своеобразным «духовным тупиком», заблуждением или формой иррационального протеста. Словосочетание «жизнь без бога» приобретает отрицательную окраску. Из этого ловко вытекает образ атеиста как «соломенного чучела», своеобразной живой полемической логической уловки.
Однако подобный сюжет «о соломенном безбожнике» не имеет ничего общего с теми причинами, по которым реальным людям не интересны религии.
Мысль, которую я хотел бы высказать и с которой следовало бы начать разговор о религиозности, довольно проста, но чаще всего ускользает от рассмотрения религиозных полемистов. Заключается она в том, что, принимая вопросы о причинах всего происходящего в мире, о цели или смысле человеческой жизни, о том, что есть благо и что есть истина, мы неявным образом принимаем определенные метафизические утверждения, которые сами по себе заслуживают отдельного и пристального критического рассмотрения. А способ употребления самих этих слов вроде «причины» отличается от принятого в обыденности или естественно-научного способов употребления. Но именно с подобных вопросов, изначально заданных некорректно и не имеющих эмпирического смысла, и начинаются рассуждения религиозных апологетов и миссионеров. Если разобраться, оказывается, что всякая вера начинается с великой бессмыслицы, спрятанной от пристального взгляда за эмоционально нагруженной риторикой.
Нельзя дать сколько-нибудь осмысленный ответ на бессмысленный вопрос. Но проблема истории, происхождения и внутренней логики подобных вопросов выходит за рамки богословия и религиозных мифов.
Неверующие люди обычно начинают разговор о религиях с вопросов научного знания, но я совершенно не согласен с подобной стратегией. Естественно-научные данные определяют наше представление об устройстве мозга, видообразовании и астрофизических процессах, но осмысленность определенных утверждений — вопрос логического анализа. Главная проблема соотношения религии и науки не является естественно-научной, это проблема научного метода и соотношения проверяемых и непроверяемых утверждений. Ричард Докинз в своем знаменитом сочинении «Бог как иллюзия» настаивает на том, что существование бога — это теория, от которой можно отказаться на основании естественно-научных данных. Но как мне представляется, это совершенно неверная стратегия анализа.
Целый ряд утверждений, лежащих в основании религиозных убеждений, являются метафизическими. Проблема метафизики, как мы называем жанр непроверяемых суждений в честь самого известного произведения Аристотеля, несравненно шире, и дело не только в разнообразии содержания. Подобные утверждения невозможно опровергнуть, но именно это позволяет говорить о том, что они лишены смысла, чисто лингвистически. Это не вопрос фактов и не вопрос веры. Это вопрос логического качества предложений. Соотношение религии и науки — вопрос философии.
Наиболее важные логические основания религии оформились в Античности, а постановка проблемы отделения достоверного естественно-научного знания от произвольных убеждений принадлежит эмпиризму Нового времени. Когда я говорю о философских основаниях современного научного метода, то имею в виду аналитическую философию, которая была создана ведущими учеными и математиками XIX–XX веков, связана с достижениями естествознания, но сосредоточена на конкретной и эксклюзивной задаче, никак не пересекающейся с задачами естественных наук, но имеющей практический смысл — на логическом анализе конкретных утверждений. Вопросами метода естественных наук и математики на протяжении конца XIX и всего XX века были всерьез заняты такие известнейшие ученые и математики, как Мах, Гедель, Тарский, Карнап, Уайтхед, Фейнман, Оппенгеймер и Гейзенберг. Вопросы дефиниций или интерпретаций, такие как вопрос о том, какова природа математической истины, что классифицировать как интеллект, где проходит граница между жизнью и неживой материей или как понимать коллапс волновой функции, имеют чисто методологическую природу. Есть проблема чистоты эксперимента и принцип двойного слепого опыта. Есть огромная проблема достоверности результатов в медицине. Все это серьезные и конкретные проблемы, хотя для русскоязычного читателя зачастую кажется парадоксальным совершенно очевидное и банальное для Рассела или Гильберта утверждение о том, что между математикой и аналитической философией нет четкой границы. Отечественные мифы о науке и культуре также вывернуты наизнанку, как мифы о политике и истории.
В наиболее общем смысле философия — это слово, используемое для обозначения всего жанра рассуждений и их принципов, а рассуждения могут иметь совершенно разное логическое качество. Принципы логики лежат в основании естественно-научных теорий и математических теорем, в основании юриспруденции и анализа пропозиций, они определяют наш способ проверки гипотез и доказательства теорем. Но те же рассуждения (зачастую, содержащие намеренные ошибки) также лежат и в основании самых грубых спекуляций, городских легенд и просто мошенничества. В сущности, к философии можно отнести и формальную логику, и математическую логику, и теоретические обобщения естественных наук, и даже математику (философия и математика вообще в отдельных моментах неразличимы), но вместо этого под философией слишком часто понимается бессмысленная демагогия и полная профанация, вроде русской религиозной философии или постмодернизма.
Но самой главной для нашего разговора является проблема демаркации. Я хочу рассказать историю догматической философии, противопоставить ее принципам научного исследования и тем самым показать, что религиозные утверждения уже на уровне лингвистики и логики не могут быть истиной или ложью. В таком случае говорить о «вероятности существования бога» просто не приходится. Что лежит по ту стороны истины и лжи, также лежит и по ту сторону вероятного и невероятного. Если взять и подвергнуть анализу античный фундамент современных рассуждений о вере, обнаружится, что подобная дискуссия лишена всякого достаточного основания.
Конечно, нельзя забывать, что проблема религии выходит за рамки камерной полемики об истине, равно как и проблема истории национал-социализма больше, чем политические споры в пивных Мюнхена. За метафизикой скрывается великая трагедия, которая касается практически каждого. История метафизических рассуждений — это история спекулятивных социальных учений, оправдывавших катастрофические политические решения. Это история категоричных оценочных суждений, ломавших реальные судьбы. Это история уничтожения инакомыслящих, история политического и клерикального насилия. Это история превращения меньшинств вроде евреев в «крайних мира сего». Это также история наиболее постыдных суеверий, откровенного мошенничества и лженауки.
Остается только добавить, что, говоря о философии, я буду рассматривать только прямое противопоставление рационального догматизма и эмпиризма. Это философия в буквальном смысле, жанр рассуждений, история которого позволит понять проблему безосновательных утверждений и недостоверных выводов, полученных из ложных предпосылок. Хотелось бы отделить подобное академическое понимание слова «философия» от его обыденного употребления, в котором иногда философией называют любые убеждения, любые мысли, любые принципы, например «философию компании Apple» или «философию рок-музыки».
Главная философская особенность религии заключается в том, что религиозные убеждения произвольно постулируются и не подлежат проверке. Такие убеждения называют метафизическими, по названию сочинения Аристотеля «Метафизика». Чтобы сделать вывод о ценности метафизических утверждений, достаточно лишь рассмотреть историческое происхождение подобных убеждений и историю критики метафизики учеными и философами Нового времени. Станет очевидным, что утверждения о высшем предназначении, благе или душе логически отличаются от утверждений о фактах и предметах, а оценочные суждения религиозных традиций совершенно произвольны и зачастую банальны. Метафизические доводы — это не сверхъестественное знание, а игра воображения и беспредметная спекуляция.
В сущности, жизнь без метафизических убеждений и произвольно взятых циклопических идеалов проще и честнее. Действительность не сообразна нашему разуму, скорее разум, точнее мозг со всем его содержимым — это частный случай действительности. Не биологическая эволюция рациональна, а человеческая рациональность построена на переборе комбинаций. За всю нашу историю спекулятивные убеждения не принесли нам никакой пользы, в то время как достоверное научное знание драматично изменило судьбу нашего вида к лучшему. Мы устанавливаем правила нашего поведения лишь для того, чтобы приспособиться к жизни, а не приспосабливаем жизнь к сверхъестественным правилам. Одной из самых важных мыслей кажется мне то, что все общие фразы, все категоричные оценки, все громкие максимы и все бескомпромиссные идеалы существуют в человеческих языках и воображении постольку и лишь постольку, поскольку существуют конкретные факты, ситуации и судьбы. Все общие фразы мира существуют лишь постольку, поскольку существуют конкретные судьбы, а не наоборот.
Люди, которые стремятся убедить нас в чем-либо, чаще всего лгут нам и действуют исключительно в собственных интересах. Если человек желает добиться от меня согласия с его оценочными убеждениями, причем не желает ждать, пока я приму решение (если я заключаю договор, мне нужно время, чтобы оценить порождаемые им права и обязанности), и прибегает к демагогическим уловкам, его целью является манипуляция моими эмоциями и поведением. Такому контрагенту попросту нельзя доверять. Помните: откровенный и честный человек не станет прибегать к настойчивому убеждению, он лишь сообщит вам информацию и позволит вам самим сделать необходимые вам выводы, и только лжец и негодяй вывернется наизнанку «ради правды». Как говорил Фридрих Ницше, истина — не «такая простодушная и нерасторопная особа, которая нуждается в защитниках».
Читателю может показаться, что в первой половине книги я слишком много говорю об истории философии и слишком подробно цитирую мыслителей, которые вроде бы и не были религиозными деятелями. Но я уверяю вас, в этом есть смысл! Представьте себе, что есть несколько стратегий анализа религии и религиозных идей: можно говорить о них с позиции естественных наук, с позиции культурологии и антропологии, с позиции нейробиологии или сравнительного религиоведения. И авторов, которые пишут о религиях в подобном критическом ключе, немало! Но мне кажется более важным и интересным не рассказ об истории Церкви и не исследование Библии, например, а скрытые основания самого разговора о религиозности, те философские предрассудки, которые определяют все то, что представляют собой религиозные идеи. Это очень интересная проблема, но замысловатую линию рассуждений античной метафизики, которая предопределила судьбу религии и границы дискуссии о сверхъестественном, нет смысла пересказывать. Нет каких-то дополнительных аргументов, которые можно привести в пользу платонизма или патристики. Основание этих спекуляций и догм — лишь в них самих. Читатель сам сможет решить, верно ли то, что рассуждения Платона или Аристотеля причудливы, но не вызывают никакой симпатии. Причем они предопределили не только богословие христианских святых отцов или каббалу иудейских мудрецов, но и величайшие (и наиболее разрушительные) идеологии: но на каких глиняных ногах построен этот колосс? Кажется совершенно необходимым привести здесь как можно полнее примеры человеческой метафизической мысли, ведь в итоге разговор о религии, о философии, о науке и о мифе — это разговор о природе воображения. Вот почему очень важно так подробно изложить античные труды: содержащаяся в них аргументация формально последовательна, но основывается на произволе, который вернее всего продемонстрировать с помощью цитат.
Вот главное, что необходимо повторить: наиболее полное понимание самой природы религии порождает вовсе не эмоциональное отрицание. Эмоциональные реакции свойственны аудитории рассказа, но не исследователю-филологу. То же справедливо и в отношении религии и философии. Если понять логическое устройство и историческое происхождение религиозных идей, буквально воспринимать их невозможно. А поможет понять, почему, подробный и хорошо иллюстрированный рассказ об истории величайших и наиболее одиозных заблуждений.
Для симметрии классикам я хочу подробно процитировать таких авторов, как Бэкон и Гольбах. Это позволит показать историю становления естествознания, сопутствующей естествознанию эмпирической философии и атеизма Нового времени — а также того, что наследует атеизму, но становится значительно большим, чем просто преодоление религии. Я заранее прошу прощения у читателя, если вступление к нашей дискуссии покажется сложным. Я совершенно уверен в том, что это необходимо! Только рассказав подробно об истории становления религиозных и естественно-научных взглядов, я смогу убедительно сравнить их, дать им оценку и вынести суждения в ту или иную пользу.
И наконец после этого можно будет рассмотреть конкретные точки столкновения религиозных и метафизических идей с принципами аналитической философии и естественных наук. То есть сперва подробно изложить, подробным цитированием объяснить исторический контекст конфликта религии и науки, а затем уже перейти к экстраполяции этого исторического контекста на современность. Так данная работа и будет построена: в первой половине подробный контекст проблемы, а во второй — выводы, аргументация, и самое главное: авторская позиция.
А главная мысль всего моего рассказа, в обоснование которой будет сказано так много, сама по себе удивительно проста: религия кажется мне философской пошлостью, чем-то до смешного обычным и тривиальным.
I. Метафизика и религия. Происхождение великих мифов
— Что есть истина?
Понтий Пилат Иисусу Христу
(Ин 18:38)
Религия — это собирательное и не особенно строгое понятие. Для европейцев, и в частности русских, характерно отождествлять понятие религии с иудаизмом, христианством и исламом, иногда прибавляя к ним античную и европейскую мифологии. Кроме этого, принято говорить об индуизме, буддизме и синтоизме. Но что делать с бесчисленным множеством других мифологий, включая мезоамериканские или полинезийские? Что делать с шаманизмом, который исследовал Мирча Элиаде, или современными культами «Новой эры»? Что вообще характерно для религии? Европеец сказал бы, что религии связаны с фигурой бога, но даже если мы сравним иудейского Яхве, христианского тринитарного антиномического бога и мусульманского Аллаха, мы обнаружим, что это три совершенно разных персонажа. Да-да, именно так: я не вижу никакой связи между Яхве, которого врукопашную поборол в своем шатре Иаков, и той апофатической абстракцией блага, которую постигали через «нетварные энергии» восточные мистики на горе Афон. Но даже самая обобщенная фигура божества не является отличительной особенностью того множества мифов, которые мы называем религиозными, иначе как нам относиться к буддизму или сайентологии? Чтобы сделать ситуацию еще интереснее, добавлю, что не вижу принципиальной разницы между религиозным культом и магией контакта и подобия, как их описывал Джеймс Фрэзер, или даже между религиозными мифами и мифами в широком смысле, включая социально-политические мифы вроде марксизма, или городские легенды, которые разрушают Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж («Разрушители мифов»).
Я не шучу. Если мы принимаем для исследования тропов человеческой мифологии (и в целом культуры) метод структурализма, то рано или поздно начинаем видеть нарративы даже в повторяющихся сценариях повседневного здравого смысла, а различение «глубокого» и «мелкого» или «эзотерического» и «массового» теряет смысл.
Ситуация начинает казаться запутанной, но именно поэтому я предлагаю начать разговор о природе религии вовсе не с религий самих по себе. Представьте себе, что религиозные сюжеты — это изменчивая поверхность, повторяющая жесткую, но не видимую нами структуру. В человеческой культуре и литературе есть нечто более фундаментальное, чем чудеса и пророки. Полагаю, начать разговор следует с той скрытой внутренней логики, которая делает возможными и сами религии, и дискуссию о религиозности как таковую. Я имею в виду метафизику, жанр рассуждений о всем том, что не дано в чувственном опыте, но запросто существует по крайней мере в языке.
Наиболее удобным примером для такого разговора, на мой взгляд, является философия Платона и Аристотеля. Именно платонизм лежит в основе христианской патристики и во многом определяет европейскую религиозную мифологию, включая представление о благе как таковом, об идеалах, о бессмертной душе, о перерождении, о рациональности мира и особенном месте разума в мире, об утопии, социальной инженерии и евгенике. Аристотель в своем труде, название которого стало нарицательным, употребил понятия причинности и цели таким странным и противоестественным для современного ученого, но удобным для искусства демагогии образом, что до сих пор тут и там приходится слышать риторические вопросы «о причинах» или «о цели» всего происходящего в нашей жизни. Вместе эти два наиболее великих и одиозных античных автора определили всю рациоцентрическую европейскую философскую традицию, включающую христианское богословие и схоластику, неоплатонизм, картезианство, немецкий идеализм, гегельянство и марксизм, а также большую часть того, что мы имеем в виду, говоря о религии, включая сайентологию. Большая часть риторики о человечности и божественности, идеалах, высшем благе или высших целях, о низменном и высоком, духовном и материальном, о законах истории и принципах морали, с которой вы когда-либо сталкивались или столкнетесь, развалится как карточный домик, если выдернуть из ее основания замысловатый и совершенно чуждый эмпирическому рассудку античный миф.
1. Идеалы, высшее благо, душа и истина. Великие мифы Платона
Всем известно, кого Иисус Христос называет лжецом и отцом всей лжи, но я полагаю, что настоящий лжец и отец всей лжи европейской культуры — Платон. Ницше называет платонизм «самым худшим, самым томительным и самым опасным из всех заблуждений», настоящим кошмаром, извращающим всякую жизнь, которой он касается. Для того чтобы понять причину этого утверждения, достаточно обратить внимание на странные слова Сократа в диалоге Платона «Федон»: «Те, кто предан философии, заняты, по сути вещей, только одним — умиранием и смертью»[4]. Эта простая фраза — одна из самых зловещих и одиозных в истории человечества, а ее последствия выходят далеко за рамки философии как жанра риторических бесед улиц и застолий Афин V–IV веков до новой эры.
В своих Диалогах Платон устами умирающего Сократа противопоставляет тело и его потребности, с одной стороны, и душу, разум и познание, с другой стороны. «Как, по-твоему, свойственно философу пристрастие к так называемым удовольствиям, например к питью или к еде? — спрашивает Сократ. — Например, щегольские сандалии, или плащ, или другие наряды, украшающие тело, — ценит он подобные вещи или не ставит ни во что, разумеется, кроме самых необходимых?»[5] Любой более или менее знакомый с принципами жанра подобных риторических жестов читатель мгновенно поймет, какой вывод будет сделан на следующем ходу: «именно в том прежде всего обнаруживает себя философ, что освобождает душу от общения с телом в несравненно большей мере, чем любой другой из людей»[6], — заключает Сократ. Это рассуждение важно для Платона, поскольку, по его мысли, действительность, данная в органах чувств, недостоверна, непостоянна и беспорядочна. Но в отличие от чувственной действительности, которая раздражает античного публициста своей сложностью, принципы логики или математики постоянны, категории языка упорядочены, а полученные на их основании выводы достоверны. В этом заключается суть теории познания, присущей платонизму. Именно по причине своего крайнего рационализма и в силу своих познавательных предпосылок Платон создает знакомое нам представление о душе, существующей независимо от тела и содержащей человеческие интеллект и память:
«[Смерть — это] Не что иное, как отделение души от тела, верно? А „быть мертвым“ — это значит, что тело, отделенное от души, существует само по себе и что душа, отделенная от тела, — тоже сама по себе? Или, быть может, смерть — это что-нибудь иное?»[7]
«Когда же в таком случае, — продолжал Сократ, — душа приходит в соприкосновение с истиной? Ведь, принимаясь исследовать что бы то ни было совместно с телом, она всякий раз обманывается — по вине тела. Мне кажется, это бесспорно»[8].
Таким образом, платоническое представление о дуализме тела и интеллектуальной души является следствием античного представления о знании и истине, противопоставленных кажущемуся и мнениям. Знание истины означает правоту и победу в полемике. Античные философы не преследовали дели постановки экспериментов или получения фактического знания в современном естественно-научном смысле. Истина, о которой говорит Платон, также является идеей абстрактной истинности каждого конкретного утверждения. Платоническое представление о душе просто следует из метода рассуждений Платона.
Католические богословы и еврейские исследователи иудаизма сходятся во мнении, что платоновское представление о душе не было присуще иудаизму и могло быть привнесено в иудейскую культуру не раньше похода Александра Македонского. В иудейском священном писании такие понятия, как «нефеш», обозначают любое живое существо или присуще любому живому существу, а также дыхание, кровь и жизнь, и в этом смысле оно скорее подобно греческой «пневме». Это дыхание покидает человека после смерти, а мыслительная деятельность на этом прекращается. В иудаизме нет развернутого представления о посмертии, вместо него существует простой термин «могила» и относительно позднее понятие воскресения, то есть буквального оживления, в духе сюжета о Викторе Франкенштейне и его Чудовище[9]. Платоновского представления о душе в оригинальном иудаизме нет.
«В В[етхом] З[авете] не существует дихотомии [разделения на две части] в теле и душе… Израильтянин смотрел на вещи конкретно, в целом, и видел поэтому человека как личность, а не как нечто составное. Выражение непес [нефеш], хотя и переведенное нашим словом душа, никогда не означало душу в отдельности от тела или от личности…. Выражение [психе] является соответствующим словом для непес в Н[овом] З[авете]. Оно может означать жизненный принцип, саму жизнь или живое существо»[10].
«Мнение, что душа продолжает существовать после смерти тела, является скорее делом философской или теологической спекуляции, чем просто веры, и Священное Писание нигде об этом ясно не учит»[11].
Иудаизм после эпохи Александра Македонского и тем более средневековый Талмуд, без сомнения, претерпели влияние эллинизма. Заимствования очевидны и самим евреям-иудеям. Мифы и эпистемология Платона сыграли для авраамических религий и вообще всей человеческой религиозности огромную роль. Платоническая метафизика была привнесена в раннее христианство уже Оригеном и Августином. При этом я не хочу сказать, что привычное современному толкованию религиозного мифа и мифологии представление о душе является эксклюзивным для платонизма. Во-первых, пример, который я привел, ограничивается Средиземноморьем, хотя, по мнению некоторых востоковедов вроде Нидэма и Зоммера, архаичным мифологическим представлениям Индии и Китая также не было свойственного платонизму четко выраженного дуализма. Во-вторых, я не берусь перечислить все мифологические истоки представления о душе, включая мифы о путешествиях в сновидениях и анимизм (это потребовало бы сочинения уровня трудов Элиаде и Фрэзера). Эта тема заслуживает отдельного, огромного исследования. Мне кажется благоразумным заключить, что возникновение классического для нас с вами дуалистического представления о теле и душе было неизбежным, с Платоном или без него. Это обычная ошибка нашего рассудка и языка, похожая на антропоцентризм в астробиологии.
Архаичный миф является буквальным и натуралистичным. Магия представляет собой связь предметов, которые соприкоснулись или похожи, а дыхание, как физиологический процесс, или кровь, как субстанция тела, и являются жизнью. Ни о каком продолжении этого процесса после смерти говорить не приходится. Вспомните, что Соломон вполне определенно высказывался о смертности людей. Даже непосредственные предшественники Платона, вроде Анаксагора, разделяли понятие души как витальности, присущей всем живым организмам, и понятие интеллекта, субъективности и памяти, хотя эти понятия сами по себе, наряду со знаменитой проблемой «первоначала», уже фигурируют у них. Платон просто является наиболее значимым автором, выразившим этот миф в его наиболее полной форме. Собственно говоря, история античной греческой философии и есть история становления абстрактного мышления, а употребление общих понятий и есть главное содержание трудов Платона. Важным для нас является лишь одна роковая особенность классической философии, которая оказалась в полной мере выявлена лишь спустя тысячи лет анализом языка: Платон постулировал существование соответствующих общим понятиям эйдосов, существующих в отдельной умопостигаемой реальности, параллельной материальному миру, более ценной, чем материальный мир, и определяющей его.
Вот почему нам следует продолжить разговор о Платоне. Мы остановились на моменте, когда перед нами Сократ, принявший яд и рассуждающий о смерти. Платон приводит доказательства существования отличной от тела и бессмертной души — до рождения и после смерти:
• жизнь противоположна смерти, как сон противоположен бодрствованию;
• чувственное знание равенства самого по себе или прекрасного самого по себе должно быть присуще нам до рождения (мы припоминаем идеи вещей);
• душа является неделимой и неизменной, в противовес изменяемому и смертному телу;
• душа является идеей жизни.
В самом деле? Нетрудно заметить, что Платон в своем диалоге от лица Сократа берет произвольные предпосылки, какими бы необычными они ни были, и получает из них необходимые выводы. Нет ничего само собой разумеющегося или даже убедительного для современного читателя в том согласном убеждении, к которому приходят Сократ и Симмий, будто бы сами общие идеи присущи людям до их рождения и являются, таким образом, примерами припоминания ранее виденного.
Сократ риторически вопрошает, должны ли мы обладать знанием идеи равенства прежде того, как начнем воспринимать предметы. Но что есть эта самая мысль о равенстве сама по себе? Иммануил Кант назвал бы суждение о равенстве или неравенстве предметов аналитическим, то есть высказывающим в предикате только то, что уже мыслилось в предмете: такое суждение не стало бы для него поводом говорить о равенстве самом по себе или мире идей, виденном нами прежде рождения. Для эмпирического рассудка может быть совершенно непонятным, почему мы должны вслед за автором говорить о прекрасном или благе самом по себе? Почему это божественное устроено для власти и руководства, а смертное для рабства и подчинения? В рамках мифа это кажется совершенно справедливым и закономерным (происходящим из постулированных мифом предпосылок), но если взглянуть на миф со стороны, извне, оказывается, что в его устройстве нет ничего непроизвольного! Видите ли, так устроен миф в широком смысле: аудитория мифа не анализирует его структуру, а принимает неявные правила рассказа как данность, по умолчанию.
Мы можем соглашаться или не соглашаться с Сократом, переживать, спорить, задумываться о перерождении души, о двойственности человеческой натуры или о судьбе Атлантиды, но только если перед этим покорно примем правила словоупотребления, оппозиции понятий души и тела, зримого и безвидного или материального и идеального. Если же мы внезапно для себя обнаружим, что роли в мифе заранее определены, что Сократу положено быть центральным персонажем, протагонистом и инструментом авторского высказывания, а вся последовательность вопросов есть лишь режиссура, содержание мифа уже не будет иметь для нас прежнего значения. Ребенок однажды открывает для себя, что куклы в спектакле движутся и разговаривают не сами по себе, проницательный читатель найдет литературную преемственность в творчестве Достоевского Гофману, а любитель фильмов Квентина Тарантино рано или поздно догадается о законах любимого жанра.
В каждом из своих Диалогов Платон рассказывает миф, и христианская мифология, созданная на Вселенских соборах, имеет общую с платоновскими мифами внутреннюю логику. Бог есть благо само по себе, и это лишь самое очевидное, но далеко не единственное заимствование! Представьте себе, что вся христианская патристика невозможна вне платонизма, и даже любое наше современное рассуждение о религии как таковой, в широком смысле — не обходится без Платона. Вот хороший пример: в качестве христианского патриотического определения души митрополит Иларион (Алфеев) приводит слова Афанасия Великого: «Душа есть сущность умная, бестелесная, бесстрастная, бессмертная» и Григория Нисского: «Душа есть сущность рожденная, сущность живая, умная, сообщающая собой органическому и чувственному телу жизненную силу»! Немногие прихожане современной РПЦ отдают себе отчет, сколько тропов платоновской философии и неоплатонизма лежит в самом основании их религиозной традиции, как о том подробно писал, к примеру, Владимир Лосский в своем «Очерке мистического богословия Восточной Церкви»! Разумеется, творчество Платона не является единственным источником всех религиозных мифологий, но именно язык и философию Платона мы используем, когда говорим о религиозных идеях.
В «Федоне» Платон защищает целый ряд интересных нам в контексте проблемы религиозности утверждений: и утверждение о бессмертии и самостоятельном характере души, и утверждение о существовании общих понятий или идей как таковых, и ценность этой истины об идеях. С точки зрения аналитического философа само утверждение об эйдосах является злоупотреблением языком, порождающим непроверяемые утверждения. Из одного того факта, что мы в определенных условиях употребляем слово «красота», не следует, что этому слову соответствует нечто, отличное от красивых предметов. Употреблять слово «красота» — не означает владеть каким-то особым знанием. Но для Платона в рассуждении о красоте самой по себе заключена особая ценность, и вот из ценности подобных идей, в свою очередь, проистекает мысль о ценности души, а ценность тела в противовес ей отрицается — потому что только мешает познанию идей.
«Да, примерно такое убеждение и должно составиться из всего этого у подлинных философов, и вот что приблизительно могли бы они сказать друг другу: „Словно какая-то тропа приводит нас к мысли, что, пока мы обладаем телом и душа наша неотделима от этого зла, нам не овладеть полностью предметом наших желаний. Предмет же этот, как мы утверждаем, — истина. В самом деле, тело не только доставляет нам тысячи хлопот — ведь ему необходимо пропитание! — но вдобавок подвержено недугам, любой из которых мешает нам улавливать бытие. Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами и такой массою всевозможных вздорных призраков, что, верьте слову, из-за него нам и в самом деле совсем невозможно о чем бы то ни было поразмыслить! А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его страсти? Ведь все войны происходят ради стяжания богатств, а стяжать их нас заставляет тело, которому мы по-рабски служим. Вот по всем этим причинам — по вине тела — у нас и нет досуга для философии“».
Вот в чем вина тела перед душой, по мнению Платона: чувства не позволяют эллину предаваться отвлеченным размышлениям. В платонизме жизнь вторична смерти потому, что чувственный опыт и действительность вторичны умозрительным идеалам. Предметы несовершенны, а несовершенство это заключается в несоответствии нашим отвлеченным представлениям. И вот один из самых важных вопросов, который следует задать относительно всего множества мифов, включая мифы религиозные, социально-политические и культурные: что, собственно, такого в наших идеалах? Каковы их происхождение и природа, действительно ли они так хороши, или же сама работа нашего мозга по созданию идеалов есть лишь беспомощная реакция рассудка на жизненный опыт?
Платон не только излагает в «Федоне» миф о идеях и душе, но и дополняет этот миф не менее интересными и важными для нас сюжетами — о перерождении душ и восхождении души к роду богов. И если первый сюжет был отвергнут отцами христианской церкви, то второй и стал ни больше ни меньше, а целью христианства.
Итак, душа и тело согласно Платону занимают противоположные позиции в дихотомии безвидного и идеального, с одной стороны, и зримого и преходящего — с другой. По этой причине душа является несоставной, не распадается на части и бессмертна, поскольку смерть есть распад на составляющие. Но какая судьба ждет душу после того, как тело умерло и распалось на части? Слово Сократу:
«Допустим, что душа разлучается с телом чистою и не влачит за собою ничего телесного, ибо в течение всей жизни умышленно избегала любой связи с телом, остерегалась его и сосредоточивалась в самой себе, постоянно в этом упражняясь, иными словами, посвящала себя истинной философии и, по сути дела, готовилась умереть легко и спокойно. Или же это нельзя назвать подготовкою к смерти?… Но, думаю, если душа разлучается с телом оскверненная и замаранная, ибо всегда была в связи с телом, угождала ему и любила его, зачарованная телом, его страстями и наслаждениями настолько, что уже ничего не считала истинным, кроме телесного, — того, что можно осязать, увидеть, выпить, съесть или использовать для любовной утехи, а все смутное для глаза и незримое, но постигаемое разумом и философским рассуждением приучилась ненавидеть, бояться и избегать, — как, по-твоему, такая душа расстанется с телом чистою и обособленною в себе самой?.. Но ведь телесное, друг, надо представлять себе плотным, тяжелым, землеобразным, видимым. Ясно, что душа, смешанная с телесным, тяжелеет, и эта тяжесть снова тянет ее в видимый мир. В страхе перед безвидным, перед тем, что называют Аидом, она бродит среди надгробий и могил — там иной раз и замечают похожие на тени призраки душ. Это призраки как раз таких душ, которые расстались с телом нечистыми; они причастны зримому и потому открываются глазу»[12].
Души дурных людей не достигают мира идей, к которому свойственно стремиться душе, поскольку они «привязаны в земле» дурной жизнью. Дурная жизнь, как мы видим, есть жизнь, посвященная не интеллектуальным упражнениям, а чувственным потребностям. Такие души обречены существовать без соприкосновения со сферой идеального. Каждый читатель, знакомый с иудаизмом и исламом, должен немедленно узнать картину авраамического посмертия: это уже не культ предков, не страна мертвых, не классический Аид или иудейский Шеол. Но дальше будут удивлены уже индуисты и буддисты, так как Сократ тотчас рассказывает, что души дурных людей в конце концов воплощаются в животных, в соответствии с теми предпочтениями, которые они приобрели в прошлой жизни. Жестокие превратятся в волков или ястребов, а пьяница станет ослом.
Кому-то повезет больше, если он вновь станет человеком, но самые просвещенные, достигшие очищения и просветления, — философы станут после смерти богами. Перед нами законченный и полный религиозный сюжет о просветлении или восхождении.
«Вот то освобождение, которому не считает нужным противиться душа истинного философа, и потому она бежит от радостей, желаний, печалей и страхов, насколько это в ее силах, понимая, что, если кто сильно обрадован, или опечален, или испуган, или охвачен сильным желанием, он терпит не только обычное зло, какого и мог бы ожидать, — например заболевает или проматывается, потакая своим страстям, — но и самое великое, самое крайнее из всех зол и даже не отдает себе в этом отчета»[13].
«Такая душа уходит в подобное ей самой безвидное место, божественное, бессмертное, разумное, и, достигши его, обретает блаженство, отныне избавленная от блужданий, безрассудства, страхов, диких вожделений и всех прочих человеческих зол, и — как говорят о посвященных в таинства — впредь навеки поселяется среди богов»[14].
Представление о душе развивается в диалоге «Федр». Сперва Платон повторяет свое убеждение о душе как источнике жизненного движения и о том, что душа бессмертна:
«Всякая душа бессмертна. Ведь вечнодвижущееся бессмертно. А у того, что сообщает движение другому и приводится в движение другим, это движение прерывается, а значит, прерывается и жизнь. Только то, что движет само себя, раз оно не убывает, никогда не перестает и двигаться и служить источником и началом движения для всего остального, что движется. Начало же не имеет возникновения. Из начала необходимо возникает все возникающее, а само оно ни из чего не возникает. Если бы начало возникло из чего-либо, оно уже не было бы началом. Так как оно не имеет возникновения, то, конечно, оно и неуничтожимо. Если бы погибло начало, оно никогда не могло бы возникнуть из чего-либо, да и другое из него, так как все должно возникать из начала. Значит, начало движения — это то, что движет само себя. Оно не может ни погибнуть, ни возникнуть, иначе бы все небо и вся Земля, обрушившись, остановились и уже неоткуда было бы взяться тому, что, придав им движение, привело бы к их новому возникновению.
Раз выяснилось, что бессмертно все движимое самим собою, всякий без колебания скажет то же самое о сущности и понятии души. Ведь каждое тело, движимое извне, — неодушевлено, а движимое изнутри, из самого себя, — одушевлено, потому что такова природа души. Если это так и то, что движет само себя, есть не что иное, как душа, из этого необходимо следует, что душа непорождаема и бессмертна»[15].
Проблема источника жизненного движения вообще важна. В частности, она сыграет свою немалую роль в творчестве Аристотеля. Кроме того, здесь открывается преемственность между «витальным» жизненным началом Анаксагора и платонической душой. Ведь как раз одно из платоновских доказательств качеств души — это как раз то, что она «наделяет» живые существа движением. Платон просто развивает представление об устройстве души в сравнении с простым жизненным началом или дыханием.
Так, в «Федре» автор изобразил душу в виде колесницы разума, запряженной двумя конями, изображающими высокие и низменные начала характера, и управляемой умом. Это совершенно очевидная аллегория внутренних конфликтов. Душа принадлежит божественному бытию, но воплощается в материальном теле и поэтому испытывает трудности с познанием того, что является лишь умопостигаемым, то есть «…область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души — уму; на нее-то и направлен истинный род знания»[16].
Это «подлинное бытие», которое располагается за небом. Мысль души, которая находится в подлинном бытии, видит справедливость саму по себе, истину саму по себе и от этого получает удовольствие. Но тому, чтобы человеческой душе достигнуть истины и подлинного бытия, мешает противоречивый характер желаний. Качество материального воплощения, в соответствии с платоническим мифом, зависит от количества истины, ставшей доступной душе в нематериальном мире.
«Душа, видевшая всего больше, попадает в плод будущего поклонника мудрости и красоты или человека, преданного Музам и любви; вторая за ней — в плод царя, соблюдающего законы, в человека воинственного или способного управлять; третья — в плод государственного деятеля, хозяина, добытчика; четвертая — в плод человека, усердно занимающегося упражнением или врачеванием тела; пятая по порядку будет вести жизнь прорицателя или человека, причастного к таинствам; шестой пристанет подвизаться в поэзии или другой какой-либо области подражания; седьмой — быть ремесленником или земледельцем; восьмая будет софистом или демагогом; девятая — тираном. Во всех этих призваниях тот, кто проживет, соблюдая справедливость, получит лучшую долю, а кто ее нарушит — худшую»[17].
Платон связывает влюбленность с влечением к красоте, а влечение к красоте с идеей прекрасного самого по себе. Прекрасное — это идея, но человек получает представление о прекрасном при помощи чувств. Конечно, Платон рассуждает в «Федоне» и «Федре» о сверхъестественном мире, как о более прекрасном, чем видимый мир, но его описания «земли на берегу воздуха» или «колесниц богов, которые хорошо управляемы» содержат обыденные примеры и аналогии. Это еще один факт, который следует отметить: типичное рассуждение об идеалах начинается с конкретных вещественных примеров. В «Федре» конкретным поводом для рассуждения о прекрасном является внешний вид мальчиков-подростков (говоря о нравах античности, нужно иметь в виду, что расхожее понятие «платонические чувства» вовсе не означает целибат). Это порождает проблему конфликта желаний: с одной стороны, главный конфликт платонизма — это конфликт идеального и материального, но, с другой стороны, влечение к прекрасному в данном случае имеет телесный характер. Поэтому высокая и низкая стороны влюбленности и изображаются как кони в упряжке: «Из коней, говорим мы, один хорош, а другой нет. А чем хорош один и плох другой, мы не говорили, и об этом надо сказать сейчас. Так вот, один из них прекрасных статей, стройный на вид, шея у него высокая, храп с горбинкой, масть белая, он черноокий, любит почет, но при этом рассудителен и совестлив; он друг истинных мнений, его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом. А другой — горбатый, тучный, дурно сложен, шея у него мощная, да короткая, он курносый, черной масти, а глаза светлые, полнокровный, друг наглости и похвальбы, от косм вокруг»[18].
Конфликт этих двух воображаемых животных — узнаваемая, наглядная и запоминающаяся аллегория. Каждый наверняка знаком с тропом религиозного мифа о восседающих на плечах ангеле и демоне. Для Платона эта аллегория — способ изобразить любовные отношения как нечто подобающее его идеализму. Но в более широком смысле перед нами миф о морали и о человеческой природе.
Однако в этом же диалоге Сократ спрашивает Федра: «Так вот, когда оратор, не знающий, что такое добро, а что — зло, выступит перед такими же несведущими гражданами с целью их убедить, причем будет расхваливать не тень осла, выдавая его за коня, но зло, выдавая его за добро, и, учтя мнения толпы, убедит ее сделать что-нибудь плохое вместо хорошего, какие, по-твоему, плоды принесет впоследствии посев его красноречия?»[19] Платон полагает себя оратором, знающим, что такое добро и что такое зло. Философия, по его мнению, тем и отличается от простой риторики, что основывается на знании. Единственный важный вопрос относительно всей платонической философии заключается в том, обоснованы ли претензии Платона на обладание знанием?
Когда Парменид в одноименном диалоге обращается к Сократу, они приходят к выводу, что «если кто… откажется допустить, что существуют идеи вещей, и не станет определять идеи каждой вещи в отдельности, то, не допуская постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей, он не найдет, куда направить свою мысль, и тем самым уничтожит всякую возможность рассуждения» (Платон. Парменид 428). Диалог «Парменид» является одним из самых сложных среди работ Платона (многие рассуждения запутанны, а выводы сомнительны), поскольку касается соотношения идей с другими идеями и идеях таких соотношений (устами Зенона приводится апория, порождающая бесконечную редукцию отношений идей к новым идеям: если у двух идей есть что-то общее, это тоже является идеей). Главная тема — «о едином и многом», то есть о идее, объединяющей все существующее, по отношению к которой не должно быть никаких других идей, включая подобие и существование. Проблема «единого» у Платона интересна потому, что тесно связана с поиском первоначальной стихии в натурфилософии, первопричиной у Аристотеля и собственно представлениями о боге в христианском богословии. В рассматриваемом диалоге Парменид приходит к заключению, что поскольку единое не может быть множественным и таким образом не должно иметь пределов, начала и конца, то оно «не причастно времени и не существует ни в каком времени», а что самое интересное, не принадлежит идее бытия. О нем вообще трудно сказать что-то определенное (это очень противоречивая абстракция), хотя нельзя заключить, что оно и не существует: «если единое не существует, то ничего не существует». Это совершенно очевидным образом за столетия до Вселенских соборов предопределяет форму рассуждений христианских отцов церкви о боге, включая тринитарную антиномию и апофатическое богословие восточнохристианской мистической традиции (мистические богословы описывали бога как тьму и небытие, «не-сущее»).
Кажущиеся лишенными всякого смысла платоновские поиски определения «единого» могут стать значительно понятнее и ближе нам, если задуматься, почему обобщение доставляет нам удовольствие. Предположим, способность нашего мозга обобщать опыт и вырабатывать типичные поведенческие привычки для множества случаев полезна. Это позволяет вырабатывать полезные благоприобретенные навыки. Общие правила для множества ситуаций — это большая экономия сил и потенциально эффективный способ приспособления. Выгоднее запомнить простой и эффективный способ расколоть орех, изготовить орудие, распознать чужие намерения. Язык, мифология и наука с этой точки зрения — способы адаптации. Платонические абстракции — общие для множества единичных вещей качества. Среди прочего абстракция, как мне кажется, обобщает «эмоциональный вес» каждого отдельного предмета в нашей памяти. Если отдельные ситуации, в которых мы оказывались или о которых слышали, производили на наше воображение какое-то действие, то собирательные понятия, обозначающие такие ситуации, должны иметь суммарный эмоциональный вес. Поэтому рассуждения о судьбе вообще или человеческой природе вообще завораживают воображение. Рассуждение о боге или рассуждение о Восхождении увлекают многих по этой же простой причине. Я полагаю, что и для Платона имели такое же огромное значение рассуждения о красоте самой по себе, благе самом по себе или «идее единого». Ведь это идея идей! Марксистов завораживает мысль о том, что им доступно знание, определяющее ход истории, человеческие судьбы и намерения самых могущественных людей. Фрейду нравилась мысль о том, что он угадал механизмы, определившие культуру. Этот же принцип определяет нашу реакцию на художественные произведения, отвлеченные или иносказательные поэтические образы или кажущиеся нам драматичными сцены литературных произведений. Подросткам в особенности свойственно рассуждать о жизни и смерти — у них мало конкретного опыта, но уже довольно богатое воображение и вполне взрослые амбиции (или это наши амбиции остаются детскими?). Когда я снова читаю Диалоги Платона или рассуждения богословов вроде Фомы Аквинского, их рассуждения напоминают мне плохую литературу: слишком много общих фраз. Мне сразу же вспоминаются слова Ницше о том, что чем более общим является понятие, тем более оно является пустым. За логикой платоновских персонажей, говорящих о идее «единого», сложно внимательно следить, каждый отдельный шаг их рассуждений понятен, но общий смысл их усилий стремительно теряется из виду! Разумеется, разговор о чем-то настолько общем и, следовательно, общезначимом завораживает целевую аудиторию. Что может быть важнее по отдельности, чем все сразу? Зачем быть героем, если можно быть мудрецом, «знающим» и судьбу героя, и все остальные возможные судьбы? Дело не в том, что даже названия ролей «героя» и «мудреца» звучат архаично, просто нас не может не преследовать мысль о том, что где-то по дороге к подобным рассуждениям человеческий мозг совершает вполне конкретные ошибки и далее продолжает работать вхолостую, как мозг крысы в этологическом эксперименте.
Вы наверняка уже обратили внимание, что философия Платона часто опирается на миф. Про мифы в диалогах «Федон» и «Федр» уже было сказано. В десятой книге «Государства», например, Платон рассказывает историю посмертного опыта, перерождений и воздаяния, в которой причудливо переплетается мысль о полезности рационального философского выбора своей судьбы и архаичный сюжет о мойрах Лахесис, Клото и Атропос, раздающих жребии. В «Тимее» и «Критии» изложен знаменитый миф об Атлантиде, а в седьмой книге «Государства» — один из самых знаменитых платоновских мифов, рассказ о пещере. Этот миф выражает главную особенность всей платоновской философии, которую я бы назвал ее главным недостатком:
«…посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная — глянь-ка — невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол»[20].
Смысл этой аллегории прост: реальность и жизнь — это тени идей. Идеи — это истина, а материя — это искажение истины. Это суть теории истины Платона. Платон прямо и буквально называет чувственный мир убожеством, а предметы умозрения — божественными:
«Область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, — это подъем души в область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль — коль скоро ты стремишься ее узнать, — а уж богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага — это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама — владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни»[21].
Именно это категоричное убеждение в основании религий и радикальных проектов политического переустройства общества делает их опасными. Материальным можно поступиться во имя духовного. Жизнями людей — во имя идеалов. Высшее благо важнее интересов людей. Я недаром снова и снова сравниваю религию и идеологию, ведь Платон на основании своих представлений о космосе и человеческой природе создал и одно из самых первых представлений о социальной инженерии, возможно, даже первую из (анти)утопий. Весь цикл диалогов «Государства» и сочинение «Законы» — это мысли об инженерии общества, подчиненной умозрительным идеалам. В числе прочего Платон додумался даже до евгеники, как это мероприятие спустя тысячи лет назвал Фрэнсис Гальтон!
На фоне платоновской методологии и его идеализма, проекта устройства совершенного государства и восхождения разума к умопостигаемому Благу самому по себе, мысль о боге кажется даже несколько второстепенной, как бы это ни парадоксально звучало для верующих людей. Бог и боги-это уже заключительные штрихи космологии Платона. Вот диалог в «Тимее», где автор рассказывает миф о происхождении и устройстве бытия и месте в нем разума:
«Оно [небо, космос] возникло: ведь оно зримо, осязаемо, телесно, а все вещи такого рода ощутимы и, воспринимаясь в результате ощущения мнением, возникают и порождаются. Но мы говорим, что все возникшее нуждается для своего возникновения в некоей причине. Конечно, творца и родителя этой Вселенной Нелегко отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать. И все же поставим еще один вопрос относительно космоса: взирая, на какой первообраз работал тот, кто его устроял, — на тождественный и неизменный или на имевший возникновение? Если космос прекрасен, а его демиург добр, ясно, что он взирал на вечное; если же дело обстояло так, что и выговорить-то запретно, значит, он взирал на возникшее. Но для всякого очевидно, что первообраз был вечным: ведь космос — прекраснейшая из возникших вещей, а его демиург — наилучшая из причин»[22].
Первообразу материальную действительность уподобляет Демиург (буквально — ремесленник). Это не христианский бог, и он играет только функциональную роль, действует как печатная матрица принтера. «Рассмотрим же, по какой причине устроил возникновение и эту Вселенную тот, кто их устроил. Он был благ, а тот, кто благ, никогда и ни в каком деле не испытывает зависти. Будучи ей чужд, он пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому. Усмотреть в этом вслед за разумными мужами подлинное и наиглавнейшее начало рождения и космоса было бы, пожалуй, вернее всего. Итак, пожелавши, чтобы все было хорошо и чтобы ничто, по возможности, не было дурно, бог позаботился обо всех видимых вещах, которые пребывали не в покое, но в нестройном и беспорядочном движении; он привел их из беспорядка в порядок, полагая, что второе, безусловно, лучше первого. Невозможно ныне и было невозможно издревле, чтобы тот, кто есть высшее благо, произвел нечто, что не было бы прекраснейшим; между тем размышление явило ему, что из всех вещей, по природе своей видимых, ни одно творение, лишенное ума, не может быть прекраснее такого, которое наделено умом, если сравнивать то и другое как целое; а ум не может обитать ни в чем, кроме души. Руководствуясь этим рассуждением, он устроил ум в душе, а душу в теле и таким образом построил Вселенную, имея в виду создать творение прекраснейшее и по природе своей наилучшее. Итак, согласно правдоподобному рассуждению, следует признать, что наш космос есть живое существо, наделенное душой и умом, и родился он поистине с помощью божественного провидения»[23].
Демиург не относится уже к классическим греческим богам Пантеона, знакомым каждому из нас (наряду с ними Платон называет божественными существами… звезды). Он создает этих богов и поручает им создать человечество: «Боги богов! Я — ваш демиург и отец вещей, а возникшее от меня пребудет неразрушимым, ибо такова моя воля… Доселе еще пребывают нерожденными три смертных рода, а покуда они не возникли, небо не получит полного завершения: ведь оно не будет содержать в себе все роды живых существ, а это для него необходимо, дабы оказаться достаточно завершенным. Однако если эти существа возникнут и получат жизнь от меня, они будут равны богам. Итак, чтобы они были смертными и Вселенная воистину стала бы Всем, обратитесь в соответствии с вашей природой к образованию живых существ, подражая моей потенции, через которую совершилось ваше собственное возникновение. Впрочем, поскольку подобает, чтобы в них присутствовало нечто соименное бессмертным, называемое божественным [началом], и чтобы оно вело тех, кто всегда и с охотой будет следовать справедливости и вам, я вручу вам семена и начатки созидания; но в остальном вы сами довершайте созидание живых существ, сопрягая смертное с бессмертным, затем готовьте для них пропитание, кормите и взращивайте их, а после смерти принимайте обратно к себе»[24].
Монистическое прочтение Платона ляжет потом в основание христианских ересей и гностицизма, в котором Демиург является антагонистом (исследования гностицизма по той скудной информации, которая у нас имеется, затруднительны и требуют отдельного изучения). Но вот что обращает на себя внимание: в «Тимее» нет ни одного личностного персонажа. Звезды, народные боги, Демиург, космический организм — это «сюжетные устройства», необходимые рассказчику для завершения истории, а не персонажи. Я не хочу сказать, что обладающие персональными качествами божества прогрессивнее (если этот термин Кондорсе вообще применим по отношению к последовательности мифологических сюжетов). Просто такова специфика платонизма. Мысль можно перевернуть: христианство, «привязанное» к телу иудаизмом, кажется в этой позиции более архаичным и неловким.
Окончательные черты мистического учения философия Платона приобретает в неоплатонизме, в творчестве Плотина и Порфирия. Плотин ввел в платоновское мироздание Единое (платоновское «единое» из диалога «Парменид» с заглавной буквы), которое также и Благо само по себе. Согласно трактату «О Благе или Едином» человеческая душа стремится к объединению с Единым: «…мы лучше существуем, когда обращены к нему, и там — наше благо, а быть вдали [от него] — значит быть одиноким и более слабым. Там и успокаивается душа, чуждая зла, вернувшись в место, чистое от зла. Там она мыслит, и там она бесстрастна. Там — истинная жизнь, ибо жизнь здесь — и без бога — есть [лишь] след, отображающий ту [жизнь]. А жизнь там есть активность ума, активностью и порождает душа богов в безмолвном прикосновении с „тем“. Она порождает красоту, порождает справедливость, порождает добродетель. Этим бременеет душа, наполненная богом, и это для нее начало и конец, начало — потому что она оттуда, и конец — потому что благо находится там, и, когда она туда прибывает, она становится тем, чем она, собственно, и была. А то, что здесь и среди этого мира, есть [для нее] падение, изгнание и потеря крыльев»[25].
Плотин ясно распределяет роли Единого, Души и Ума, о которых говорил Платон. Представление Плотина об объединении с Единым как с Благом самим по себе, об отпадении от Единого и, следовательно, утрате Блага, мистическом богопознании через аскезу и отрешение от всего материального, — сущность христианского богословия. Единое Плотина — идеально изображенный христианский патриотический бог, только без личных черт, чудес или антиномий. Христианское богословие принимает элементы неоплатонизма уже через Оригена. Понять Платона и неоплатонизм — означает целиком и полностью, исчерпывающим образом понять христианство Вселенских соборов. При том, что о конфликте между каноническим богословием и неоплатонизмом и позже анафемой последнего хорошо известно, огромное влияние Платона и неоплатоников на христианство не сможет отрицать ни один серьезный богослов. Достаточно вспомнить, как много внимания уделил этому Владимир Лосский в очерке о восточном богословии. Неоплатонические мотивы в христианство привнесли Августин и Ориген, которые крайне положительно оценивали труды Платона и его последователей и видели в этих трудах буквально исток христианства.
Конечно, для христиан важны отдельные различия между платонизмом и христианским богословием. Например, по словам Иустина Философа «только существо, состоящее из соединения обоих [души и тела], называется человеком». То есть в христианстве индивидуальность состоит из души и тела одновременно. При этом, что любопытно, душа до Страшного суда и жизни Нового века существует отдельно от тела, в боге (тело очевидным образом продолжает пребывать в падшем тварном мире), как это суммирует на основании Предания и Писания наш современник митрополит Иларион (Алфеев):
«По церковному преданию, основанному на словах Христа, души праведников относятся ангелами в преддверие рая, где они пребывают до Страшного Суда, ожидая вечного блаженства: „Умер нищий (Лазарь), и отнесен был ангелами на лоно Авраамово“ (Лк 16:22). Души грешников попадают в руки демонов и находятся „в аду, в муках“ (Лк 16:23). Окончательное разделение на спасенных и осужденных произойдет на Страшном Суде, когда „многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление“ (Дан 12:2). Христос в притче о Страшном Суде подробно говорит о том, что грешники, не творившие дел милосердия, будут осуждены и отвергнуты богом, а праведники, творившие такие дела, будут оправданы: „И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную“ (Мф 25:46)».
Затем душа узнает приговор о своей дальнейшей участи. Этот приговор не окончательный, так как окончательное решение будет вынесено на Страшном суде. Однако с этого момента душа находится в предвкушении блаженства или в страхе мучений. До Страшного суда возможны изменения в ее судьбе: «Мы утверждаем, — пишет святитель Марк Ефесский, — что ни праведные еще не восприняли полностью свой удел… ни грешные после смерти не были отведены в вечное наказание… И то, и другое необходимо должно быть после последнего того дня Суда и воскресения всех. Ныне же и те, и другие находятся в свойственных им местах: первые в совершенном покое свободными находятся на небе с ангелами и пред Самим Богом и уже как бы в раю… вторые же, в свою очередь, пребывают… во всякой тесноте и безутешном страдании, как некие осужденные, ожидающие приговора Судьи… Та радость, какую ныне имеют души святых, есть частичное наслаждение, как и скорбь, какую имеют грешники, есть частичное наказание». Святой Марк ссылается на слова бесов, сказанные ими Христу: «Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф 8:29), из которых заключает, что мучения диавола и бесов еще не начались, а только «уготованы» им (Мф 25:41)[26].
Кажущееся избыточным объединение в одном мифе бессмертия души, которая существует после смерти тела, и воскресение в телах из «праха земли» после Страшного суда — на мой взгляд, не более чем атавизм, рудиментарный след вещественного иудаизма, не знавшего никакого спасения или объединения с богом, но знакомого с буквальным воскресением мертвецов, — в платоническом по своей сути христианском богословии. Единственное, что я хочу этим сказать: христианство эклектично соединяет в себе иудейскую традицию и эллинизм. Я понимаю, что это может вызвать возражения, но такие возражения, как я полагаю, будут чисто эмоциональными, а не логическими. Кроме этого, часто приходится слышать, что христианство не отрицает телесность. Это не так. Христианство не отрицает лишь воображаемую совершенную телесность, «очищенную от греха», но реальную телесность называет вслед за Григорием Великим «омерзительным одеянием души». Повторю еще раз: христианство отрицает телесность, действительность и жизнь в пользу умозрительных идеалов в точности так же, как это делает Платон. Та жизнь Нового века, которая будто бы ждет христианина после спасения, не менее умозрительна, чем «мир на берегу воздуха» в «Федоне» или Атлантида в «Критии» и «Тимее».
Хотя подобные детали могут казаться богословам принципиальными, со стороны все это кажется незначительными нюансами единой схемы. Единым для христианства и платонизма являются постулаты, без которых невозможно ни то, ни другое.
Есть благо и есть недостаток блага. Есть совершенные вещи и есть несовершенные вещи. Бог является благом, Единое является благом. Тварный мир несовершенен. Это означает, что он не соответствует умозрительным идеалам Платона или, например, Августина. Эта предпосылка гипостазирует, то есть превращает в нечто онтологического порядка, случайные эмоциональные потребности, присущие античным философам или христианским богословам. Не нравится Платону поэзия, это лишь изображение истины, а не ее постижение? Значит, поэтов следует изгонять из государства. Отцы церкви являются антисемитами? На Трулльском Вселенском соборе провозглашается запрет пользоваться услугами иудеев-врачей и мыться с иудеями в одной бане. Отсюда важный вывод: идеалы представляют собой оценочные высказывания, которые, как я покажу в дальнейшем, вообще не являются истиной или ложью. Идеалы постулируются в силу индивидуальных интересов их авторов. На основании подобных постулатов нельзя получить умозаключения, имеющие истинностное значение (либо истина, либо ложь). Все категоричные оценочные суждения христианства существуют только за счет такой незамысловатой платоновской логики.
С этим постулатом связан второй постулат: целью человеческой жизни является достижение соответствующих идеалов. Человек должен быть философом и постигать идеи или должен спастись (что бы это самое спасение ни означало). Подобная цель будто бы присуща каждому человеку, но в действительности путь к спасению представляет собой такой образ жизни, который удобен и привычен рассуждающему о нем автору. Нравится Платону заниматься сексом с мальчиками-подростками вроде Федра? Следовательно, это путь постижения прекрасного самого по себе. Не способен какой-либо богослов быть с женщиной? Следовательно, сексуальные отношения — это грязь и похоть, а подлинный духовный подвиг — целибат. Боится какой-либо христианин соревнования и конкуренции? Он уходит в монастырь. Совершенно не важно, какой конкретно способ существования предписывает религия: целибат или тантрический секс. Апологеты христианства могут говорить, что их цели и цели общества, вроде сборов налогов, поддержания морали или политической стабильности, одинаковы, а могут утверждать, что им общество безразлично. Важно, что вся риторика каждого миссионера любой религиозной группы имеет для аудитории смысл лишь постольку, поскольку аудитория стремится к религиозной цели вроде спасения или нирваны. Если такая цель кажется бессмыслицей, любой путь к ней — бессмысленная практика. Ритуал культа Карго. Но иногда подобное теряется из виду в дискуссии с миссионерами. Последние демагогическим образом навязывают культовое понимание «нравственности» даже тем, кому высшая цель религии неинтересна.
Еще один метафизический постулат заключается в том, что человеческая индивидуальность имеет сверхъестественный характер и не может подвергнуться материальному влиянию. Это дуализм души и тела, общий для богословов, Платона и Декарта. Противоположное убеждение, согласно которому работа ума и мышления определяется состоянием мозга, уничтожает единую для христианства и античности мысль о свободе ума и воли, о бессмертной и автономной индивидуальности. Физикализм, кибернетика и нейробиология гораздо страшнее для любой религии, чем эволюционная биология или астрофизика. Если все то, что представляет собой наша индивидуальность — лишь содержимое нейронной памяти и на эту память можно воздействовать инструментально, то весь метафизический персонализм каждой человеческой культуры, включая ориентальный и ближневосточный, лишается всякого смысла. Коротко говоря, прогресс науки приводит к единственной мысли, что никакого неделимого и вечного человеческого субъекта не существует, есть только нейрогуморальные состояния мозга и память, и этот логический вызов ужаснее для культов и верований, чем любая информация о том, что у шимпанзе и людей общий предок. В сущности, произведен ли человек из красной глины или же из другого примата, для богословия в широком смысле не важно (в этом отношении замечание митрополита Илариона о том, что христианство возвышает человека в сравнении с атеизмом, производящим его из обезьяны, с философской точки зрения демагогично: чтобы согласиться с этим доводом, следует сперва неявным образом принять в качестве предпосылки дихотомию «возвышенного» и «низменного», которая, как мы убедились на примере платонизма, совершенно произвольна и покоится на произвольно взятых постулатах), — а вот без индивидуальности как таковой нет и индивидуального восхождения.
Я думаю, что становится совершенно очевидным то, что христианство существует только благодаря платонизму и на основании его внутренней логики. Если эту логику из христианства убрать, оно развалится на бессвязные составляющие. Заметьте, я не говорю о боге (любом боге). Бог в масштабах истории религии — это частность. В конце концов, Яхве, которого поборол Иаков в единоборстве, и подобный Единому тринитарный бог — совершенно разные персонажи. Метафизическая антропология, которую христианство заимствует из платонизма, гораздо важнее для будущего веры Христовой и для религиозности в целом.
Уже в эпоху Возрождения, когда ослабевают узы христианства, платонизм дает начало гуманизму в творчестве таких авторов, как итальянский философ-гуманист и неоплатоник второй половины XV века Джованни Пико из рода герцогов Мирандола, с его знаменитой «Речью о достоинстве человека»[27], которая должна была стать вступлением к философско-теологическому диспуту в Риме. Пико делла Мирандола от лица персонажа-Творца обращается к Адаму как символу человеческого рода:
«Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю…. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь»[28].
Речь Пико объединяет иудейские, христианские и пифагорейские мифологические сюжеты о человеческой природе и платонизм. Как и у Платона в диалоге «Федон», у Пико способ достижения особого метафизического состояния, близкого к божественному, заключается в преодолении низменной страсти и стремлении к рациональному познанию сферы идеального. Однако для Пико как для гуманиста особенную ценность представляет не умопостигаемый мир эйдосов, а особенность человеческой природы, заключающаяся в ее подвижности относительно элементарного, небесного и ангельского планов.
Когда я перечитываю эти строки, мне начинает казаться, что Платон создал наиболее совершенный, безупречный и простой религиозный миф в истории человеческой цивилизации. Миф Платона не связан с архаичными мифами отдельно взятых народов, будь то поклоняющихся Дану кельтов или заключивших договор с Яхве иудеев. В нем нет подтверждений в форме вульгарных чудес вроде превращения воды в вино в христианском мифе. Обещания восхождения у Платона остроумнее и интереснее, чем мировое господство для иудеев, коммунизм для марксиста или покорные девственницы для правоверного мусульманина. Аудитории платоновского мифа, к которой может относиться и эллин, и иудей, и индус, достаточно просто самостоятельно совершить интеллектуальное усилие. Вегетарианство, обрезание или намаз не нужны. Платонизм легко и свободно существует безо всякого гуру или мессии. Платон внеисторичен и универсален. Платонический миф невозможно дискредитировать экклесиологией (философии не нужны механизмы насилия и бюрократия церкви). Подобно буддизму, в платоническом мифе нет проблемы вечных адских мук или апокатастасиса: душа претерпевает череду перерождений, пока не достигнет восхождения, ей незачем навсегда оставаться в бессмысленном состоянии «депривации блага», которым ей угрожают ислам и христианство. Благо как таковое как раз и должно подразумевать полное и тотальное усовершенствование «несовершенного» или восполнение «падшего», иначе чего в нем такого благого? Но в отличие от буддийских мыслителей Платон называет целью человеческого существования не просто бегство от страдания, а интеллектуальную деятельность ума, и это совершенно логично следует из его эпистемологии. Я не могу сказать, что платонические диалоги «держат воду» по гамбургскому счету, то есть что он свободен от полемических уловок, но они все же рассматривают собственные предпосылки как требующие рационального доказательства, а не как нечто священное и самоочевидное.
К мифу Платона просто нечего добавить! Его логика пронизывает не только самые великие религиозные мифы или самые выдающиеся метафизические системы рассуждений, но даже всю современную массовую культуру, включая сочинения Толкиена, в которых злой дух Моргот искажает тварный мир, сайентологию Хаббарда с припоминанием подлинного бытия при помощи аналога психоанализа, учение рыцарей-джедаев из фильмов Джорджа Лукаса, которые «объединяются с Силой», или наркотические «путешествия» Карлоса Кастанеды. В современной массовой культуре Платон неявным образом не менее вездесущ, чем второй столь же одиозный исторический персонаж — австрийский художник-пейзажист Адольф Гитлер, определивший вместе с модельером Хьюго Боссом и архитектором Альфредом Шпеером в воображении европейцев эстетику абсолютного зла. Однако немногие полностью отдают себе отчет в том, что преступные диктаторы Гитлер и Сталин — наиболее последовательные в своем методе платоники. Приведу цитату в доказательство. В своем сочинении «Законы» Платон конструировал переходное на пути к идеалу общество. В этом сочинении Платон говорит о трех типах людей: которые отрицают существование богов, которые считают богов безразличными по отношению к людям и которые, наконец, считают богов расположенными к влиянию при помощи жертвоприношений. Все эти взгляды для Платона недопустимы, потому что он видит в богах высшее благо, а в вере в богов инструмент законодателя (поэтому даже предлагает запретить частные алтари, а разрешить только общественные). Поэтому он призывает жестоко наказывать за неверие в богов. Вот что Платон устами своего персонажа говорит о безбожниках: «…те, кто совершенно отрицает бытие богов, но от природы обладает справедливым характером, ненавидят дурных людей и, из-за глубокого отвращения к несправедливости, не склонны к совершению подобных проступков, избегают людей несправедливых, а справедливых любят. Другой же род — это те, у кого к мнению, будто Вселенная лишена богов, добавляется невоздержанность в удовольствиях и страданиях, хотя они и обладают сильной памятью и прекрасной восприимчивостью к наукам. Общая болезнь тех и других та, что они не признают богов; но первые творят меньше зла на пагубу остальных людей, чем вторые. Они в своих речах преисполнены дерзости в отношении богов, жертвоприношений, клятв и смеются также надо всем остальным; быть может, они и других людей сделали бы такими же, если бы их не настигало вовремя правосудие. Вторые держатся того же мнения, что и первые, слывут за людей одаренных, но исполненных коварства и злокозненных. Из этого рода людей выходят многие прорицатели, люди, занимающиеся всевозможной ворожбой, а иногда и тираны, демагоги, военачальники, основатели частных таинств, а также и изощренные так называемые софисты. Разновидностей подобного рода людей много; но особого законоположения достойны две из них: те, кто принадлежит к одной из них, а именно лицемеры, заслуживают более чем смертной казни; люди же второй разновидности нуждаются в увещании и тюремном заключении»[29].
Как видите, критерием для Платона является даже не поведение и его реальная польза или вред (это принципы привычного нам законодательства, по крайней мере в теории), а мысли и убеждения по самым отвлеченным поводам. В буквальном смысле Платон говорит о мыслепреступлениях, в этом — узнаваемая черта не просто тирании, но тоталитаризма или теократии. Вот как Платон предлагает решать проблему мыслепреступлений, убеждать людей (тех, кого не следует убивать сразу) в мифах, которые кажутся ему сообразными его философствованию или инструментальными: «Ввиду существующей между ними разницы судья, опираясь на закон, должен присудить тех, кто впал в нечестие по неразумию, а не по злому побуждению и нраву, к заключению в софронистерий не меньше чем на пять лет. В течение этого времени никто из граждан не должен иметь к ним доступа, кроме участников Ночного собрания, которые будут его увещевать и беседовать с ним ради спасения его души. Когда же истечет срок заключения, тот из них, кто покажет себя рассудительным, пусть получит свободу и живет вместе с другими рассудительными людьми. В противном же случае, то есть если он снова заслужит подобное наказание, его следует покарать смертью»[30].
Как видите, мысль о том, что следует наказывать тех, кто не разделяет убеждения, тоже платоническая. Когда девушек из группы «Pussy Riot» в нарушение всех принципов законодательства и здравого смысла бросают в тюрьму только из-за профанации религиозных идей православия, Владимир Путин поступает как последователь Платона (они оба, похоже, воспринимают религиозную веру как политический инструмент, а покушение на верования — как покушение на власть). Заметьте: у тоталитаризма и утопии единые корни.
Пожалуй, единственная проблема самого платонизма заключается в том, что он является слишком отвлеченным, он способен заинтересовать только тех, кто внимателен к его содержанию. Если рассуждения Платона сравнить с талантливой литературой, то другие религиозные мифы напоминают экранизации этой литературы, — доступные самой широкой аудитории, со специальными эффектами и обилием пиротехники, но не всегда полные или последовательные. Христианство — платонизм для народа, как говорил Ницше. Я сказал, что внеисторический универсальный характер платоновского мифа есть его преимущество, но именно по этой причине Платону не хватает мелодраматизма: кроме до смешного невозмутимой фигуры Сократа и его неумолимой участи (сократовский стоицизм не помешал бы другому мученику за истину в Гефсиманском саду) в мифе об эйдосах нет других героев. Тут нет конфликта, подобного конфликту Иисуса и Иуды, нет и категоричного манихейства, пятиминуток ненависти к неверным или доктрины «честной игры». Нет тут ни чудес, ни удивительно точных предсказаний, ни внутреннего круга посвященных и торжественной инициации, ни злодеев и хтонических чудовищ, ни артефактов, ни загадок! Разве только сюжет о самом знаменитом мифологическом городе-государстве Атлантиде, но и тот уже давно мыслится отдельно от своего автора, как предмет теорий заговора и приключенческого вымысла.
Должны ли мы заключить, что Платон слишком скучен для неискушенной публики? То есть является ли залогом успеха мифа эмоциональная «нагруженность», обращение к наиболее широкой целевой аудитории, даже если логическая сторона мифа заставляет желать лучшего? Полагаю, да. Хорошая религия прежде всего построена на убеждении и внушении, даже если ее метафизические основания запутаны и противоречивы. Человеческие слабости лидеров культов могут быть компенсированы упрямой демагогией об их величии и выдающихся качествах. Верховные клерикалы не будут спорить с оппонентами, проще расправиться с ними. Религия подобно сетевому маркетингу или политической пропаганде должна настойчиво и бескомпромиссно вмешиваться в жизнь каждого из прихожан. Поверить во вторичные метафизические домыслы — все равно что «купить слона». Религия должна быть убедительной и категоричной. Она должна эксплуатировать чувство вины так же, как политическая демагогия эксплуатирует образ врага и гомеровской «Осажденной крепости». Религии нужны гуру и мессии. Без конфликтной фигуры, обладающей истерическим характером, харизмой и талантом публичных выступлений, религия напоминает частный клуб по интересам. Неспешные беседы завсегдатаев частного клуба не доведут толпу до исступления, как это делали христианские проповедники или нацистские ораторы.
Однако для проницательного читателя все вышеперечисленное представляет собой избыточность по отношению к определяющей логической структуре. Пусть философия в чистом виде не так интересна широкой публике, как чудеса и пророчества, но именно ее логика связывает религиозные сюжеты воедино. Платонизм — это структура и логика христианства и ислама, а в более широком смысле — любой современной религии, а истории о жизни Иисуса или Мухаммеда — это избыточный уровень религиозных традиций. Аналогичным образом можно анализировать литературные сюжеты, как это делал Владимир Пропп с волшебной сказкой, в которой он выделял повторяющиеся темы, функции персонажей и структуры, или основоположник структурной антропологии Клод Леви-Стросс — с мифом.
Любой разговор о религии сегодня — это разговор в терминах Платона. Без платоновского понятийного аппарата и логики от централизованной и действующей современной религии останется лишь мифология. С подобных позиций иудаизм воспринимается больше как народное верование, но и иудаизм воспринял античное эллинское влияние (Талмуд и каббала), а современная дискуссия об иудаизме также будет возможна лишь в платоновских терминах. Буддизму и другим ориентальным традициям могут быть свойственны собственные метафизические установки, но чтобы оценить и проанализировать их, мы сравниваем их с греческой философией. Все вышесказанное не означает сверхъестественного характера платонизма. Просто платонизм — это выдающийся случай развернутого религиозно-философского мифа, который сыграл большую историческую роль. Если дискуссия об отдельной религии, например о генезисе послепасхальной веры в воскресение Иисуса, будет частной, дискуссия об античной философии позволяет, как мы видим, выявлять наиболее общее из того, что присуще религии в широком смысле.
2. В поисках Первопричины. Великое заблуждение Аристотеля
Платон подарил миру категоричный идеализм и онтологию идеализм и онтологию души и тела. Ученик Платона Аристотель, интересный своей «Логикой» и замечательными рассуждениями о политике, определил философскую мысль о целях и причине. Аристотель употреблял эти слова вовсе не так, как этого требует эмпирический здравый смысл или как это принято в науке. И это метафизическое словоупотребление неявным образом присуще любой современной религии.
Любая апологетика представляет религиозную традицию как набор ответов на вечные вопросы. Однако природа таких вопросов сама по себе никогда не становится предметом апологии. Религиозная вера опирается на неявное утверждение о том, что у всего должна быть своя причина и своя цель. Все остальные вопросы катехизиса вторичны этому базису. Пытаться дать ответы на вопросы веры, даже отрицательные — значит непроизвольно признать подобные утверждения за истину. Оппонент религиозного полемиста, соглашающийся, что без веры в жизни человека нет цели, а у происходящего с человеком нет причины, совершает полемическую и философскую ошибку.
На деле подобные утверждения не являются ни ложью, ни правдой. Этим утверждениям трудно или невозможно подобрать эквивалент: совершенно не ясно, что же они на самом деле означают, по каким правилам верующие люди употребляют такие слова, как «причина» или «смысл». То есть для большинства верующих это такая же «покрытая мраком веков» тайна.
«Метафизика» — вот сочинение, в котором учитель Александра Македонского изложил свои представления о причинности. Рассуждения Аристотеля о единичном и общем в этом его сочинении напоминают рассуждения Платона. Аристотель начинает свое рассуждение о причинности с проблемы соотношения опыта и знания:
«В отношении деятельности опыт, по-видимому, ничем не отличается от искусства; мало того, мы видим, что имеющие опыт преуспевают больше, нежели те, кто обладает отвлеченным знанием, но не имеет опыта. Причина этого в том, что опыт есть знание единичного, а искусство — знание общего, всякое же действие и всякое изготовление относится к единичному: ведь врачующий лечит не человека [вообще], разве лишь привходящим образом, а Каллия, или Сократа, или кого-то другого из тех, кто носит какое-то имя, — для кого быть человеком есть нечто привходящее. Поэтому если кто обладает отвлеченным знанием, а опыта не имеет и познает общее, но содержащегося в нем единичного не знает, то он часто ошибается в лечении, ибо лечить приходится единичное. Но все же мы полагаем, что знание и понимание относятся больше к искусству, чем к опыту, и считаем владеющих каким-то искусством более мудрыми, чем имеющих опыт, ибо мудрость у каждого больше зависит от знания, и это потому, что первые знают причину, а вторые нет. В самом деле, имеющие опыт знают „что“, но не знают „почему“; владеющие же искусством знают „почему“, т. е. знают причину. Поэтому мы и наставников в каждом деле почитаем больше, полагая, что они больше знают, чем ремесленники, и мудрее их, так как они знают причины того, что создается. <А ремесленники подобны некоторым неодушевленным предметам: хотя они и делают то или другое, но делают это, сами того не зная (как, например, огонь, который жжет); неодушевленные предметы в каждом таком случае действуют в силу своей природы, а ремесленники — по привычке.> Таким образом, наставники более мудры не благодаря умению действовать, а потому, что они обладают отвлеченным знанием и знают причины. (Курсив мой. — Д.К.). Вообще признак знатока — способность научить, а потому мы считаем, что искусство в большей мере знание, нежели опыт, ибо владеющие искусством способны научить, а имеющие опыт не способны»[31].
«Таким образом, ясно, что мудрость есть наука об определенных причинах и началах»[32], — заключает Аристотель.
То есть опытные данные, обобщение опыта и ремесло для автора «Метафизики» вторичны умозрению потому, что первые направлены на решение прагматических задач и имеют дело с единичными случаями, а умозрение направлено на отвлеченный поиск общих причин. Важно, что аристотелевское представление о причинности не может быть получено из опыта. Аристотель видит в умозрительных рассуждениях знание ради знания:
«Вот каковы мнения и вот сколько мы их имеем о мудрости и мудрых. Из указанного здесь знание обо всем необходимо имеет тот, кто в наибольшей мере обладает знанием общего, ибо в некотором смысле он знает все подпадающее под общее. Но, пожалуй, труднее всего для человека познать именно это, наиболее общее, ибо оно дальше всего от чувственных восприятий. А наиболее строги те науки, которые больше всего занимаются первыми началами: ведь те, которые исходят из меньшего числа [предпосылок], более строги, нежели те, которые приобретаются на основе прибавления [например, арифметика более строга, чем геометрия). Но и научить более способна та наука, которая исследует причины, ибо научают те, кто указывает причины для каждой вещи. А знание и понимание ради самого знания и понимания более всего присущи науке о том, что наиболее достойно познания, ибо тот, кто предпочитает знание ради знания, больше всего предпочтет науку наиболее совершенную, а такова наука о наиболее достойном познания. А наиболее достойны познания первоначала и причины, ибо через них и на их основе познается все остальное, а не они через то, что им подчинено. И наука, в наибольшей мере главенствующая и главнее вспомогательной, — та, которая познает цель, ради которой надлежит действовать в каждом отдельном случае; эта цель есть в каждом отдельном случае то или иное благо, а во всей природе вообще — наилучшее.
Итак, из всего сказанного следует, что имя [мудрости] необходимо отнести к одной и той же науке: это должна быть наука, исследующая первые начала и причины: ведь и благо, и „то, ради чего“ есть один из видов причин»[33].
Аристотель утверждает, что у каждого предмета есть четыре причины:
• форма или сущность предмета;
• материя, из которой состоит предмет;
• источник изменения (движения) предмета;
• цель предмета.
«Совершенно очевидно, что необходимо приобрести знание о первых причинах: ведь мы говорим, что тогда знаем в каждом отдельном случае, когда полагаем, что нам известна первая причина. А о причинах говорится в четырех значениях: одной такой причиной мы считаем сущность, или суть бытия вещи (ведь каждое „почему“ сводится в конечном счете к определению вещи, а первое „почему“ и есть причина и начало); другой причиной мы считаем материю, или субстрат; третьей — то, откуда начало движения; четвертой — причину, противолежащую последней, а именно „то, ради чего“, или благо (ибо благо есть цель всякого возникновения и движения). Итак, хотя эти причины в достаточной мере рассмотрены у нас в сочинении о природе, все же привлечем также и тех, кто раньше нас обратился к исследованию существующего и размышлял об истине. Ведь ясно, что и они говорят о некоторых началах и причинах. Поэтому, если мы разберем эти начала и причины, то это будет иметь некоторую пользу для настоящего исследования; в самом деле, или мы найдем какой-нибудь другой род причин, или еще больше будем убеждены в истинности тех, о которых говорим теперь»[34].
Мы не знаем истины, не зная причины, — говорит Аристотель.
Только благодаря Аристотелю могут быть понятны корни религиозного представления о боге как первопричине существования «тварного» мира. Из рассуждений о «причинах сущего» Аристотель пришел к мысли о первопричине как том, «что движет, не будучи приведено в движение». Мысль о первоначале была свойственна авторам до Аристотеля, поэтому он последовательно перечисляет и комментирует воззрения своих предшественников, включая Платона. Разногласие Платона и Аристотеля касается представления об идеях и о началах вещей соответственно. Аристотелю не по душе была мысль об эйдосах, существующих помимо вещей. В его представлении идеи представляют собой лишь одно из начал вещей (то есть сущность), наряду с материей, а также целью и, что особенно важно, источником движения. А мысль о том, что сущность вещи существует отдельно от самой вещи, Аристотель находил странной и ошибочной. Кроме того, эйдосы лишены всякого движения.
Для нашего разговора важно то, что рассуждение о причинах вещей непроизвольно приводит к поиску первопричины, которая «есть вечная, неподвижная и обособленная от чувственно воспринимаемых вещей сущность». Аристотель отвергает бесконечную цепочку причин. У всего движения мира должен быть свой источник. Именно по этой простой причине в творчестве Аристотеля и появился бог.
«Далее, „то, ради чего“, — это конечная цель, а конечная цель — это не то, что существует ради другого, а то, ради чего существует другое; так что если будет такого рода последнее, то не будет беспредельного движения; если же нет такого последнего, то не будет конечной цели. А те, кто признает беспредельное [движение], невольно отвергают благо как таковое; между тем никто не принимался бы за какое-нибудь дело, если бы не намеревался прийти к какому-нибудь пределу. И не было бы ума у поступающих так, ибо тот, кто наделен умом, всегда действует ради чего-то, а это нечто — предел, ибо конечная цель есть предел»[35].
Итак, отыскать начало причин и цель целей — значит отыскать бога. Вот что Аристотель говорит о поиске начал:
«Началом называется то в вещи, откуда начинается движение, например у линии и у пути отсюда одно начало, а с противоположной стороны — другое; то, откуда всякое дело лучше всего может удасться, например обучение, надо иногда начинать не с первого и не с того, что есть начало в предмете, а оттуда, откуда легче всего научиться; та составная часть вещи, откуда как от первого она возникает, например: у судна — основной брус и у дома — основание, а у живых существ одни полагают, что это сердце, другие — мозг, третьи — какая-то другая такого рода часть тела, то, что, не будучи основной частью вещи, есть первое, откуда она возникает, или то, откуда как от первого естественным образом начинается движение и изменение, например: ребенок — от отца и матери, ссора из-за поношения; то, по чьему решению двигается движущееся и изменяется изменяющееся, как, например, начальствующие лица в полисах и власть правителей, царей и тиранов; началами называются и искусства, причем из них прежде всего искусства руководить; то, откуда как от первого познается предмет, также называется его началом, например основания доказательств. И о причинах говорится в стольких же смыслах, что и о началах, ибо все причины суть начала. Итак, для всех начал общее то, что они суть первое, откуда то или иное есть, или возникает, или познается; при этом одни начала содержатся в вещи, другие находятся вне ее. Поэтому и природа, и элемент, и замысел (dianoia), и решение, и сущности, и цель суть начала: у многого благое и прекрасное суть начало познания и движения»[36].
Тут же Аристотель более подробно рассуждает о том, как он пришел к понятию причины:
«Причиной называется то содержимое вещи, из чего она возникает; например, медь — причина изваяния и серебро — причина чаши, а также их роды суть причины; форма, или первообраз, а это есть определение сути бытия вещи, а также роды формы, или первообраза (например, для октавы — отношение двух к одному и число вообще), и составные части определения; то, откуда берет первое свое начало изменение или переход в состояние покоя; например, советчик есть причина, и отец — причина ребенка, и вообще производящее есть причина производимого, и изменяющее — причина изменяющегося; цель, т. е. то, ради чего, например, цель гулянья — здоровье. В самом деле, почему человек гуляет? Чтобы быть здоровым, говорим мы. И, сказав так, мы считаем, что указали причину. Причина — это также то, что находится между толчком к движению и целью, например: причина выздоровления — исхудание, или очищение, или лекарства, или врачебные орудия; все это служит цели, а отличается одно от другого тем, что в одном случае это орудие, в другом — действие»[37].
Особое место у Аристотеля занимает движение, которое является общей космической силой изменений, без которой бы предметы не могли бы изменяться, а состояния не могли бы становиться действительными из потенциальных: «…действие (energeia) того, что приводит в движение, не другое [нежели у движущегося], ибо оно должно быть осуществлением того и другого; в самом деле, нечто может приводить в движение благодаря тому, что способно к этому, а приводит в движение благодаря тому, что действует, но деятельно оно по отношению к тому, что может быть приведено в движение, так что действие у обоих в равной мере одно точно так же, как одним и тем же бывает расстояние от одного к двум и от двух к одному, равно как и подъем и спуск, хотя бытие у них не одно; и подобным же образом обстоит дело с движущим и движущимся»[38].
Между прочим, вспомните понятие «силы» у Ньютона! Изменение как переход из потенциального состояния в актуальное легко напомнит любому, кто знаком со школьной программой по физике, о потенциальной и кинетической энергиях. Между абстракциями, которые использовали ранние ученые, и терминами классической философии есть очевидная преемственность! Это, разумеется, не говорит ничего о физических фактах, а лишь о наших способах описания фактов и моделирования ситуаций. Должны были пройти века, а представление о «законах природы» Ньютона смениться современными представлениями о теориях и их объяснительной силе, которыми мы обязаны Попперу. Возможно, мы слишком жестоки к классическому философствованию, когда видим в нем лишь мифотворчество и религиозные фикции. Возможно, человеческий вид должен был пройти длительный путь использования языка и способов коллективного запоминания, от рисунков в пещере Ласко и поэзии Гесиода до эпохи становления научного метода, и политические идеологемы и культы на этом пути были неизбежными издержками.
Первопричина Аристотеля является источником всего движения в мире. Аристотель утверждает, что движение как причина отличается от сущности или цели. В итоге бог у Аристотеля (по сути своей совершенно непохожий на имеющего волевые и личностные качества христианского бога) представляет собой источник всего движения, форму всех форм и конечную цель бытия — благо. О первоначале Аристотель рассуждает в XII книге «Метафизики»:
«…существует нечто вечно движущееся беспрестанным движением, а таково движение круговое; и это ясно не только на основе рассуждений, но и из самого дела, так что первое небо, можно считать, вечно. Следовательно, существует и нечто, что его движет. А так как то, что и движется и движет, занимает промежуточное положение, то имеется нечто, что движет, не будучи приведено в движение; оно вечно и есть сущность и деятельность и движет так предмет желания и предмет мысли; они движут, не будучи приведены в движение»[39].
«И жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума — это жизнь, а бог есть деятельность; и деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что бог есть вечное, наилучшее живое существо, так что ему присущи жизнь и непрерывное и вечное существование, и именно это есть бог»[40].
«…есть вечная, неподвижная и обособленная от чувственно воспринимаемых вещей сущность; показано также, что эта сущность не может иметь какую-либо величину, она лишена частей и неделима (ибо она движет неограниченное время, между тем ничто ограниченное не обладает безграничной способностью; а так как всякая величина либо безгранична, либо ограниченна, то ограниченной величины эта сущность не может иметь по указанной причине, а неограниченной — потому, что вообще никакой неограниченной величины нет); с другой стороны, показано также, что эта сущность не подвержена ничему и неизменна, ибо все другие движения — нечто последующее по отношению к пространственному движению. Относительно всего этого ясно, почему дело обстоит именно таким образом»[41].
Таким образом, божественная сущность, которую описывает в XII книге «Метафизики» Аристотель, представляет собой неподвижный и неизменный источник всякого движения, форму и цель всего, что существует. Это живое существо, обладающее умом, который мыслит сам себя, но при этом совершенно абстрактное и лишенное персональных качеств. Оно отличается от Демиурга Платона, поскольку тот не является первоначалом космоса, а лишь исполнителем, «ремесленником».
Метафизическая логика Аристотеля, в свою очередь, лежит в основании доказательств бытия бога, которые Фома Аквинский перечисляет в сочинениях «Сумма теологии» и «Сумма против язычников». Если мы не пренебрегаем аристотелевской онтологией, то значительно лучше понимаем мысль средневековых богословов, но именно поэтому же нам становится гораздо проще критиковать античные корни теологии. Итак, Фома Аквинский в «Сумме теологии» говорит, что «бытие Божие может быть доказано пятью путями» (пять доказательств бытия бога):
«Первый и наиболее очевидный путь исходит из движения. В самом деле, несомненно и подтверждается чувствами, что в мире имеется нечто движимое. Но все, что движимо, движимо чем-то иным. Ибо все, что движется, движется только потому, что находится в потенции к тому, к чему оно движется, а движет нечто постольку, поскольку оно актуально. Ведь движение есть не что иное, кроме как перевод чего-либо из потенции в акт. Но нечто может быть переведено из потенции в акт только неким актуальным сущим. Так, актуально горячее, например огонь, делает дерево, которое есть горячее в потенции, горячим актуально, а потому движет и изменяет его. Но невозможно, чтобы одно и то же в отношении одного и того же было одновременно и потенциально, и актуально; оно может быть таковым только в отношении различного. В самом деле, то, что является актуально горячим, не может быть одновременно потенциально горячим, но есть одновременно потенциально холодное. Следовательно, невозможно, чтобы нечто в одном отношении и одним и тем же образом было движущим и движимым, т. е. чтобы оно двигало само себя. Следовательно, все, что движется, должно быть движимо чем-то иным. А если то, благодаря чему нечто движется, [также] движимо, то и оно должно быть движимо чем-то иным, и то иное, [в свою очередь, тоже]. Но так не может продолжаться до бесконечности, поскольку тогда не было бы первого движущего, а следовательно, и какого-либо иного движущего, поскольку вторичные движущие движут лишь постольку, поскольку движимы первым движущим. Так посох движет [что-либо] лишь потому, что движим рукой. Следовательно, мы должны необходимо прийти к некоему первому движущему, которое не движимо ничем, а под ним все разумеют бога».
Знакомые аргументы? Фома Аквинский вслед за Аристотелем понимает движение как особую метафизическую силу физических изменений, у которой должен быть таинственный и важный источник. О доказательствах бытия бога у Фомы Аквинского говорится достаточно часто, но гораздо реже отмечается, что эти доказательства прямо заимствованы из Античности и целиком опираются на античную онтологию.
«Второй путь исходит из смыслового содержания действующей причины. В самом деле, в чувственно воспринимаемых вещах мы обнаруживаем порядок действующих причин, но мы не находим того (да это и невозможно), чтобы нечто было действующей причиной в отношении самого себя, поскольку в этом случае оно предшествовало бы себе, что невозможно. Но невозможно и то, чтобы [порядок] действующих причин уходил в бесконечность. Поскольку во всех упорядоченных [друг относительно друга] действующих причинах первое есть причина среднего, а среднее — причина последнего (неважно, одно это среднее или их много). Но при устранении причины, устраняется и ее следствие. Следовательно, если в [порядке] действующих причин не будет первого, не будет последнего и среднего. Но если [порядок] действующих причин уходит в бесконечность, то не будет первой действующей причины, а потому не будет и последнего следствия и средней действующей причины, что очевидным образом ложно. Следовательно, необходимо допускать некую первую действующую причину, которую все называют богом».
Перед нами аристотелевская метафизическая цепочка причин, которая не имеет никакого отношения к причинности, как мы понимаем ее сегодня. Нет никакой логической причины, по которой должна существовать подобная последовательность причин (прошу прощения за каламбур). Для современного эмпирического рассудка понятие «причина» — это только слово, при помощи которого мы упорядочиваем свой опыт. Метафизическая аристотелевская причинность и экспериментальная естественнонаучная причинность — совершенно разные предметы рассуждений, но полемисты в дискуссиях часто подменяют одно другим, когда заводят речи о том, в чем причина существования мира или человеческой жизни. Нельзя осмысленно сказать, что у существования мира или у человеческой жизни есть причина или нет причины.
«Третий путь исходит из [смыслового содержания] возможного и необходимого, и он таков. В самом деле, мы обнаруживаем среди вещей некие такие, которые могут как быть, так и не быть, поскольку мы обнаруживаем, что нечто возникает и разрушается и, соответственно, может как быть, так и не быть. Но невозможно, чтобы все, что является таковым, было всегда, поскольку то, что может не быть, иногда не есть. Если, следовательно, все может не быть, то когда-то в реальности не было ничего. Но если это истинно, то и сейчас не было бы ничего, поскольку то, чего нет, начинает быть только благодаря тому, что есть; если, следовательно, ничего сущего не было, то невозможно, чтобы нечто начало быть, а потому и сейчас не было бы ничего, что очевидным образом ложно. Следовательно, не все сущие являются возможными, но в реальности должно существовать нечто необходимое. Но все необходимое либо имеет причину своей необходимости в чем-то еще, либо нет. Но невозможно, чтобы [ряд] необходимых [сущих], имеющих причину своей необходимости [в чем-то еще], уходил в бесконечность, как это невозможно в случае действующих причин, что уже доказано. Следовательно, необходимо полагать нечто само-по-себе-необходимое, не имеющее причины необходимости в чем-то еще, но являющееся причиной необходимости прочего. И таковое все называют Богом».
Согласно этому доводу Фомы Аквинского бог необходим, чтобы существовало все то, что может либо существовать, либо не существовать. Как и причинность, такие понятия, как необходимость и существование, можно понимать в аристотелевском или платоновском смысле. Но Кант, например, указывал, что бытие не есть реальный предикат, и оно не сообщает ничего нового о вещи. Нельзя не заметить, что подобные проблемы порождаются только словоупотреблением и правилами языка: понимание того, что правила способов описания действительности, таких как язык или математика, не отражают что-то в самой действительности, сложилось в истории человеческой мысли далеко не сразу.
«Четвертый путь исходит из степеней [совершенств], обнаруживаемых в вещах. В самом деле, среди вещей обнаруживаются более и менее благие, истинные, благородные и т. д. Но „более“ и „менее“ сказывается о различных [вещах] в соответствии с их различной степенью приближения к тому, что является наибольшим. Так, „более горячим“ называется то, что более близко к наиболее горячему. Следовательно, существует нечто наиболее истинное, наилучшее и благороднейшее и, соответственно, в высшей степени сущее, ибо, как сказано во II книге „Метафизики“, то, что в высшей степени истинно, является в высшей степени сущим. Но то, что называется наибольшим в определенном роде, есть причина всего того, что относится к этому роду. Например, огонь, который есть наиболее горячее, есть причина всего горячего, как говорится в той же книге. Следовательно, существует нечто, являющееся причиной бытия всех сущих, а также их благости и всяческого совершенства. И таковое мы называем Богом».
Перед нами развитие платоновской и аристотелевской логики блага и истины, и вне правил употребления понятий, присущих античной метафизике, данное утверждение не имеет смысла. Как и в случае причины, существования и необходимости, понятия истины и совершенства здесь употребляются в данном случае своеобразно. Когда наука и аналитическая философия говорят об истине сегодня, они имеют в виду лишь истинность или ложность конкретных утверждений, но не «истину саму по себе». Утверждение о факте мы называем либо истинным, либо ложным. Рассуждение об истине самой по себе не имеет смысла (я употребляю слово «истина» только в риторических целях, анализ каждого высказывания быстро бы сделал публицистику невозможной).
Что же касается совершенства самого по себе, то аристотелевское употребление этого понятия аналогично платоновскому: совершенное или благое — это лишь оценочные термины. Говорить о совершенстве или несовершенстве самих по себе бессмысленно. Мы говорим, что предмет является «лучшим» или «худшим» — лишь для наших целей. Мы не можем сказать, например, что самолет Су-27 лучше самолета братьев Райт сам по себе: первый имеет параметры, которые позволяют нам быстрее или проще достигать какой-то определенной нами же цели. Но сами по себе перед нами только предметы, имеющие какие-то измеряемые параметры, и только. Оказывается, и платоновская идея совершенства, и идея прогресса у Кондорсе одинаково оценочно нагружены. Мысль о совершенстве скрывает простую человеческую заинтересованность в результате.
«Пятый путь исходит из управления вещами [универсума]. В самом деле, мы видим, что нечто, лишенное познавательной способности, а именно природные тела, действует ради цели, что очевидно из того, что они всегда или почти всегда действуют одним и тем же образом, так, что стремятся к тому, что является [для них] лучшим. Поэтому ясно, что они движутся к цели не случайно, но намеренно. Но то, что лишено познавательной способности, может стремиться к цели только в том случае, если оно направляемо кем-то познающим и мыслящим: так стрела [направляется в цель] лучником. Следовательно, существует нечто мыслящее, которым все природные вещи направляются к [своей] цели. И таковое мы называем Богом»[42].
Как уже было сказано, нет ничего самоочевидного в том, как употребляется слово «цель» у Аристотеля, а вслед за ним и у Фомы Аквинского. Цель сама по себе — это опять же бессмыслица. Можно осмысленно говорить лишь о цели поведения определенного человека, о чем я скажу чуть дальше.
Фома Аквинский не получает какое-либо новое знание вообще, а лишь использует рассуждения Аристотеля. Причем, заметьте, Аквинский не доказывает тождество аристотелевской первопричины и христианского бога (в предпосылках не идет речь о боге), а лишь прибавляет это приравнивание к полученным на основании аристотелевских предпосылок выводам. В сущности, данные доказательства ни слова не говорят об Иисусе из Назарета или об иудейском Яхве, к примеру.
Первое и самое очевидное возражение против логики Аристотеля (и вслед за ним Фомы Аквинского), которое рождается у современного читателя, заключается в том, что подобное рассуждение «о причинах вещей» не имеет никакого отношения к причинности в привычном нам смысле. Мы привыкли говорить о причинности в естественно-научном смысле, как о ней говорил Дэвид Юм в «Трактате о человеческой природе». Причина некоторого события — это не таинственная сущность подобного события, а лишь другое событие, предшествовавшее первому событию во времени. Мы говорим о событиях как о причине и следствии, когда одно событие во всех наблюдаемых случаях происходит после другого. Сама «причинность как таковая» не дана нам эмпирически так, как даны конкретные предметы. Даже если мы наблюдаем связь между событиями, мы можем упускать из виду неизвестные нам факторы, вроде присутствия неизвестного нам катализатора или действия неизвестной силы. Позже Эрнст Мах в сочинении «Познание и заблуждение», рассматривая логику постановки обычных и мысленных экспериментов, развил мысль о биологическом значении способности человеческого мозга к нахождению постоянных связей между событиями. Это особенно важно для понимания разницы между научным экспериментом и суеверием: в случае суеверия люди (и животные!) связывают произвольно совпавшие во времени события (в науке о поведении это называется «голубиным суеверием»), а задачей хорошо поставленного эксперимента является исключение всех лишних факторов и повторяемость результатов.
Мы говорим, что эксперимент хорошо организован и продуман, если нам удается определить такой фактор, который во всех наших экспериментальных наблюдениях вызывает наступление определенных последствий, причем независимо от всех других факторов. Только тогда мы начинаем говорить о каузальности, или причинно-следственной связи (конечно, утверждение о причинно-следственной связи не может быть окончательно обосновано обобщением экспериментальных наблюдений, но об этом следует сказать отдельно). То же самое касается и здравого смысла обыденной жизни: причиной отравления является использование испорченной пищи, а причиной опьянения является употребление алкоголя.
Точно так же не соответствует нашему пониманию понятия «цель» и цель у Аристотеля, его телеология, убеждение в существовании цели всего сущего или каких-то происходящих в мире событий. Можно осмысленно говорить лишь о цели человеческого поведения, поскольку под целью мы понимаем желаемое и сформированное нашим мозгом представление о возможном будущем, построенное из элементов памяти о прошлом, а также интенции нашего мозга. Речь идет о воображении и о способностях мозга к постановке задач и планированию (способности, машинная реализация которых означала бы, по мысли Марвина Мински, создание искусственного интеллекта). Можно представить себе способ проверить в порядке бихевиористического эксперимента, может ли человек (человеческий мозг) решать те или иные поведенческие задачи. Утверждение же о том, что множество исторических событий, биологическая эволюция или астрофизические процессы имеют какую-то общую цель (в духе Гегеля или Маркса), является совершенно непроверяемым, лежащим за рамками любого мыслимого опыта. Скорее следовало бы признать, что это — художественный вымысел[43], основанный на атрибуции человеческой способности к целеполаганию окружающей действительности. Обладает ли мяч целью самой по себе? Заключается ли цель мяча в том, чтобы быть круглым или в том, чтобы им играли в футбол? Сама подобная постановка вопроса — бессмыслица. По этой же причине глубоко бессмысленно говорить о целесообразности устройства животных, как иногда поступают христиане-креационисты, или о цели истории, как это делают марксисты.
Что же касается миссионерской риторики современных религиозных полемистов, то когда верующий смеется над мыслью о возникновении Вселенной без какой-либо причины, его риторический прием на самом деле довольно глуп и неглубок. Апологет зачастую даже не понимает происхождения своей собственной стратегии убеждения! Утверждение о том, что человеческая жизнь без высшей цели лишена достоинства, имеет довольно ненадежные демагогические основания: достаточно лишь спросить, что есть цель, и почему такая цель необходимым образом должна быть присуща любому предмету или существу? Поэтому глупо говорить о бесцельности человеческого существования. Человеческое существование, строго говоря, за рамками цели и бесцельности.
Но верующие люди спрашивают о цели человеческой жизни не просто так. Сами-то они вполне определились с тем, что считать целью своей жизни. В их воображении существует и миф о каком-то результате их ритуалов, и эмоциональная потребность в стремлении к такому воображаемому результату. Полагаю, что верующие видят причину существования окружающей их действительности в замысле воображаемого ими существа или предназначении судьбы, а целью своей жизни они считают характерный для их религиозной традиции вариант «восхождения» (пожелай кто-либо блеснуть цинизмом, он мог бы предположить, что цель иных проповедников — остаться гнить у обочины паломнического тракта).
Но почему это должно быть важным для нас? Если мы не видим ни малейшего смысла в самом логическом фундаменте религиозных воззрений, следует ли нам считаться с тем, что верующие люди считают моральным или духовным? Если религиозные убеждения для нас — не истина и даже не ложь, то религиозные цели для нас — абсурд. Заметьте, высшая цель религии — вовсе не благополучие общества и не конкретный правопорядок. Христиане или мусульмане вовсе не собираются защищать абстрактную «нравственность» общества, хотя то, что религия является источником и основанием морали в обществе, — зачастую один из главных аргументов сторонников религий (об этом придется сказать отдельно).
Высшие цели религий не имеют ничего общего с чисто прагматическими целями современного общества. Эти цели являются буквально потусторонними. Я не возражаю, если кто-то видит целью своей жизни созерцание чистых форм, какое-то Спасение или объединение с божественным Единым (есть даже люди, которые посвящают свою жизнь собиранию марок!). Но почему эта эзотерическая цель должна быть навязана и тем, кому безразличны перипетии метафизики?
Говоря о благе самом по себе или о прекрасном самом по себе, Платон имел в виду свои потребности, интересы и эстетические привычки. Говоря о причинности, Аристотель имел в виду собственные цели и представления о космосе и природе (а также этике, эстетике и политике). Проблема метафизической философии в том, что она превращает нечто частное и случайное в будто бы общее и необходимое, индивидуальные оценочные и эстетические суждения в категорические требования этики и эстетики, персональные политические или жизненные цели авторов в нечто космического порядка.
Проблема заключается в том, что постулаты космических масштабов, в свою очередь, могут служить замечательным оправданием любых конкретных действий, будь то преследование инакомыслящих вплоть до их уничтожения или уголовное преследование двадцатилетних девушек за совершенно невинное с уголовной точки зрения деяние — танец. На основании совершенно произвольных, как мы видим на примере Платона и Аристотеля, но категоричных и будто бы универсальных постулатов можно довести страну до опустошительного и беспрецедентного голода, подобного голоду в СССР 1932–1933 годов. Каждому хорошо известно утверждение Макиавелли: «цель оправдывает средства». Чем больше и многозначительнее цель, чем ближе она к универсальному «порядку мироздания» или «законам истории», тем более серьезные средства можно применить и оправдать именем такой цели. За мегаломанией скрывается обыкновенный фашизм. Кроме того, люди сами охотно готовы принимать на себя бремя тягот, если им внушить, будто у лишений есть высшая цель. Не обязательно объяснять массам, какова конкретная причинно-следственная связь между тяготами и результатом, можно подменить сколько-нибудь рациональное обоснование категорическими лозунгами о потребностях отчизны, нового социального строя или традиционной морали, которая, как это часто водится, в опасности.
В мире подобных демагогических манипуляций религия находит свое подлинное применение в качестве политического орудия. В сравнении с философами богословам свойственно упрощать аргументы и принимать множество сомнительных допущений в качестве само собой разумеющейся догмы. В случае богословия доводом в пользу истинности каждого отдельного утверждения будет уже не подробная, хотя и не вполне честная местами аргументация Платона, а прямые угрозы и категорическое внушение. По этой самой причине мы редко доходим в дискуссии о религии до ее самых глубинных оснований.
И именно поэтому я так подробно цитирую здесь Платона и Аристотеля. Их рассуждения нецелесообразно пересказывать, поскольку при кажущейся последовательности аргументов античным авторам свойственно принимать произвольные предпосылки, и подобные уловки надежнее и проще продемонстрировать. Тот, кто понимает античную философию и присущие ей логические проблемы, понимает и религию. «Государство» и «Метафизика» содержат логику, которой религия пользуется, но о которой никогда не говорит. Аргументация самых просвещенных апологетов начинается с введения в разговор неявных предпосылок, с которыми оппоненты таких апологетов непроизвольным образом соглашаются, что дает последним риторическое преимущество. Перед тем, как согласиться, что из научных данных проистекает мировоззрение, лишающее жизнь человека цели и унижающее человеческую природу, следует жестко спросить о том, что есть «цель», что есть «возвышенное» и что есть «низменное», а апологет не вправе уйти от ответа на такие вопросы при помощи аргумента о самоочевидности. В конце концов, Сократ открыто высмеивал беспомощность своих оппонентов-софистов, когда те вели себя как христиане.
Я убежден, что в трудах Платона и Аристотеля сформировано логическое и понятийное основание, делающее возможным разговор о религиозности. Выявить это основание — означает обнаружить в религиях то, что сами верующие не вполне понимают или не хотят понимать: зависимость религиозности от философской системы, которая имеет собственные очевидные изъяны. Крах догматического идеализма Античности и Нового времени означает и крах религии. Я говорю о свершившемся факте. Философия Платона или Аристотеля сегодня — это лишь содержимое архива. В сочинениях этих авторов и их последователей, таких как Рене Декарт или Бенедикт Спиноза, нет ничего, что было бы актуальным для современной научной, математической или философской мысли. Античная философия, схоластика или рационализм Нового времени — предметы, достойные изучения и рассмотрения, поскольку их история многое говорит нам об устройстве человеческой речи, логики и интеллекта. Но содержание этих философских систем более не играет никакой роли в спектакле современной мысли. Поэтому религия, привязанная к классической философии, потерпела интеллектуальный крах: она логически несовместима с эмпиризмом и методологией науки. Подчеркиваю: вопрос вовсе не о набившем оскомину «соотношении веры и знания». Вера не бесформенна. У нее есть конкретная логическая структура. О логической структуре веры можно говорить вполне определенно и однозначно. О структуре веры можно знать.
Разговор о качествах бога мог быть понят в античном обществе, которому было свойственно отвлеченное рассуждение об идеях, но в эпоху проблем достоверности данных и экспериментальной проверки какие-либо богословские утверждения не играют никакой роли в дискуссиях ученых или современных логиков. Да, религия может быть инструментом политики (как это происходит в современной России вопреки всякому здравому смыслу), но она уже не будет предметом интереса ведущих исследователей, как это было во времена схоластики или даже во времена Ньютона. Подавляющее большинство современных ученых — неверующие, безрелигиозные люди, причем они даже не отрицают религиозные суждения. Отрицание, как я уже говорил, — слишком сильная реакция, она здесь ни при чем. Для современной науки или современной аналитической философии содержание религиозных сюжетов — ничто. С точки зрения философа, история религии прекратилась. Таких людей, как Аристотель, Дионисий Ареопагит, Августин или Фома Аквинский, насколько бы ни была очевидна нам нищета их мысли, больше никогда не будет. В современном мире от религии остались только многозначительная литература и нечистоплотная политика. Классическая философия, метафизика и вслед за ней богословие мертвы.
Чтобы понять, почему и как это произошло, достаточно просто изучить историю эмпиризма, позитивизма и аналитической философии вкупе со становлением экспериментального, доказательного метода в естествознании.
Подведем итог первой части: религиозные идеи мыслимы и обсуждаются в рамках одной-единственной философской традиции. Это традиция, сформированная трудами Платона и Аристотеля, а также их учеников и последователей. Христианское богословие прямо наследует античности, о чем пишут Августин, Ориген и Фома Аквинский. Но логика античного философствования лежит не только в основании христианской теологии. Ее предпосылки в неявной форме присущи любому современному рассуждению о религии. Это не означает, что античная философия имеет исключительный или сверхъестественный характер, просто она наиболее полно и последовательно выразила предпосылки любых категоричных убеждений, в том числе религиозных: умозрительность, спекулятивность, превращение частного в общее, например частных человеческих представлений о благе или целях в якобы общезначимые. Платон ввел представление о благе самом по себе, идеалах, бессмертной душе, содержащей индивидуальность, достижении Восхождения, а Аристотель создал философский миф об энтелехии, целенаправленности происходящего в мире и существовании цепочки метафизических причин, присущих каждому предмету.
II. Вызов религии, брошенный Новым временем
Истина вредна только тем, кто обманывает людей, и всегда будет полезна всему прочему человечеству.
Поль Анри Гольбах. «Разоблаченное христианство»
Последовательный ряд философских сочинений Аристотеля, посвященных логике, к числу которых относятся «Категории», «Об истолковании», «Первая аналитика» и «Вторая аналитика» и «О софистических опровержениях», традиционно называется «Органон» (дословно — инструмент). Данные труды Аристотеля впервые берут в качестве предмета сами рассуждения как таковые. Так, в «Аналитиках» Аристотель ввел понятие силлогизма как единицы формальной логики.
Хотя проблемы логики как таковой не имеют прямого отношения к нашему разговору, однако спустя без малого две тысячи лет не столько Аристотелю, сколько всему догматизму и идеализму был брошен вызов, имя которому по аналогии с собирательным наименованием аристотелевских трудов — «Новый Органон».
1. Против догматизма. Методы науки по Фрэнсису Бэкону
Речь, конечно же, о сочинении лорда Фрэнсиса Бэкона, английского философа, одного из наиболее известных основоположников эмпиризма. «Новый Органон» — это буквальный вызов и манифест одновременно: вот вам новый в сравнении с формальной логикой и схоластикой инструмент. Новым инструментом в данном случае является эксперимент. Эксперимент — это способ преодоления умозрительных заблуждений.
«Наш же способ столь же легок в высказывании, сколь труден в деле. Ибо он состоит в том, что мы устанавливаем степени достоверности, рассматривая чувство в его собственных пределах и по большей части отбрасывая ту работу ума, которая следует за чувством, а затем открываем и прокладываем разуму новый и достоверный путь от самых восприятий чувств. Без сомнения, это понимали и те, кто такое же значение придавал диалектике. Отсюда ясно, почему они искали помощи разуму, относясь с подозрением к прирожденному и самопроизвольному движению ума. Но слишком поздно прилагать это средство, когда дело уже загублено: после того как ум уже пленен привязанностями повседневной жизни, ложными слухами и учениями, когда он осажден пустейшими идолами»[44].
Бэкон противопоставляет классическую философию, которая не приносит практической пользы, и полезное естествознание. Разум без опыта Бэкон сравнивает с рукой, не вооруженной инструментом, а античные рассуждения называет не обремененным требованиями достоверности полетом воображения. Второе название книги, «Великое восстановление наук», объясняется тем, что Бэкон понимает науки отличным от современного образом, как все множество интеллектуальных занятий, включая философию и алхимию. Именно поэтому он и говорит о кризисе наук в целом: они получают слишком мало нового знания и приносят слишком мало практической пользы.
Помните, Аристотель мог соблюдать изложенные им формальные правила построения рассуждений, но если его первоначальные предпосылки никуда не годились, то не были годными и дедуктивные выводы. Именно поэтому Фрэнсис Бэкон противопоставил силлогизм и научную индукцию:
«Силлогизмы состоят из предложений, предложения из слов, а слова суть знаки понятий. Поэтому если сами понятия, составляя основу всего, спутаны и необдуманно отвлечены от вещей, то нет ничего прочного в том, что построено на них. Поэтому единственная надежда — в истинной индукции»[45].
Индукция — это то, что обычно называют переходом от частного к общему, и в этом она противоположна дедукции, то есть получению выводов на основании силлогизмов, от общего к частному. Проще говоря, речь о получении общего знания на основании обобщения единичных данных. Индукция — это метод естественной науки (по крайней мере, так казалось людям до Поппера). То, что у индукции нет строгих правил, и обобщения фактов недостаточно для обоснования теории, — отдельная проблема, которая станет актуальной лишь в XX веке.






