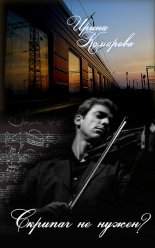Последний виток прогресса Секацкий Александр

Хуматон принял решение первым и если и потратил какое-то время, то не на размышления, а на чтение надписей (это время может, конечно, оказаться и немалым, но другие терпеливо подождут, пока он прочтет).
Через некоторое время Субик передумает и догонит своих товарищей. Его подтолкнет это сделать мысль: «А вдруг все-таки им достанется счастье?» Итоговая картина будет выглядеть так: все трое идут прямо, поддерживая дистанцию. Субик держится немного поодаль, слегка забирая влево – на всякий случай… Вполне возможно, что счастье и впрямь окажется там, где его ищут, и достанется оно тому, кто придет первым. И это будет безупречный рыцарь Форрест Гамп Хуматон.
Далее можно предположить, что победитель поделится с товарищами своей находкой. Сникерснутый составит необходимую пару для счастья – это даже естественно, поскольку все его аффекты подражательны. А вот Субик не сможет по-настоящему воспользоваться предложением. Ведь не он оказался первым у «раздачи», но главное, он видит рядом с собой счастливых товарищей-конкурентов. В таких нечеловеческих условиях Субику и радость не в радость.
При всей ее абстрактности смоделированная ситуация поучительна и может быть использована для целого ряда обобщений. Так, решение Субика присоединиться к товарищам-витязям всегда имеет, как любят выражаться математики, «некоторую, отличную от нуля вероятность». Но в действительности окончательный исход предприятия будет зависеть от того, кому принадлежит данная Вселенная: субъектам или хуматонам. Ведь в первом случае подозрения -сознания могут оказаться очень даже оправданными. Однако факт принадлежности, в свою очередь, определяется количеством прежде сделанных выборов. Если число избраний прямой дороги перевалит через некую критическую точку, соответствующий мир из спектра возможных миров перейдет под юрисдикцию хуматонов. И в этом случае для хуматона не найти свое счастье будет столь же трудно, как для субика его найти. В таком мире сникерснутые будут автоматически руководствоваться выбором хуматонов, ведь эталоны корректных для ПСК аффектов (добродетели бога Июксты) не предполагают болезненных инициаций, слияние с ними возможно без какой-либо амбивалентности.
Дальнейшее совершенствование Плоско-Субъектного Континуума должно привести к исчезновению последней надписи (насчет коня). В нашем еще пока безоговорочно принадлежащем субъекту мире многие осложнения рефлексии связаны с тем, что пешие путники расшифровывают послания, адресованные всадникам, – более того, они частенько руководствуются именно результатами таких расшифровок.
По большому счету носители новой прямой чувственности могут и не составлять численного большинства в «открытом обществе»; главное, чтобы им удалось образовать несколько автономных кругов коммуникации, что-то вроде пяти олимпийских колец. Сегодня, как уже отмечалось, Форрест Гамп и его соратники выступают почти исключительно в роли адресатов культурных, политических и коммерческих посланий, в роли пресловутого, совсем недавно еще и вовсе мифического «электората». Это на них изощряются политтехнологи и пиар-менеджеры – с не меньшей изобретательностью, чем бихевиористы на подопытных мышах. Но даже и в таких условиях доверчивость нередко вознаграждается, в особенности безоговорочная доверчивость первых. Если же хуматоны или их сегодняшние провозвестники оказываются в роли авторов и адресатов одновременно, осуществляют коммуникацию друг с другом, используя каналы mass media или просто доступные для обозрения площадки (например, пляжи, арены, городские площади), их шоу способно произвести впечатление. И разумеется, стать примером для подражания, хотя здесь не все так просто.
Рессентимент предусматривает самые разные, в том числе и весьма утонченные варианты поддельного поведения; среди них есть, конечно же, и такая стратегия, которая по-русски называется «прикинуться дурачком», – именно эта стратегия активно провоцируется матрицей ПСК, она в данном случае и выбирается субъектом, поначалу на пробу. Субъекту, уже укорененному в своей подозрительности, прошедшему все инициации, подобная стратегия дает не слишком много: ведь идентификация с хуматоном имеет смысл только в случае самозабвенного соучастия в бесхитростности наслаждений. А это по определению есть труднейшее для субъекта[50]. В каком-то смысле хуматоны выполняют функцию, которая в идеальном государстве Платона была предназначена для судей. На этом важном моменте следует остановиться подробнее.
Беседуя с Главконом и стремясь обосновать качества, необходимые безупречным судьям, Сократ выбирает окольный путь. Сначала он говорит о врачах, указывая на качества, которые сделали бы их наилучшими:
«Искуснейшими врачами стали бы те, кто, начиная с малолетства, кроме изучения своей науки имел бы дело по возможности с большим числом совсем безнадежных больных, да и сам перенес бы всякие болезни и от природы был бы не слишком здоровым»[51].
Понятно, что опыт обращения с чужими болезнями пойдет только н пользу, да и знание болезней изнутри не повредит, пациент охотнее доверится такому врачу. Сократ как бы подводит к заключению по аналогии и относительно судей – ведь им расследовать преступления и выявлять порочные наклонности будет сподручнее, если они в этом поднаторели и разбираются в порочных наклонностях души, как в своих домашних делах. Но суть маневра Сократа состоит прямо в противоположном – в том, чтобы отчетливее обозначить ложность напрашивающейся аналогии:
«А судья, друг мой, душой правит над душами. Нельзя, чтобы с юных лет она воспитывалась у него среди порочных душ, общалась с ними, прошла бы через всяческие несправедливости и сама <в прошлом> поступала бы так – и все это только для того, чтобы по собственному опыту заключать о чужих поступках, как о чужих болезнях заключают по своим. Напротив, душа должна смолоду стать невинной и непричастной дурным нравам, если ей предстоит безупречно и здраво вершить правосудие. Потому-то люди порядочные и кажутся в их молодые годы простоватыми и легко поддаются обману со стороны людей несправедливых – ведь у них самих нет никаких черточек, созвучных людям испорченным»[52].
Здесь затрагивается один из ключевых моментов построения идеального государства – избавление от вредного знания (этот же момент оказывается решающим и для успеха транспарации). Да, мы называем знатоком людей того, кто разбирается в их бесчисленных уловках, кому в высшей степени ведомы порочные наклонности человеческой души, под какими бы прекрасными вывесками они ни скрывались. Образцом такой осведомленности может служить французская моралистика (Ларошфуко, Лабрюйер, Сен-Симон, де Севинье), непосредственно предшествовавшая провозглашению моральных идеалов Просвещения.
Мы можем восхищаться проницательностью подобных субъектов, и все же, как полагает Платон, эти знатоки людей не годятся в судьи. В данном месте диалога Платон ограничивается простым указанием на преимущество души, не причастной дурному, – в чем именно состоит это преимущество, выясняется из дальнейшего изложения и из самого духа философии Сократа и Платона.
Пресловутый знаток людей, конечно, проницателен, но ровно настолько, чтобы распознать «порочные наклонности», выявить их, где бы и в чем они ни скрывались. Судья с непорочной душой может и вовсе не заметить этих виньеток. Зато он видит сквозь и через них, прозревая тем самым лучшее в человеке, самое драгоценное в каждой душе. Его проницательность не рефлексивна, не отслеживает промежуточных и отраженных бликов, но делает прозрачной для себя среду распространения. И взгляду непорочного судьи предстает однородная среда без дифракции и интерференции. Вот почему его проницательность по праву может быть названа транспарацией – еще до того, как этот термин получил смысл дальнейшего просвещения.
То, что мы видим в другом, не остается безнаказанным ни для нас, видящих, ни для другого. Проницательный взор -сознания регистрирует нечто затаенное и принимает меры, в частности включает противообманные устройства. Застигнутый на месте преступления или, лучше сказать, на месте умышления, субъект в свою очередь принимает меры – ибо что же хорошего в том, чтобы быть застигнутым? Опознанные хитрости (уловки) вроде бы превзойдены. Но тем самым они в очередной раз актуализованы: перед нами знакомая гегелевская процедура Aufheben, сама суть диалектического аттракциона. Как уже отмечалось, диалектическое снятие хотя и обезвреживает минное поле, но не прекращает производство мин и не отменяет картографию минных полей в качестве особого жанра предусмотрительности.
Иное дело – транспарация, усмотрение простой, здоровой основы, без регистрирующего (рас)познания процессов и механизмов почти неизбежного замутнения. Именно к этому разделу принадлежат суждения князя Мышкина, Форреста Гампа, а возможно, и самого Иисуса. Тут происходит нечто гораздо более серьезное, чем игра бликов и отражений, нечто, заставляющее отнестись к диалектике с тем же священным трепетом, с каким относились к ней Шеллинг и Гегель. Но особый трепет вызывает не «многообразная различенность внутри себя», а как раз непосредственность несклонного к многообразным различениям взгляда. Такой взгляд приумножает присутствие того, что он усматривает. В применении к судьям это означает: в онтологическом срезе отнюдь не безразлично, способен ли судья видеть прежде всего худшее во мне (грешки и уловки) или он усматривает во мне мое лучшее. Что усматривает, тому и дает онтологическую преференцию, дополнительную санкцию бытия. Еще более значимой с точки зрения последствий оказывается негативная формулировка: хронически нераспознаваемое (например, некая «порочность») постепенно теряет навык актуализации. Фигуры порока ставятся перед угрозой развоплощения, если их не видят в упор, в особенности если о них даже и не подозревают. В этом смысле неведение – сила. И даже, пожалуй, великая сила, в чем мы уже убедились, рассматривая эволюцию ПСК.
Платон, достаточно подробно исследуя проблему «вредного знания», не решается, однако, сформулировать этот важнейший принцип негативной транспарологии (среди мыслителей Просвещения один Руссо трактует «неиспорченность цивилизацией» в качестве истинной, хотя и едва ли достижимой цели усовершенствования нравов). В результате недоговоренности позиция, которую формулирует Платон устами Сократа, оказывается двусмысленной и весьма уязвимой: «Порочность не в состоянии постигнуть добродетели, добродетель же познает как порочность, так и саму себя»[53]. Добродетель, безусловно, познает порок, если познание есть некая добродетель. Для нас, однако, важен другой аспект мысли: единственный шанс добродетели на победу состоит не в том, что она «познает» порок, а в том, что она его не знает и знать не хочет.
Все состояния знания в повелительном наклонении «знать» – суть привилегированные и культивируемые состояния субъекта. Многочисленные дистинкции и дифференциации этих состояний образуют «интересное» или, если угодно, «содержательное» – самые незначительные различия наделены -сознанием высокой ценностью, они не только имеют хождение в повседневных обменах, актах коммуникации, но и несут ответственность за репутацию «умного человека». Философия не слишком высоко ставила подобного рода содержательность, и мы можем найти немало иронии в отношении этих умных и знающих, начиная по крайней мере с Гераклита. Обратимся хотя бы к Гегелю: «Они собирают в своей области кучу материала, именно то, что уже известно и приведено в порядок, и так как они имеют дело преимущественно со странными и курьезными случаями, то им кажется, будто они тем более располагают всем прочим, с чем знание по-своему уже покончило…»[54] Они – это порождения рессентимента, носители неизбываемого несчастного сознания, но они же основные, если не сказать единственные, потребители философии, с чем приходится считаться их проницательным и не очень проницательным критикам. Гегель это имеет в виду, описывая происхождение соответствующей формации духа и настаивая, главным образом, на коррекции сформировавшихся предпочтений, которые по-своему вполне органично входят в состав опыта: «Потребовалось много времени, чтобы ту ясность, которой обладало только сверхземное, внести в туманность и хаотичность, в коих заключался смысл посюстороннего, и придать интерес и значение тому вниманию к действительности как таковой, которая была названа опытом. Теперь как будто бы возникла нужда уже в противном – чувство так укоренилось в земном, что требуется такая же большая сила, чтобы вознести его над земным. Дух оказывается так беден, что для своего оживления он как будто лишь томится по скудному чувству божественного вообще, как в песчаной пустыне путник – по глотку простой воды»[55].
Похоже все-таки, что Платон лучше представлял природу этой требуемой «большой силы», чем Гегель. Да и великий евангельский тезис о том, что последние станут первыми,[56]. Простые, еще даже не ставшие историческими, свидетельства вмешались в сугубо метафизический спор. Допустим, что предсказанный Платоном философ, которого пришлось бы уговаривать править государством, еще не появился (хотя соответствующие инсценировки время от времени устраиваются полновластными субъектами). Но зато судьи, чье суждение обладает удивительной силой, принципиально превосходящей возможности кодифицированного права, – такие судьи уже есть. А это значит, что мир идей Платона вступил в такой же кошмар сбываемости, как и гегелевское царство Абсолютного Духа. В этом царстве имманентности духа все постепенно становится прозрачным (транспарантным) для сознающего себя духа, но, как уже было отмечено, нет сомнений, что, окажись свидетелем этих перемен сам Гегель, он решительно сказал бы: «Лучше не надо».
Трудно сказать, опознал бы Платон в современных хуматонах реинкарнацию душ своих непорочных судей. Его соперники софисты могли бы «помочь» с сопоставлениями, но и без них замешательство неизбежно, если уж до такого сравнения дошло бы дело. Умение не видеть в упор хитросплетений порока полностью соответствует пожеланиям, высказанным в «Государстве», но вот то «лучшее в человеке», что прозревают соратники и последователи Форреста Гампа и приумножают своим присутствием, как-то не очень напоминает искомую справедливость, скорее уж именно сникерснутость, беззаветное следование заповедям богов ПСК.
Как бы там ни было, но субики, пребывающие во всеоружии хитрости разума, не могут не испытывать на себе действенность этих непорочных суждений. В результате приоткрывается еще один несколько неожиданный эффект транспарации, который, в силу его парадоксальности, уместно назвать рефлорацией.
Как известно, дефлорация всегда фигурировала среди вещей необратимых, по традиции и сегодня утерянную девственность рассматривают как пример того, чего уже не вернуть ни при каких обстоятельствах. Правда, этот пример, безупречный в течение многих веков, в свою очередь, теперь опровергнут хитростью разума – новыми медицинскими технологиями. Но дело, конечно, не в физиологическом акте, утратившем свою принадлежность к экзистенциальному измерению еще до наступления ПСК. Дело в утраченной девственности разума – уж ее-то точно принято было считать невосстановимой, ведь любая хитрость лишь усугубляет утерянную интеллектуальную целомудренность… В соответствии с общепринятой схемой юношеский романтизм сменяется универсальной мизантропией, а та, в свою очередь, переходит в формацию цинического разума, где выбор между здоровой долей цинизма и нездоровой долей (его же) во многом определяется историческими обстоятельствами. Путь от романтизма к цинизму можно считать накатанным, сентенций на эту тему хватает. Для французской моралистики это одна из главных тем, а знаменитая английская сентенция: «Кто в юности не был либералом, у того нет сердца, а кто к старости не стал консерватором, у того нет ума» – приписывалась многим авторитетным англичанам от Честерфилда до Черчилля. Тем не менее Питер Слотердайк, один из главных специалистов по этому вопросу и автор объемистой «Критики цинического разума», проглядел возможность, которую видел еще Платон, – возможность рефлорации.
Рефлорация, предстающая как странная, неожиданная убыль цинизма, как некое зарастание разума вторичной девственной плевой, не может быть следствием прогрессии самоотчета. Никак не определяется она и фактором эмпирической подтверждаемости подтверждаемость зависит от избирательного зрения, которое само производно либо от подозрительности, либо от транспарации. Но восстановленное целомудрие не сводится и к адаптивно-имитационным стратегиям -сознания вроде уже упоминавшейся конспиративной модели «прикинуться дурачком».
Для того чтобы началась рефлорация, необходимо затеряться в поле новых возможностей ПСК, обрести самозабвение, впасть в «апельсиновый рай». Турбины рефлексии, вращающиеся на холостом ходу, должны быть приостановлены, а пласты пассивного, ленивого воображения, напротив, задействованы в полную мощь. Лишь в этом случае эмпирические сомнения, даже вполне обоснованные, не сыграют решающей роли, как не играют они ее у хуматонов: рефлорация обобщает опыт бытия с выключенными противообманными устройствами. В принципе, рефлорация доступна и субъекту, коль скоро она уже стала одной из характеристик духовной формации, – если абстрагироваться от разного рода осложнений, среди которых особо выделяются занятия философией, относящиеся к разряду роковых осложнений, труднее всего поддающихся терапии.
Самозабвенность, обретаемая подозрительным субъектом, заставляющая его забыть об осторожности и перестать дуть на воду (даже однажды обжегшись на молоке), остается весьма проблематичной. Поневоле вспоминается ирония Ницше по поводу молнии, которая могла бы и не сверкать, оставаясь все же молнией… Слова Ницше относились, конечно, к носителям другого экзистенциального проекта, предшествовавшего формации подозрительного субъекта. Когда-то эти воины и цари (кшатрии) превратились в переставшие сверкать молнии в результате соблазненности хитростями разума и их материальными производными – то был момент торжества рессентимента: воинов мира завербовали заброшенные в мир шпионы.
Похоже, однако, что реванш не за горами. Носители -сознания, успешно прошедшие цепочку инициации, научившиеся имитировать и брахманов, и кшатриев так, что подделки ни в чем не уступали оригиналам и даже оказывали существенное влияние на психический интерьер имитаторов[57], остановились в растерянности перед суждениями непорочных судей. Весьма нехитрые на первый взгляд удовольствия (с точки зрения «искушенных ценителей» попросту идиотские) ставят в тупик именно своим идиотизмом. Этим же выбивают из седла элементы новой конденсирующейся мифологии и новые священнодействия. Относятся ли они к маниакализации «здорового образа жизни», к проявлениям экологического маразма или беспрецедентному расцвету принципов корпоративной солидарности, их имитация вызывает замешательство. Возможно, стратегия нисходящего подражания хуже отработана, чем имитация эталонов признанности: скажем, подражание юным, обозначаемое глаголом «молодиться», в принципе, регулярно практикуется, хотя и не с таким блеском, как подражание справедливым; но подражание детям, предлагаемое в качестве адаптационной стратегии всему обществу, дается с огромным трудом. Иными словами, для того, чтобы сникерснуть по-настоящему, как того требуют пророки Июксты, недостаточно купить батончик – нужно еще совершить мировоззренческую революцию, некое усилие аскезы, пусть даже нисходящей, всегда требовавшееся для обретения просветления. Тем более что речь идет не о разовом просветлении, а о просветленности вплоть до полной транспарации.
Сколь примитивным ни казался бы экзистенциальный проект, которым руководствуются агенты ПСК, утвердившиеся в нем корреляты сакрального и эзотерического, пусть даже с высоты -сознания они именуются «эрзацами», самоочевидны лишь в случае первого, неосложненного выбора. В случае же перенастройки с уже обретенных позиций (экзистенциалов) Dasein происходит экзистенциальная ломка более радикальная, чем преобразование, вызванное переходом к монашеской жизни.
Итак, самодостаточность экзистенциального проекта «хуматон» налицо, и количество свершенных выборов-предпочтений приближается к критической массе. Непрерывно транслируется живая картина «делай как я», где в главных ролях заняты немногие пока хуматоны, а в массовке (уже воистину массовой) – непоправимо сникерснутые. Вслед за этим авангардом шествует целая армия ведомых и колеблющихся – решившихся на преображение индивидов, взыскующих чуда рефлорации. Они исповедуют принципы бога Июксты – политкорректность (презумпцию правоты первого встречного), любовь к животным, почтение к идеальным воплощениям коллективного тела и этичесую рефлексию на уровне Микки-Мауса. Как тут вновь не вспомнить прекрасный образец такой рефлексии, продемонстрированный американским президентом и решивший судьбу Саддама Хуссейна: «Этот плохой парень обидел моего папу…» Понятно, что пока еще рано говорить о полном торжестве регенерированного целомудрия. Философия, во всяком случае, не смогла подобрать к нему ключик – максимы политкорректного поведения просто, без всякой рефлексии, заняли в ней место, прежде принадлежащее вечным истинам[58].
В конструкции нового проекта не предусмотрены высоты трансцендентного, даже боги здесь самозарождаются в завихрениях «солнечного ветра» как гаранты и распорядители неподдельных удовольствий. Потоки пронизывающей транспарации представлены исключительно в форме для себя, без опознавания своего иного и при отсутствии такой приманки для рефлексии как бытие в себе. А сила этого предложения такова, что оно легко опровергает привычные эталоны невозможности как в буквальном, так и в расширительном смысле. Вот, скажем, русская пословица «Горбатого могила исправит», она охотно используется для иллюстрации некоторых очевидных для -сознания тезисов, например таких: на смену цинизму может прийти только маразм. Именно такой вывод можно сделать, если подытожить объемистый труд Слотердайка: циническое сознание представляет собой последнюю формацию здравого смысла, после которой в «закрытой системе» наступает слабоумие. Подобные утверждения многочисленны и действительно неопровержимы для тех, кто не верит в чудо рефлорации.
И что же? Сначала хирургия разобралась с неустранимым дефектом осанки, доказав, что эксклюзивная исправительная функция могилы в данном случае сильно преувеличена. Затем Просвещение в своей высшей и последней стадии Транспарации предложило эффективное средство для удаления цинизма, как накипи с чайника. Рецепт этого чудодейственного средства элементарен: сникерснуть и не дать себе засохнуть. И всё! Только сделать это нужно самозабвенно, по-настоящему, «по-нашему», лишь при условии безоглядности полость сознания эффективно промывается от накипи цинизма (наряду с прочими хитросплетениями). Ясно, что для полноправного подозрительного субъекта простота очищающего рецепта подобна простоте совета, приписываемого многим известным художникам: чтобы извлечь изваяние из глыбы мрамора, нужно лишь отсечь все лишнее…
Поэтому чудо рефлорации остается чудом, событием хотя и возможным, но, безусловно, редким. Другое дело – сохранение девственности рецепторов базисного удовольствия, отсутствие неизбежной дефлорации, вполне реальное уже в условиях общества потребления и уж тем более в условиях ПСК. Пока доживающие свой век циники продолжают посмеиваться над неуклюжестью и наивностью рекламы, отредактированная клипмейкерами версия сущего исподволь вступает в свои права. Моя пятилетняя дочь Ева звонит мне по телефону и с неподдельной скорбью в голосе сообщает:
– Папа! Мама не хочет вести меня сегодня в «Макдоналдс». А ведь сегодня выходной!
– Почему не хочет? – спрашиваю я.
– Она говорит, что дома приготовит еду еще вкуснее…
Я пытаюсь утешить девочку, убеждая ее, что мама обязательно сделает что-нибудь вкусненькое. И тогда Ева, уже рыдая, почти кричит в трубку:
– Папа, ну как же ты не понимаешь? Ведь человек не может приготовить такую вкусную еду!
Мне становится ясно, что никакими рациональными аргументами разубедить ребенка невозможно. Ясно становится и другое: сколько бы ни высмеивали «Макдоналдс» гурманы, обладатели изощренного вкуса, сколько бы ни проклинали его антиглобалисты, устами младенца глаголет истина, пусть даже это истина-light. Высказанные ребенком слова относятся к числу первых выводов, совершаемых еще незамутненным разумом. Время таких выводов наступает, когда ребенок перестает требовать невозможного, например перестает просить: «Папа, почини жука (или бабочку)». Еще сто лет назад ребенок вдруг осознавал, что человек не может «изготовить сливы», он может лишь переработать их, сварив компот или варенье. Сливы сами по себе, они от Бога или от природы. И вот еда «Макдоналдса» приобретает статус слив Господних. Одновременно мы видим, что представляют собой котировщики, отвечающие в ПСК за инстанцию вкуса. Они принадлежат к племени, не прошедшему дефлорацию в самом широком смысле этого слова. К ним примыкают в качестве сподвижников представители противоположного края, «выпавшие из цинизма» по причине почтенного возраста. На этом обстоятельстве, во многом определяющем современное положение вещей, следует остановиться подробнее.
Смерть экс-президента США Рональда Рейгана дала немало поводов для подведения всякого рода итогов: звездные войны, рейганомика, исторические встречи на высшем уровне… Но, быть может, самый важный итог, проясняющий судьбу целой цивилизации, пока не подведен. Речь идет о последнем десятилетии жизни Рейгана, проведенном под знаком болезни Альцгеймера. Или, попросту говоря, в состоянии необратимого старческого маразма.
Стало быть, есть наконец повод озвучить вещи общеизвестные и в то же время тщательно замалчиваемые. Еще в 30-х годах истекшего столетия исследования по возрастной психологии продемонстрировали впечатляющую картину падения функций интеллекта в зависимости от возраста. Выяснилось, что средний IQ семидесятипятилетнего мужчины соответствует уровню ребенка шестилетнего возраста, у женщин соответствующий показатель еще ниже. К восьмидесяти годам достигается умственный уровень четырехлетнего ребенка, и понятно, что процесс на этом не останавливается.
Эти исследования, с тех пор многократно подтвержденные, можно было бы счесть полным развенчанием мифа о мудрых старцах. Речь могла идти именно о редких избранниках, сохранявших ясность ума вопреки своему возрасту и, соответственно, достигавших преклонного возраста как раз благодаря уму. Стойкая привычка к размышлениям, к дисциплине мысли, сохранность навыка ученичества – вот что странным образом составляет рецепт эликсира долголетия, рецепт вполне общедоступный, но не слишком востребованный. Здесь уместно привести наблюдения Лидии Гинзбург, сохранившей ясность сознания до последних мгновений жизни:
«Когда человек становится старым? Это зависит от многих обстоятельств. В пятьдесят лет можно быть старым доцентом или молодым академиком. Свое время старости у священников, у умственно отсталых. У женщин.
Но изнутри старость наступает тогда, когда мы говорим себе: уже поздно. Уже не успеть. Поздно искать нового возлюбленного. Поздно менять привычки. Учиться танцевать. Только что было «уже пора», и вдруг стало поздно. Внутреннее осознание закрытых возможностей и есть старость. Но почему, собственно, в тридцать лет изучать иностранный язык еще не поздно, а в пятьдесят поздно? Что, на двадцать оставшихся лет он не пригодится, а на тридцать пригодился бы?
Приговор о возрасте выносится извне: взглядами, интонациями, умолчаниями – и вовсе не обязательно так поспешно с ним соглашаться, можно и опротестовать. Но приговор о старости зачитывается изнутри: как прекращение попыток ученичества, исчезновение даже страха перед возможной неудачей. Со стороны это может показаться житейской мудростью, а на самом деле речь идет о малодушной капитуляции»[59].
В действительности на протяжении человеческой истории среди выживавших и вступавших в дееспособную старость как раз и преобладали сохранившие себя – не поддавшиеся социальному иждивенчеству, отказавшиеся от интеллектуальной пенсии, трудоголики умственного труда. Всех прочих настигала дряхлость, и физическая смерть поджидала их уже на пороге маразма.
Ситуация радикально изменилась за последние десятилетия. Значительное увеличение средней продолжительности жизни в совокупности с рядом других факторов превратили в миф образ почтенной благородной старости. Сохранение ясности сознания благодаря собственным усилиям перестало служить условием долголетия. Доступ в долгожители открыт теперь каждому, будь ты фермером, второразрядным актером или вечным аутсайдером жизни; главное – принадлежност к избранной части человечества.
Особенно впечатляют успехи пластической хирургии и «омолаживающей косметики», создающие в итоге поразительный эффект неузнавания. Седовласые юноши с едва заметными морщинами и белозубой улыбкой активно посещают общественные места (присутствие сопровождающих не слишком бросается в глаза), и лишь попытка вступить в контакт выдает в них дряхлых стариков, давно уже переживших остатки вменяемости. Это потрясающее торжество камуфляжа – десятки миллионов ходячих покойников, замаскированных под живых и здоровых, – можно рассматривать как одну из важнейших характеристик современного постиндустриального общества, достигшего наконец стадии цивилизации Альцгеймера.
Пожалуй, впервые метаисторическая схема Шпенглера об угасании цивилизаций предстала в столь наглядном и буквальном виде. Еще предстоит оценить или, лучше сказать, предстоит дождаться последствий этих многообещающих перемен. Пока можно обозначить лишь наиболее очевидные проблемы цивилизации Альцгеймера. Одна из них, которую придется решать в ближайшее время, это проблема верхнего возрастного ценза дееспособности. В условиях «естественной» старости когорта долгожителей всегда была не просто политически активна, но и составляла, можно сказать, наиболее органичную часть правящего класса, некий золотой резерв власти. Понятно, что долгожители сегодняшнего дня не слишком подходят для этой роли, а между тем их процент среди избирателей неуклонно растет, не исключено, что уже завтра придется задумываться о вменяемости избираемой власти. Соответственно, серьезные испытания ожидают и не вызывавший до сих пор сомнений принцип легитимности.
Накопление признаков маразма за фасадом благополучной внешности дополняется заметным ростом детского аутизма, в свою очередь, оказывающего влияние на структуру общественного сознания. Изменяются потребительские предпочтения, прежде всего в том, что традиционно принято было называть духовной сферой. Коллективная инстанция вкуса уверенно смещается в сторону наивного выбора ребенка. По всем фронтам идет наступление «вторичной наивности», и в полном соответствии с симптоматикой болезни Альцгеймера теряется способность узнавания родных и близких (их все больше путают с первыми встречными), способность быть благодарным к тем, кто этого заслуживает, наконец, способность к самостоятельному выбору жизненных ценностей, не раз спасавшая западную цивилизацию от наваждений.
Как и во многом прочем, Америка и здесь удерживает лидирующую роль. Ширящиеся признаки цивилизации Альцгеймера не пугают бодрых американцев, возможно потому, что в США явление рефлорации представлено более широко и намерение во что бы то ни стало не дать себе засохнуть воспринимается вполне серьезно, порой на уровне альтернативы отсутствующему трансцендентному. Уже сегодняшняя американская действительность дает ответ маловерам, сомневающимся в возможностях рефлорации. Соответственно, приверженность новым ценностям, обетованиям бога Июксты, демонстрируют не только продвинутые поклонники fast food и fast fucking, но и целые нации, плавно дрейфующие из постиндустриального общества в Плоско-Субъектный Континуум. Разумеется, закоренелые субъекты, не имеющие веры даже с горчичное зерно и потому неспособные к чудесной трансформации, пытаются удержаться на самой кромке ПСК, впадая при этом в теоретические противоречия и в практические несообразности.
Если вновь вернуться к важнейшей коллизии современной философии, нельзя не отметить удивительную смесь мазохизма и кликушества, воспроизводящую принципы полагания максим чистого практического разума, но в многократно усиленном, утрированном виде. Теоретические лидеры «всепонимающих субиков», такие как Андре Глюксман или Бернар-Анри Леви, безусловно, готовы отстаивать права выходца из Туниса, более того, готовы доказывать его преимущества перед прочими парижанами, но они все же неспособны проникнуться добродетелями Микки-Мауса – даже будучи загнанными в угол. Они презирают и ненавидят эту чудесную мышь, даже когда дети возлюбленного ими и избранного в качестве человеческого эталона тунисского парижанина уверяют, что Микки – посланец Аллаха, даже когда их собственные дети с придыханием говорят: «Смотри, папа, какой смелый и добрый мышонок! Правда ведь, что это детский цадик нашего Б-га?» Свидетельства подлинного интернационализма в этом случае нисколько не радуют левых интеллектуалов, сохраняющих упрямство, давно уже лишенное последовательности и внутренней логической связи. Упорное нежелание смириться с коррелятами трансцендентного уже после того, как их имманентные, посюсторонние последствия зачислены в разряд безусловных достижений цивилизации, говорит о наличии цели, лишенной какой-либо целесообразности. Речь идет о «субъектоутверждающих» жестах на ровном месте, о виньетках своеволия, истинную роль которых понимали немногие – правда, среди этих немногих были Гегель, Достоевский и Лакан. В «Феноменологии духа» Гегель особенно настойчиво сопоставляет «индивидуальность», «обман» и «суть дела», обращая внимание на важность и самодостаточность возникающей в этом случае игры сил:
«Итак, какая-нибудь индивидуальность собирается нечто осуществить; кажется, будто она этим возвела нечто в суть дела; она совершает поступки, открывается в этом для других, и ей кажется, что главное для нее то, что свершается в действительности. Другие, следовательно, принимают действование индивидуальности за интерес к сути дела как таковой, и за цель, состоящую в том, чтобы дело в себе было осуществлено – безразлично, этой действующей индивидуальностью или ими. Когда поэтому они указывают, что «это» дело уже осуществлено ими, или если не осуществлено, то предлагают свою помощь и оказывают ее, они с удивлением обнаруживают, что действующего сознания уже нет там, где, по их мнению, оно находится: то, что его интересовало и интересует в деле, – это его поступки, и, когда они убеждаются, что это и было само дело, они, стало быть, считают себя обманутыми. Но фактически поспешность, с которой они шли на помощь, сама была не чем иным, как желанием видеть и показать свое действование, а не какую-то суть дела; то есть они хотели обмануть других тем же способом, каким и сами, если верить их жалобам, были введены в обман. Стало быть, теперь обнаружилось, что самой сутью дела считаются собственные поступки, игра своих сил, каковой и занято сознание как своей сущностью для себя»[60].
Игра своих сил (своя игра) оказывается не просто самодостаточным мотивом, но и тем последним бастионом, который -сознание защищает во что бы то ни стало. Портрет предельно точен, и кому, как не Гегелю, было это знать – ведь великий философ решал воистину титаническую задачу по совмещению своего действования с поступью Абсолютного Духа. И надо признать, что решил он ее настолько корректно, насколько это вообще возможно, – ни разу не подставившись, благополучно избежав ловушек, которых не смог избежать даже такой признанный мастер подозрительности, как Фрейд[61]. Современные левые философы воспроизводят виньетки, не утруждая себя (и читателей) какими-либо объяснениями. Правда, их положение несколько осложнилось по сравнению с золотым веком классического авторствования, теперь приходится заботиться уже не только об индивидуальном росчерке, но и о воспроизведении сигнатуры субъекта вообще. Отсюда сугубо случайный, «своевольный» характер проявляемого упрямства.
На фоне требуемой прозрачности завихрения иррационального своеволия выглядят особенно нелепо, и в результате противоречивость самосознания общества, выраженная его ведущими теоретиками, как минимум не уступает противоречивости пресловутого первобытного анимизма. К примеру, и в теории, и на практике мы постоянно имеем дело с эксцессами потребительского сопротивления, спокойно уживающимися с требованиями социально ориентированной экономики. Принцип минимизации стрессов всех участников «производственного процесса» уже сегодня является не менее а то и более важным, чем принцип извлечения прибыли[62]. Но теоретические адепты социальной защищенности работника тем не менее не переносят свою благосклонность на его продукцию, они упорно не хотят узнавать своего любимца в зеркале изготовленных им вещей. Решительно отвергается и жест солидарности, воспроизводимый в рекламных клипах, – вообще, как уже отмечалось, «правовое обслуживание» ПСК со стороны европейской метафизики напоминает напутствие глуховатой бабушки своей любимой внучке: одна не слышит, другая не слушает. Взаимопонимание отсутствует даже там, где, казалось бы, имеется надежная общая почва.
Самым ярким примером является экология, сфера совместной ответственности рядовых подданных ПСК, которые восходят к ней, как к алтарю всесожжения, и университетских профессоров, которые к ней нисходят в поисках востребованности и думают оказать неоценимую духовную услугу волонтерам Гринписа. Должна же быть куда-то перенесена остаточная тяга к трансцендентному – такой духовной резервацией как раз и стала экология. Это она сегодня софия, выступающая в одеждах величия и мудрости. Но на роль ее верховных жрецов философы, увы, не годятся, эта почетная роль принадлежит мехоборам и алармистам, чьи позиции по крайней мере понятны транспарантному гражданскому обществу. При этом мехоборы, названные так благодаря своей непримиримой борьбе с шубами из натурального меха, примерно соответствуют судиям библейской эпохи и специализируются на обличении повседневных грехов (жестокого обращения с животными, использования аэрозолей, тех же меховых изделий, etc.), алармисты же выполняют функции библейских пророков, обличая жестоковыйное человечество в целом, испоганившее свой общий дом. Ну а философы, лишившись достоинства первосвященников, тем не менее добросовестно выполняют социальный заказ авангардов ПСК, делая все, на что способен субъект, не умаляя своей субъектности.
Ясно, что ни один философ не может претендовать на тот высокий авторитет, который обрел Тур Хейердал, путешествуя на плотах по океанам, или Джейн ван Лавик-Гудолл, прожившая несколько лет при стаде горилл. Далеко ему и до Диснея, создателя безупречной Мыши, и до Спилберга, организовавшего прекрасный юрский парк с симпатичными динозаврами. Философ сам виноват, ведь вместо того, чтобы наслаждаться обществом горилл или антилоп, он занимался всякими пустяками: книжки читал, вникал в хитросплетения диалектики, конспектировал Аристотеля с Гуссерлем. Но и его усилия, направленные в нужную сторону, приветствуются: преобразуя простые, но исполненные духовной силы воззвания алармистов в ученую речь, пользующуюся уважением у субиков, он, несомненно, делает доброе дело.
Обработанная и разбавленная мультиками экология складывается в достаточно странную структуру – возникает сакральное без трансцендентного. Такую конфигурацию не получить посредством диалектического аттракциона, выдерживающего, казалось бы, любое головокружение и стояние на голове, – и в то же время она появляется закономерно и поэтапно по мере внедрения просвещенческой утопии. Ближайшим предшественником здесь является позитивизм с его своеобразным пафосом, призванным завуалировать вопиющую пустоту святого места. Еще до подвигов Хейердала и Жак-Ива Кусто был составлен свой пантеон героев, куда входили Луи Пастер, предлагавший дуэль на колбах, одна из которых содержала, кажется, культуру холерных вибрионов, физики копенгагенской школы, бормотавшие формулы даже во сне, академик Павлов, потребовавший, чтобы ассистенты в деталях фиксировали процесс его умирания. В целом, однако, позитивизм с подозрением относился ко всему патетическому. Обоснование своей высшей санкции позитивная наука доверяла «научно-популярной литературе», которая, в отличие от метафизики, имела дело с редуцированным и упрощенным социальным заказом. Пропагандисты воспевали подвиги рыцарей науки подобно скальдам, рапсодам и аэдам, прославлявшим героев в соответствии с каноном прославления. При некотором напряжении внимания мы можем даже распознать в новых добродетелях трансформированную доблесть, благородство, верность кодексу чести; хуже всего дело обстоит с чашей святого Грааля – колба с вибрионами как-то уж совсем неубедительно репрезентирует желанную цель и высшую награду[63].
Дальнейший синтез наполнителя сакрального пространства связан уже с работой транспарации. И эта работа устранила шизофреничность пейзажа уже девальвированного трансцендентного, аутизм вообще уверенно теснит шизофрению по всем фронтам. В данном случае термин «Плоско-Субъектный Континуум» говорит сам за себя; Священное Писание верноподданных ПСК записано в основном на электронных носителях, и набрано оно, в сущности, тем же шрифтом, что и реплики в чатах.
Сакральное без трансцендентного охотно пользуется услугами волшебной сказки, слегка подновленной в соответствии с современным антуражем. Эти сказки, впрочем, заведомо адаптированы для детей; они несравненно «политкорректнее» не только архаических мифов, но и сказок братьев Гримм или Ханса Кристиана Андерсена. В них открытым текстом заявлена назидательность – та самая, которая способствует отторжению сказки тинейджерами. Вообще реакция отторжения прямой назидательности – это один из первых признаков формирования субъекта, иммунная система подозрительного субъекта чрезвычайно устойчива к превышениям квоты морализаторства. Но проект «хуматон», в отличие от проекта Dasein, не предусматривает тотальной нейтрализации влияний, назидательность оказывается действенной и эффективной, если ее источником являются боги и герои неоязыческого пантеона.
Любопытно, что специальные комиссии ЮНЕСКО, начиная еще с 70-х годов XX века, пытались «подчистить» детскую литературу в духе политкорректности, особенно налегая именно на сказки. Негодование наследников Просвещения вызывал скрытый расизм, фаллоцентризм и чрезмерная жестокость положительных героев (начало, впрочем, было положено самим французским Просвещением, многократно переписывавшим Рабле и Бокаччо). Тогда, в условиях доминирования классического субъекта, решить задачу не удалось: сами получатели заказов с трудом могли скрыть язвительность в отношении ожидаемых от них политкорректных текстов. Но по мере того, как материализовывались измерения ПСК, чистая назидательность перестала быть внешней задачей, которую художник должен решать, наступая на горло собственной песне. Творческий опыт художника стал постепенно сближаться с этической прямотой Микки-Мауса. В сфере детской литературы вообще произошли далеко идущие перемены.
Речь идет о перемене тенденции, которая в качестве константы культурной трансляции была сформулирована еще Роланом Бартом: произведения, создаваемые для взрослых и, как правило, имеющие у них успех, в скором времени (не превышающем двух поколений) опускаются в детскую литературу, где уже ведут стабильное, законсервированное существование. Расхожие примеры с Конан Дойлом, Александром Дюма и Майн Ридом прекрасно подтверждали эту превратность и, разумеется, отнюдь не были единственными подтверждениями. Экстраполируя очевидную тенденцию дрейфа актуальной литературы своего времени в сферу гораздо более стабильного подросткового чтения, можно было предположить, что и тексты, все еще находящиеся сегодня под грифом «outrageous», тоже опустятся со временем к любознательным подросткам, и кукла Барби, абсолютно «непристойная» с моральных и даже с эстетических позиций XIX века, несколько потеснится на игровой площадке, куда придет кукла Лолита, очаровательная нимфетка, которая без труда сумеет отбить у Барби ее Кена.
Этого не случилось. То есть нельзя сказать, что дрейф такого рода прекратился вообще, но он был перекрыт куда более мощной контртенденцией прогрессирующего интереса взрослых (может, правильнее будет написать «взрослых») к детскому чтению и в особенности к детскому и подростковому видеоряду. Например, «Ночной дозор» (один из самых успешных российских кинопроектов последнего времени), если бы входящие в его состав дозорные могли вести наблюдение за зрительным залом, за душами внимающей аудитории, несомненно, зафиксировал бы, что его приключениям все возрасты покорны, что взрослые дяди и тети не просто развлекаются, но именно переживают, пытаются усмотреть решение своих проблем в стихии волшебной сказки, некогда профанически выпавшей из пространства мифа, а теперь совершающей обратное восхождение. Возможно, правда, что данному обстоятельству больше порадовался бы дневной дозор, в интересы которого должна входить легитимация «иных» вообще, но это отдельный вопрос. Неожиданная атмосфера серьезного, даже пристального, внимания к патрулированию на кромке инфернального достойна специального анализа, ибо последний раз такое внимание отмечалось во времена «Молота ведьм».
Если же попытаться сказать несколько внятных слов по поводу возросшей инфантильности, повлиявшей на рецепцию искусства, то следует отметить, что мы присутствуем лишь при первых шагах уже готовящегося переворота. Неподдельный интерес взрослой аудитории к мультикам (не имеющий ничего общего с эстетскими позициями почитателей Норштейна), растущая популярность практики fanfic и ролевых игр есть сегодня некая данность, далеко превосходящая стремление «подурачиться». Движущие силы этих культурных преобразований зародились внутри детской литературы, им предшествовали перемены в самой стабильной формации подросткового чтения. Уже послевоенное интернациональное поколение, погрузившееся в Толкиена всерьез и надолго, отправило в отставку Александра Дюма, а к концу XX столетия ассортимент детской литературы и «детской культуры» в целом полностью обновился: читать Майн Рида и Фенимора Купера стало возможно только из-под палки (как раз к этому времени они были включены в школьную программу) – и новая, модная детская словесность начала свое триумфальное шествие через списки бестселлеров для аудитории всех возрастов. Гарри Поттер еще не победил окончательно Волан-де-Морта, но над традиционным реализмом он одержал решительную победу…
Вне всякого сомнения, успех Джоан Ролинг – это всего лишь первая ласточка; инфантилизация художественных предпочтений только набирает обороты. Выбравшие Поттера (ну как тут не съязвить насчет поттерянного поколения) не собираются уступать своих эстетических позиций, им нужны и ими заказаны новые сопоставимые шедевры, и российские «дозоры» идут именно в этом русле. Но, разумеется, далеко уступают американским проектам, составляющим основу эстетического измерения ПСК.
Можно было бы без особого труда заметить, что пантеон хуматонов, состоящий из прямодушных героев с их незатейливыми историями, расположен еще, так сказать, на этаж ниже пантеона почитательниц мыльных опер. Но подобные оценки, опирающиеся на критерий изощренности в суждениях вкуса (на коэффициент преломления сущности в явлении), никак не задевают смысла совершаемого в эстетическом измерении выбора. Пока достаточно констатировать, что критерий отбора в неоязыческий пантеон учитывает максимальную удаленность канонизируемых персонажей от подозрительных субъектов. Боги и герои нового мира тяготеют к существам, очеловеченным с помощью кино и анимации, – к придуманным животным, симпатичным инопланетянам и не менее симпатичным динозаврикам, а их антиподами, напротив, являются сугубо человекообразные существа, разного рода шпионы, диверсанты и вредители. Важнейшим принципом для героизации становится отсутствие задней мысли; ясно поэтому, что субъекту невероятно сложно даже претендовать на святое место, представляющееся ему безусловно пустым.
Следует вновь подчеркнуть, что другая особенность сакрального без трансцендентного состоит в том, что пантеон не выдвинут в заоблачные выси, а прекрасно просматривается с любой точки ПСК. К нему ведут вполне доступные ступеньки-пьедесталы, на которых расположились простые открытые парни, упразднив тем самым иерархию ангельских чинов. Что же касается сложных и закрытых парней, то и им вовсе ни к чему блуждать по бесчисленным кругам ада – выход через чистилище, чистилище принудительной транспарации, для них всегда открыт.
7
Преодоление трансцендентного и мания наглядности
Мераб Мамардашвили в одной из своих лучших книг, «Классический и неклассический идеал рациональности», оценивая долгосрочную тенденцию Просвещения, усиливающуюся по мере приближения к идеалу, говорит о том, что истощивший себя классический разум столкнулся с необходимостью преодолеть манию наглядности. В качестве примера видеоряда, искажающего суть дела, философ избирает ситуацию в современном естествознании, где исследователи (и прежде всего специалисты по квантовой механике) столкнулись с беспомощностью и даже с дезориентирующей функцией «картинок», призванных проиллюстрировать заключенные в формулах смыслы[64]. Уже первый атом Нильса Бора, представленный на поясняющей картинке в виде пирога с изюмом, не только ничего не добавлял к функциональному пониманию, но и своей навязчивостью задерживал на какое-то время развитие теоретической мысли. Научись физики начала XX века сразу обходиться без картинок, дело пошло бы гораздо быстрее, но пресловутая мания наглядности сработала как блокировка (и до сих пор срабатывает).
Революционная роль Эйнштейна состояла, между прочим, еще и в том, что он решительно отказался от визуальных спекуляций, ограничившись крайне схематичными иллюстрациями. Многочисленные попытки вовлечь знаменитого физика в популяризацию не увенчались успехом: среди важнейших выводов теории относительности выявилось неожиданное следствие: «физика в картинках» окончательно разминулась с физикой как наукой. Однако, несмотря на весь авторитет мэтра, его осторожная позиция не устранила манию наглядности: произошло лишь некоторое перераспределение обязанностей. В то время как физики, входящие в дисциплинарное сообщество ученых, отказались от иллюстраций даже в самом широком смысле слова, другие, напротив, принялись за создание интегральных наглядных моделей. Сегодня количество этих моделей впечатляет – их на порядок больше, чем формул, которые они призваны иллюстрировать; конкуренция этих моделей чем-то напоминает конкурс детского рисунка.
В постановке диагноза или, если угодно, в обозначении болевой точки современной теоретической мысли Мамардашвили был, безусловно, прав. Другое дело, что преодолеть взрыв визуальности едва ли возможно, ведь он распространяется во всех измерениях сразу. В самом деле, мания наглядности отнюдь не ограничивается одной только физикой или даже естествознанием в целом. Ее победное шествие знаменует торжество логики и идеологии Просвещения, а принцип непременной обозримости с некоторыми модификациями вошел в «формулу» ПСК[65]. Важно подчеркнуть именно универсальность мании наглядности: ведь и прозрачность в политике в качестве критерия ее приемлемости, и вопиющая несокрытость (да простит нас Хайдеггер) массовой культуры, и клиповый способ явленности нового пантеона – все это звенья одной цепи.
Очаговая мания наглядности сгущается в страшное подозрение (конечно, для тех, кто еще способен дистанцироваться от одержимости оптикоцентризмом). Вот мы всматриваемся в бесчисленные инсценировки трансцендентного, уже утратившие свой некогда шокировавший эффект. Например, мы смотрим популярный мультсериал под названием «Суперкнига». Или какое-нибудь очередное «шоу Иисуса», использующее всю мощь электронных медиа. Мы понимаем, что, после некоторых колебаний, представители клира все это допустили, хотя, возможно, и не благословили. Понятна также и их логика с не слишком, впрочем, вразумительными аргументами о необходимости популяризации, обеспечения широкого доступа к нетленным ценностям духа, о том, как важно достучаться во всякую дверь. На самом деле решающий аргумент куда проще: у них, у первосвященников и проповедников, нет другого выхода.
Вот в Петербурге, у входа в Александро-Невскую лавру, я останавливаюсь у лотка, где продаются разные душеспасительные товары и прочие церковные сувениры. Мое внимание привлекает одна из матрешек, и я беру ее в руки, не совсем еще понимая, что передо мной. Возникает секундная пауза удивления, возможная при любой степени засилья цинического разума. Но секунда проходит, и я все-таки понимаю, что матрешка как раз и является компактным воплощением мании наглядности – мне прежде никогда не попадалась такая ее концентрация в одном флаконе. Первым образом (матрешкой-вместилищем) был Бог Отец, настоящий седобородый Саваоф, которому художник придал отстраненный вид. Внутри него помещалась Богоматерь, Дева Мария с ликом скорбным и возвышенным. Внутри Богоматери находился младенец Иисус, и выражение его глаз чем-то перекликалось с непорочным, невинным взглядом продавца.
Тогда я всерьез задумался об одной особенности, изначально разделявшей ислам и христианство. Речь идет о запрете изображать человека. Принцип отказа от человеческих изображений, в свою очередь, вытекал из неизобразимости Всевышнего – ведь человек сотворен по образу и подобию Его. Последствия неукоснительного соблюдения запрета были достаточно многообразны. Прежде всего, мусульманские страны практически лишились изобразительного искусства: в той или иной мере репрессиям подверглись все изобразительные элементы в культуре. Как заметил еще Гёте, побочным следствием данного обстоятельства стал расцвет искусства орнамента.
Но лишь сегодня полное торжество транспарации в регионе христианской культуры прояснило истинный и сокровенный смысл запрета: благодаря ему удалось предотвратить одержимость манией наглядности, удалось удержать трансцендентное от рокового смешения с посюсторонним и профанным. В итоге видеоряд Иисуса затерялся в бесчисленном множестве картинок, и, хотя внутри этого континуума мы можем найти образцы редкой выразительности и художественной силы (в принципе, способствующие консолидации веры), в целом иллюстрации постепенно истощили мощь трансцендентного, став каналом утечки сокровенной сущности Бога. Любопытно, что мусульманские богословы предупреждали о подобной опасности, начиная еще с Ибн-Хальдуна, и борьба с сорной изобразительностью периодически становилась даже функцией государства. Ослабление запрета на изображение человеческого облика (как, например, в Кордовском халифате на рубеже X–XI веков) так или иначе совпадало с общим ослаблением единства уммы и способности к сопротивлению.
Тем не менее исламская цивилизация избежала ловушки ПСК – не в последнюю очередь благодаря упорству в хранении трансцендентного как сокровенного[66]. А христианская эсхатология полного выдоха близка к полному исчерпанию своей внутренней силы. Торжествующее зрение отвергает необходимость пристально вглядываться в потаенное, уже выстроенная панорама обозримого, прозрачного мира не требует многоступенчатой рефлексии. На протяжении веков важнейшей прививкой к имманентным и изначальным просветительским тенденциям фаустовской цивилизации была духовная формула иудаизма, в особенности в ее хасидском варианте. Там интерьер внутренней философии субъекта по необходимости должен был обеспечиваться самой компактной формулой, ибо возможности для развертывания полномасштабной социальной инфраструктуры отсутствовали. Как само бытие рассеянной еврейской диаспоры, так и его обоснование способствовали сокровенному хранению инструкций-заповедей – ведь их надо было уберечь от хронической неподтверждаемости явленным ходом вещей, поэтому подозрение культивировалось не только в дополнение, но и в противовес зрению. Эйнштейн, с его органичным недоверием к «физике в картинках», выступает как прямой наследник искателей Шехины, пребывающей в изгнании и в рассеянии, здесь мы имеем дело с далеко идущим параллелизмом интеллектуальных навыков[67]. Отказ от вывода скрытых параметров в прямую изобразительность, несомненно, повлиял на идею относительности времени и пространства, на их подчиненное положение по отношению к последовательности символов.
Фрейд, несравненный мастер толкований, в каком-то смысле тоже следует специалистам по каббалистике и гематрии, предлагая сопоставимую по своей изощренности технику расшифровки и многократной перекрестной интерпретации сокрытого имени «бога», в его случае – набора изначальных символов сновидения, лежащего в основе многоцветной иновидимости[68]. Нельзя не признать, что поправка, вносимая рыцарями гиперподозрительности (включая и Маркса) в доминирующую тенденцию Просвещения, долгое время сдерживала всеобщее торжество транспарации.
Естественный ход вещей потому и называется естественным, что обладает ресурсом самоподдержания – далеко идущей автономии, которая все же не доходит до степени causa sui. Уже отмечалась роль обмена обманом в эмпиричесом бытии подозрительных субъектов (носителей -сознания) и в рутинном режиме функционирования практического разума как такового. Но нельзя забывать, что для фальсификации эталонов все же необходимо, чтобы эти эталоны были в наличии. По крайней мере, в соответствии с поправкой Бодрийяра, в наличии должна быть память о них. Кроме того, лучшие образцы анализа социального опыта, представленные Платоном, Руссо и Максом Вебером, демонстрируют, что и нормативная будничность будней требует трансцендентной санкции. И она продлится недолго без возобновляемости (обновления) духовных оснований.
Таким образом, острая теоретическая и практическая коллизия налицо. И в ней, что весьма показательно, онтическое служит решающим онтологическим аргументом, аргументом социальной онтологии. Ведь как бы там ни было, проект Просвещения, изобличая и отвергая предрассудки во имя чистого разума, прозрачного полиса и общепонятного этоса, в своей имплицитной экономической части гласил, что содержать трансцендентное слишком накладно. Издержки на его содержание непомерно велики – это с одной стороны. А с другой – обойтись без трансцендентного не удается, если речь идет о субъекте и обществе субъектов. Мы уже видели, с какими шизотенденциями срастается позитивная наука, пытаясь найти замену трансцендентному.
Выход из тупика был найден странный и отнюдь не теоретический – его даже можно назвать экстравагантным: если содержание собственного трансцендентного столь затратно, столь разрушительно для культивируемых принципов просвещенности и прозрачности, почему бы не попробовать использовать чужое, заимствованное трансцендентное, разместив его в особой территориальности как земное потустороннее? Реализация этого хода стала содержанием одной из важнейших страниц истории XX века; рассмотрим несколько подробнее данный эмпирический аргумент, преобразивший и метафизическое пространство.
Вглядываясь в реалии современного постиндустриального мира, сначала удивляешься невиданным прежде возможностям. Слова, начинающиеся с паролей «теле», «кибер», «гипер» и «супер», как может показаться, вводят фрагменты абсолютно новой реальности. Но вскоре возникает страшное подозрение.
Сначала смутные, а затем все более настойчивые сравнения с позабытым опытом Советской России придают современности совершенно неожиданные очертания. Выясняется, например, что для всякого «теле» и «гипер» находится свой удивительный аналог. Возьмем хотя бы телевидение: если обращаться к сути дела, а не к поверхностному техническому оформлению, придется признать, что «телевидение» вовсю работало в молодой Советской республике. Окна РОСТА, «Синяя блуза» и другие подобные объединения успешно обеспечивали своеобразную телетрансляцию. Нота Керзона, наш ответ Чемберлену, ГОЭЛРО, субботник, тифозная вошь как враг № 1 – практически одновременно в разных уголках страны эти новости выходили «в эфир»: инсценировались, собирали аудиторию, дополнялись местными новостями, после чего та же «Синяя блуза» демонстрировала очередной сериал о пролетарско-буржуйских разборках. Живой телевизор функционировал на полную мощь задолго до появления своей электронной версии. Знаменитый тезис Хайдеггера «сущность техники не есть нечто техническое» прошел полномасштабную проверку в идеальных лабораторных условиях.
Рекламный плакат (клип) как способ универсальной упакоки ценностей основательно опробован в практике агитации и пропаганды Советской России: карикатурные буржуи в цилиндрах являются отдаленными предшественниками современных кариозных монстров. Особенно впечатляет схожесть атмосферы: если прямая эффективность предложения ничтожно мала, то влияние на коллективное бессознательное достигает критических величин, в обоих случаях создается система координат фетишистского мировосприятия. Нас не должны вводить в заблуждение границы собственной территории фетишизма, особенности местности, на которой расположен полигон. Подобно тому как принцип авторствования в политическом измерении реализуется раньше, чем в сфере искусства или науки[69], также и рекламные ходы включаются в дистрибуцию власти раньше, чем в дистрибуцию вещей (в экономику).
Рассматривая прототелевидение коммунистической утопии, следует, пожалуй, отметить его большую демократичность и эффективно работающую обратную связь. Революционные стенгазеты и листки (как и дацзыбао в маоистском Китае) предоставляли выход в эфир широким народным массам, а возможность ответить собственной дацзыбао на выпад противника создавала нечто вроде chat-режима сегодняшнего Интернета.
Тем не менее Пролеткульт оказался тупиковой ветвью mass media – как глиняная кремниевая жизнь до появления органической (углеродной) или как звероящеры до млекопитающих. Слишком уж большой фрагмент социального тела приходится задействовать для сборки Мегателевизора – именно в Советской России журналистика впервые становится массовой профессией, и эта массовость (если учесть институт рабкоров) не превзойдена до сих пор. Неэкономичность – вот главное отличие огромного media-динозавра от современной стайки шустрых мышек, без всякой натуги выполняющих ту же работу.
Среди точных и безжалостных выводов Чаадаева особенно обращает на себя внимание его предположение о всемирной роли России. Роль эта состоит в том, чтобы демонстрировать цивилизованному человечеству то, чего следует избегать. Несколько десятилетий спустя, рассуждая о полезности социалистического эксперимента, Бисмарк говорил: «Надо только выбрать страну, которую не жалко». Канцлер, разумеется, знал, что выбор уже сделан, но, будучи ответственным политиком, не торопился договаривать до конца. Полтора столетия, прошедшие с момента исторического прозрения, полностью подтвердили правоту Чаадаева: сегодня Россия предстает как лаборатория Фауста, предназначенная для самых опасных экспериментов и потому вынесенная на задворки общеевропейского жилого дома, а для пущей безопасности еще и окруженная стеной (железным занавесом).
Революция произвела колоссальный выброс пробных социальных и экзистенциальных форм, большинство из которых, как водится, были вредны и даже губительны для любой здоровой социальности. Но были и те, которые после проб и ошибок обрели нужную кондицию и стали пригодными для заимствования – теперь уже безнаказанного и безбоязненного. Все возможные нестыковки удалось подогнать в ходе полевых испытаний. В бурлящем расплаве революции и послереволюционных лет формируется интенсивное пространство mass media, происходит действительное присвоение искусства народом, предвосхищающее ситуацию современной массовой культуры. Революция разворачивает целый веер так называемых социальных завоеваний трудящихся (начиная от оплаченного отпуска) – все они были синтезированы и проверены здесь, на полигоне, а применены с пользой для дела там, в жилом доме. Плюс к тому великое множество побочных новаций – от широкого распространения аббревиатур до возрождения геральдики: все это так или иначе востребовано современной транснациональной экономикой и использовано в качестве эффективного инструмента самоидентификации глобализованного человечества.
Чрезвычайно важный момент предварительных испытаний будущей устойчивой социальности обычно ускользает от внимания историков. Между тем целый ряд явлений получает совсем иное объяснение в рамках экономии социального предшествия. Вырисовывается новый подход к проблеме экзистенциальных авангардов: мы видим, как на полную мощность загружаются «специально выделяемые» соответствующие площадки – либертины, импрессионисты, хиппи отрабатывают двадцатичетырехчасовой рабочий день, производя фрагменты пробного будущего. Тем не менее получается, что этих мощностей недостаточно: некоторые социальные инновации могут быть синтезированы и испытаны только на большом полигоне. Например, пределы эффективности хозяйства в условиях отсутствия такого эффективного рычага мобилизации инициативы, как собственность. Эксперимент показал, что в принципе можно обеспечить некий минимум хозяйственной самодостаточности, который для условий военного времени является даже оптимальным. Но военное время, растянувшееся навечно, все равно не в состоянии преодолеть некую планку экономического минимума. Никакие сверхусилия трансцендентного энтузиазма не могут компенсировать отсутствие рыночных стимулов и механизмов.
Сейчас нас, однако, интересует важнейшая особенность полигона под названием Россия – она, в отличие от вынесенных в будущее авангардных площадок, состоит в выстраивании бытия-для-другого. Ибо степень саморазрушительности полевых испытаний неприемлема для живой органики собственного социального тела и вообще необъяснима в форме «для себя». А вот бытие-для-другого укладывается в жесткую логику безотчетной стратегии самопожертвования, независимо от того, какими внутренними причинами (всякий раз разными) оно дополнительно гарантируется или, скажем так, подстраховывается. И логически-выверенное движение российской утопии неизменно разворачивается по спирали полигон – котлован – полигон.
В рамках стратегии бытия-для-другого получает объяснение и феномен сталинского искусства. Такие величественные монументальные формы, как комплекс ВДНХ или «Книга о вкусной и здоровой пище», сегодня прочитываются с неподдельным энтузиазмом. Природа энтузиазма ясна далеко не сразу, в особенности если еще не остыло ощущение абсолютной внутренней фальши соцреализма и «стиля Сталин» как его квинтэссенции. Изнутри, в качестве безальтернативного интерьера повседневной жизни, все черты воплощенной утопии образуют мрачный тюремный антураж. Но по мере увеличения дистанции, как хронологической, так и позиционной, интерьеры эпохи обретают совсем другую тональность: они притягивают, зачаровывают по всем правилам категории возвышенного. Возникает труднопреодолимое ощущение, что все соответствующие культурные формы и были изначально задуманы как послания к иному, а идеологический камуфляж служил всего лишь отговоркой. Уж больно невероятным представляется консенсус живущего поколения в отношении своей предназначенности к роли агнцев для всесожжения, но логика «адресованности иному» сразу меняет дело. Что же, однако, заставляет перейти в режим бытия-для-другого? Неужели только непрерывно, на всех оборотах работающая машина репрессий?
Если вдуматься, что именно зачаровывает нас в некоторых цивилизациях (например, в египетской, вавилонской или сталинской), можно предположить, что зачаровывает полное пренебрежение принципом человекоразмерности. Древнеегипетские города, построенные не для живых, а для мертвых, вавилонские города-зиккураты, выстроенные для богов, а не для смертных, сталинская культурно-историческая среда, предназначенная «для потомков», для гомункулосов близкого или отдаленного будущего, – все это звенья одной цепи. Важно отметить, что трансцендентная устремленность (преимущественное бытие-для-другого) характеризует ту или иную цивилизацию изначально, независимо от исторических перипетий ее развития. Россия как последняя цивилизация трансцендентного служит ярким тому подтверждением.
Многие сферы знаковой активности современного постиндустриального общества допускают сравнение с советским протообразцом. Внимательное сравнение позволяет взглянуть на многие вещи иными глазами. Вот мир современной рекламы – он мог бы показаться растиражированным до бесконечности, но все же вполне рациональным средством продвижения товаров и услуг к потребителю. Однако, как уже отмечалось, ряд факторов, включая и историческую память, не дает трактовать рекламные потоки столь примитивным образом. Со временем проявляется скрытая цель безудержной рекламной активности – обозначение собственного присутствия в мире. Явно несоразмерное количество усилий направляется на закрепление в памяти фирменного ярлычка, на внедрение бренда, логотипа. С другой стороны, столь же непомерные затраты направляются на формирование и укрепление групповой солидарности. Возникает ощущение, что истинная цель, скажем, корпорации «Мицубиси» – вовсе не максимизация продаж, а производство знаков отличия в полном соответствии с тезисом Ницше: «Только не спутайте меня с кем-то другим…» Идентичность обладает высшей, самодостаточной ценностью.
Но подобная практика где-то уже встречалась. Разумеется, речь идет о советском прототипе современного глобализма. Вспомним предприятия и трудовые коллективы СССР, не знавшие рекламы в коммерческом смысле слова, но развивавшие напряженную символическую активность в направлении идентичности и солидарности.
Победа в бесконечных соцсоревнованиях, получение какого-нибудь переходящего Красного знамени или имени бога-покровителя (очередного вождя) вызывали язвительные насмешки даже у советских сатириков. Но по большому счету гиперактивность в сфере производства символического, проявляемая сегодня той же корпорацией «Мицубиси», мало чем отличается от инициатив заводов ЛОМО, «Электросталь» и прочих субъектов социалистического хозяйства. Выясняется, что отнюдь не исчезли бесследно доски почета и прочие мишурные права вроде права возглавлять на демонстрации колонну трудящихся. Просто жизнеутверждающая активность сознательных трудящихся сменилась брендоутверждающей активностью солидарного персонала, выступающего под девизом «Мы из "Макдоналдса", знай наших!».
Поразительным образом современная корпоративная этика приняла к руководству и исполнению рекламные клипы коллективизма, всесторонне отработанные в свое время на полигоне, – все то, что казалось навеки забракованным и зарытым в котлован. Сегодня мы присутствуем при неслыханном расцвете корпоративных праздников, совместных пикников и даже субботников. Все это реэкспортировано в Россию под видом новейших западных веяний, доставлено вместе с передовыми формами ведения бизнеса и сразу же вызвало сильнейший эффект dj vu. Настойчиво возникает лишь вопрос: почему то же самое не удалось советской власти?
Таким образом, вглядываясь в ядро разворачивающегося процесса глобализации, мы обнаруживаем удивительную и даже загадочную игру сходства и несходства. Основное несходство сведено к различию моментов «для себя» и «для другого» – только и всего. Но это только и всего меняет знак сущности на противоположный. Траектория многоярусной превратности соединяет коммунистическую утопию с утопией глобализации, обладающей куда большей степенью воплощенности.
Представим себе выбросы символической активности сталинской эпохи как мощный поток излучения: перед нами пульсирующий источник неких МЭЛС-лучей. Бомбардировке светоносными частицами подвергается абстрактное окружение и абстрактное будущее. Излучение направлено на пока еще невидимые мишени; иными словами, оно адресовано в трансцендентное.
Теперь выясняется, что одна из мишеней, расположенных на близлежащем полюсе истории, «засветилась». Под воздействием потока квантов энтузиазма, идущих из трансцендентного прошлого, в недрах постиндустриального общества был активирован проект глобализма. Это активирование вполне может быть описано как перевод чужеродного реликтового смысла в форму «для себя». Перевод, разумеется, не буквальный, но, несомненно, узнаваемый и даже изоморфный. Там, на том конце, преисполненные энтузиазма сталинские физкультурницы, пышущие здоровьем девушки с веслом, сознательные рабочие, передовики производства, образцовый постовой дядя Степа и безукоризненный чекист майор Пронин – призраки сакрального видеоряда.
Здесь же, на другом конце, где располагается невидимая мишень, призраки постепенно обретают плоть. Стройные, доброжелательные, улыбающиеся girls, выпестованные аэробикой и шейпингом, – прямо-таки ожившие статуи из парков культуры и отдыха. Разве что весло материализовалось «с ошибкой», превратившись в скейтборд, – но это уже детали… Тем более что рядом активисты общества анонимных алкоголиков, ну точь-в-точь киношные сознательные рабочие, выводящие оступившихся на путь истинный. И главное, материализованные привидения уже не находятся в пространстве утопии, они органично вписаны в повседневность.
Можно было бы сказать, что общество потребления – это и есть очеловеченный коммунизм, переведенный из состояния бытия-для-другого в форму для себя. Но действительно ли полюс «здесь и сейчас», занимаемый Америкой (включая ее внешние духовные провинции), является положительным полюсом только потому, что нечеловеческий коммунизм Сталина таковым однозначно быть не может? Разве ряды далеко идущих соответствий не предрешают судьбу проекта глобализации? Отказ от формы бытия-для-другого как-то не добавляет симпатичности воплощаемым идеалам. Обобществление сборки эталонного тела и его распечатка по ячейкам индивидов увенчалась успехом. Майкл Джексон репродуцирован и растиражирован наряду с другими избранными моделями для сборки; пластическая хирургия плюс шейпинг сделали приобщение некондиционных индивидов к эталону вполне доступным. Правила политкорректности, представляющие собой модернизированный кодекс строителя коммунизма, отнюдь не вызывают органического отторжения, как это было у «советского человека». Отношение к изгоям-аутсайдерам, не поддающимся воспитанию, негативное до такой степени, какая и не снилась советским парторгам. И тем не менее перспективы глобализации примерно те же, что и у забракованного советского проекта.
Дело в том, что оба проекта в равной мере противостоят индивидуализму, принципу автономии личностной монады и другим духовным гарантам либерализма, одухотворявшим фаустовскую цивилизацию в период ее максимального могущества. А то, что утопия глобализации ориентирована на форму для себя, а не для другого, еще не делает ее шедевром социального конструктивизма. Ведь бытие, исключающее самопожертвование и отменяющее всякую трансценденцию, в свою очередь, может быть рассмотрено как результат фальсификации и упадка, как состояние духовной демобилизации общества.
Существенным представляется и другой результат эксплуатации заимствованного трансцендентного: размывание позиционных ячеек власти, предназначенных для однозначного заполнения их субъектами. Исчезновение привилегированных потребителей власти, смыкающихся в легко опознаваемый правящий класс, – явление крайне характерное для ПСК, пусть даже дистрибуция власти по степени ее транспарантности уступает сферам циркуляции знаний и кругооборота удовольствий. Прогресс в том смысле, в каком понимало его Просвещение, тем не менее налицо.
В странах, где тройная демократизация зашла достаточно далеко, прекратилась выработка и иррадиация харизматической ауры (что отчасти и объясняет активное использование заимствованного трансцендентного). Учитывая, что сладость властвования неразрывно связана с гарантированностью приватного[70] и, так сказать, с величиной дистанции между публичным церемониальным пространством и сферой своеволия (то есть с глубиной двойного дна), размывание дистанции аннулирует внутренний резонанс политической признанности, сохраняя лишь внешний престиж, обладающий большой инерцией. Строго говоря, абоненты политической власти уже подверглись первой экспроприации, хотя пока этого еще не заметили (для власть имущих за пределами ПСК экспроприация, постигшая их «коллег», очевидна[71]). К политическим реформам, точнее говоря, к реформам политического измерения под воздействием прогрессирующей транспарации, мы еще вернемся.
Торжество медиакратии как самой «странной», почти бессубъектной формы власти привело к выравниванию элит и формированию нового критерия для их консолидации. Сегодняшняя элита все больше определяется по наличию привилегированного доступа к окнам mass media. Пинадлежность к аристократии Голливуда или к верхушке шоу-бизнеса в целом уже сейчас престижнее принадлежности к собственно политическому истеблишменту. К тому же решительно пробивает себе дорогу взаимная конвертируемость в пределах плоскостной признанности. Рональд Рейган в свое время одним из первых прошествовал по трассе из Голливуда в Капитолий, Арнольд Шварценеггер двигался уже в русле mainstream. Оживляется и встречное движение: Джимми Картер, Моника Левински, Гельмут Коль. Вот и Михаил Горбачев попробовал себя в роли, на которую обычно приглашают популярных комиков…
Дистрибуция политической власти, несомненно, приняла бы еще более рациональный и прозрачный характер, если бы не сохраняющееся внешнеполитическое противостояние. Пока в регионах, не затронутых Транспарацией (да и Просвещением не очень-то затронутых), власть всецело принадлежит подозрительным субъектам, извлекающим положенную норму сладострастия из аттракторов политической признанности, просвещенному обществу тоже приходится подкармливать своих «уицраоров». Если для собственного политического лидера харизматическая санкция не требуется, скорее она даже настораживает верноподданных ПСК, «контрабандой» использующих чужое, дешевое трансцендентное, то негативный полюс трансцендентного, предназначенный для неисправимо плохих парней, воистину пуст не бывает. По порядку заполнения проклятое место явно опережает свято место; так, после распада «империи зла» вакансия главного злодея пустовала считанные мгновения в масштабе исторического времени.
Таким образом, дистрибуция власти в политическом измерении ПСК все более тяготеет к американской модели, в соответствии с которой суверен (в данном случае президент) обладает исключительными внешнеполитическими полномочиями вплоть до единоличного решения о полномасштабном применении силы и в то же время крайне ограничен в принятии внутриполитических решений. Скажем, бомбить Ирак – пожалуйста, хоть пять Краков одновременно, а вот повысить налог на полпроцента – ни за что. Поэтому противостояние Америке через институты государственности – затея бесполезная, в какой-то мере это даже содействие процессам реанимации находящегося в бреду социального тела. Напротив, проникновение внутрь гражданского общества в обход барьеров государственности (инфильтрация или контрколонизация) позволяет обращать в свою пользу немалый аванс благосклонности к первым встречным. Разумеется, для контрколонизаторов всегда существует опасность или, если угодно, соблазн самим «цивилизоваться» (в смысле транспарироваться), именно такой исход инфильтрации чаще всего реализовывался в истории. Но ситуация изменилась, и собственное трансцендентное демонстрирует очевидные преимущества в противоборстве с заимствованным трансцендентным.
Здесь пора констатировать излишнюю увлеченность обличениями и, чтобы несколько выровнять ситуацию, пора вновь предоставить слово Транспаро Аутисто. Ему уже давно есть что сказать.
«Разнокалиберные критики ratio сегодня состязаются в разоблачениях плоского рационализма вместо того, чтобы перевести вопрос в рациональную плоскость. Они словно продолжают жить в эпохе пророков, находя себе авторитеты в череде достославных одержимцев от Иезекииля до Шпенглера. Мысли Томаса Пейна или, скажем, Томаса Джефферсона кажутся им чересчур плоскими, а взгляды просветителей в целом – слишком пресными. В действительности они лишь запугивают своих читателей и друг друга – что, кстати, не так уж и трудно, учитывая шлейф врожденной подозрительности. Благодаря им философия истории в XX веке стала похожа на конкурс антиутопий, в котором побеждают настоящие мастера страшилок.
Быть оптимистом немодно, да у субиков, как говорят мои подзащитные, это и не считается признаком ума: у них спор идет преимущественно между героическим пессимизмом и пессимизмом циническим. Алармисты ветшающей метафизики то призывают к бдительности, то требуют "не сдавать позиций западной цивилизации" – но все это прекрасно уживается с пророчествами о ее неизбежной гибели. Много еще чего они требуют, но если свести их алармистские построения к простым силлогизмам, то есть перевести их все-таки на язык ratio, получится следующее.
Мужество, к которому они взывают, – это нетерпимость, нежелание поступиться комфортом ради человека, которому ты ничем не обязан. Поступающиеся комфортом автоматически обвиняются в отсутствии мужества.
Дружелюбие, в особенности дружелюбие, не подкрепленное автоматической обратной связью, трактуется алармистами как поверхностность, препятствующая установлению более глубоких отношений.
Отсутствие паники перед ежедневно заклинаемой катастрофой, да и перед реальной опасностью, – это, по мнению антиутопленников, утрата бдительности и ответственности за свое бытие. Преступная беспечность подготавливает мрачное будущее гражданского общества, основанного на либеральных ценностях, – таков прогноз расплодившихся иезекиилей, специалистов апокалиптического жанра.
В отличие от них другая разновидность субиков-теоретиков, жрецы политкорректности, защищает политические свободы и приветствует их экспансию. Но и эти теоретические выкладки сводятся к замысловатому регулированию, к фетишизму государства и политических абстракций. Во всем видно недоверие к дружелюбию и простой приветливости как спонтанному чувству. Иными словами, субъектам, даже весьма искушенным в теории, все равно не удается скрыть свою подозрительность; непринужденное общение с другими предстает в качестве заслуги, если не сказать подвига. Совершаемый здесь интеллектуальный трюк все тот же, что и у Канта: коль скоро в важнейших для нас интеллектуальных предпочтениях психология (гетерономный практический разум) оказывает сопротивление, психологические корреляты следует вообще исключить из сферы истинных максим чистого практического разума. В дальнейшем это вылилось в некое имплицитное, но непреложное правило: если что-то, например близость ближнего, дается тебе легко и играючи, будь бдителен, скорее всего, ты на ложном и опасном пути. На кантианском фундаменте остаются и Роллз, и Хабермас, да и сам Рорти. Их либеральная открытость выглядит не менее натужной, чем исполнение предписаний морального закона во мне. Нельзя отрицать, что продиктованные самому себе веротерпимость, отсутствие расовых и тендерных предрассудков, постоянные признания в признании прав каких угодно меньшинств имеют место. Но уж настолько вымученно и высокопарно, что невольно создается странное впечатление: если бы этому агенту чистого практического разума перед каждым поступком и высказыванием не вручалась бы судебная повестка (от самого себя, разумеется) относительно вердиктов, вынесенных высшими моральными инстанциями, он камня на камне не оставил бы от всех этих замечательных других – ленивых арабов, зарвавшихся феминисток, шумных докучливых подростков…
Но он не дает себе воли, этот рыцарь чистого практического разума, – чем и гордится, втайне ожидая признания своих великих подвигов. Поэтому он так беспощаден к проявившим слабость таким же, к не справившимся с самообузданием, ко всем тем, кто озвучил или претворил в действие свои подозрения. Беспощаден он потому, что ему в очередной раз напомнили о его собственных подозрениях, о его инопланетной удаленности от тех, кому нисколько не нужно накручивать себя для проявления спонтанной приветливости, весьма немудреного, но искреннего интереса к пришельцам.
Ничего не поделаешь, эти, не мудрствующие лукаво, выглядят как-то уж больно непривлекательно с позиций метафизики (да и внутренней философии) классического субъекта. Они скандально простоваты для того, чтобы быть примерами воплощения собственных сверхзадач. Беседуют себе о футболе за кружкой пива, неподдельно восхищаются Роберто Карлосом и Михаэлем Шумахером, взаправду демонстрируют дружеские подначки, которые наш поборник либерализма видел только в кино у голливудских копов (и думал, что они тупо введены в угоду политкорректности). Тут же происходит и «обмен девочками», непохожий и в то же время чем-то похожий на обмен женщинами, описанный Леви Строссом как важнейший архаический тип коммуникации.
У ревнителя прав и свобод картина действительной солидарности, в которую легко впишется и потасовка, и обмен крепкими выражениями, вызывает сложные чувства, в общей гамме, скорее всего, будет доминировать ощущение недоступности вроде бы "простенького" эталона. Во всяком случае, свои идеалы расового мира и торжества освобожденного пролетариата мыслящий субъект тут никоим образом не опознает. То ли дело политическая солидарность в рамках газетно-журнальных статей, телепередач или хотя бы совместных пикетов…
Для описания происходящего добрую службу может сослужить важное различение, встречающееся у Канта во всех трех "Критиках". По Канту устройство трансцендентального субъекта дает возможность схватывания фигур пространственного континуума и некоторых одновременностей в качестве непосредственных данных опыта. Однако логические связи и причинно-следственные зависимости постигаются лишь путем подведения под схему: они не имеют характера непосредственной данности. Таким образом, законность действия трансцендентальных схематизмов не опирается ни на материю опыта, ни на ее психологические корреляты (на которые опирается, например, восприятие фигуры или эффект внеположности). Непосредственное усмотрение того, что постигается нами опосредованно, вообще говоря, возможно, полагает Кант, но "для рассудка иного, чем наш"[72]. Для нас же подобная трансцендентная эстетика автоматически оказывается в сфере мистики или чуда.
У описываемого Кантом субъекта максимы практического разума похожи на умозаключения теоретического разума, похожи как раз тем, что осуществляются независимо от морального чувства или вопреки ему, при том что моральное чувство у Канта вообще проблематично. Здесь, однако, вполне был бы уместен ход по аналогии – апелляция к иным возможным мирам морального чувства, к мирам, где наше императивное и схематическое обладает статусом простой очевидности. Допустим, что у нас нет достоверного знания о том, как могут быть устроены эти миры изнутри (да и откуда его взять?), возможны лишь предположения. Скажем, один из таких миров конституируется не императивно продиктованными самому себе поступками, а чувственной регуляцией поведенческих сбоев, когда ложное, искусственное поведение воспринимается как фальшивая нота, которая автоматически заставляет поморщиться[73].
При всей затейливости современных метафизических дискурсов умозрительный характер важнейших моральных императивов так и не стал предметом удивления. Как для теоретиков, так и для прямых апологетов открытого общества "корректное" поведение индивида в обществе безальтернативно обеспечивается схематизмами. Я бы сказал, что так, во всяком случае, дело обстояло до недавнего времени. Однако с возвращением носителя прямой чувственности картина меняется: можно сказать, что ряд схематизмов опустился из сферы заданности в сферу данности. Идеологами и теоретиками этот факт пока не замечен, ибо зарегистрирован он в плоскости онтического, и "сейсмические волны" не дошли еще до онтологического представительства. Проницательные философы не уследили за обновлением common sense – английское значение данного термина, соединяющее в себе "здравый смысл" и "общее чувство", в нашем случае особенно важно[74]. Героический характер целого ряда гражданских добродетелей уходит в прошлое, уже давненько не требуется метафизического разбега для преодоления расовых барьеров и тендерных препятствий.
Итак, аналитики не заметили позитивного аспекта повышения статуса первого встречного, а именно утверждения спонтанной приветливости как чувственной основы интерсубъективности. Да, эта приветливость и в самом деле неглубока, зато она лишена экзальтации, селективности, капризности, она априорна в том значении термина a priori, который указывает на отсутствие самопринуждения. Дружелюбие нового человека (зовите его хуматоном, если хотите) не имеет характера волевого акта и, таким образом, не засчитывается самому себе в заслугу.
Отсюда проистекают некоторые неожиданные следствия. Важнейшим из них является "эффект неподдельности", по своим социальным последствиям превышающий "эффект изощренности". Когда подозрительные субъекты, вдохновленные просвещением или просто смирившиеся с его неизбежностью, обустраивают дружелюбие с такими же кропотливыми усилиями, с какими китайский крестьянин расчищает рисовое поле, другие бдительные субъекты весьма обоснованно указывают первым субъектам, что на таком поле не произрастет никакого доброго урожая, поскольку все силы уйдут на расчистку.
Отчаявшиеся просвещенцы, надорвавшись от тяжкого труда обустройства дружелюбия, тут же впадают в другую крайность (подобная переменчивость субъекту в высшей степени свойственна) и заявляют, что одностороннее, опережающее дружелюбие не достигает цели, оно всего-навсего является превращенной формой малодушия. Радикальные выводы, впрочем, озвучиваются нечасто, поскольку они перечеркивают все аскетические усилия смирения и аннулируют шкалу заслуг, учрежденную рессентиментом. Обычно просто модулируются пессимистические вариации насчет новых варваров, которые непременно сочтут радушие за слабость.
Действительно, всякая обустроенная, напускная лояльность воспринимается как слабость – просто потому, что она и является слабостью. Субъект, не доверяющий сам себе, вряд ли завоюет доверие другого. Зато неподдельная, пусть даже совершенно элементарная приветливость нового человека, совершенно непостижимая для -сознания, отнюдь не выглядит слабостью – напротив, она есть сила, с которой приходится считаться. Это та самая вещая сила неведения, что способна вызывать рефлорацию у искушенных субъектов, способна содействовать перерождению цинизма в наивность. Производит она впечатление и на варваров, притом впечатление обезоруживающее. Именно так: встречная изворотливость настораживает, она активизирует работу подозрения, а вот неподдельная доброжелательность обезоруживает, заставляет подозрение подозревать само себя.
Несгибаемая наивность элементарного морального чувства оказывается более надежным бастионом против носителей сохраненного трансцендентного, чем экзальтированная решимость левых интеллектуалов. Любопытно, что истерическая позиция Андре Глюксмана и прочих камикадзе политкорректности защищает интересы трансцендентного не менее надежно, чем герменевтическое усилие или каббалистическая практика, только это интересы "чужого трансцендентного". Для того чтобы упразднить трансцендентное измерение вообще, по крайней мере, для того чтобы его ослабить, необходимо зрение без подозрения, а этому искусству лучше учиться у Микки-Мауса, а не у Фрейда. Надо ждать пришествия непорочных судий, приглашенных Платоном в идеальное государство. Попробуем задуматься, чем так очаровала и продолжает очаровывать гражданское общество формула Вольтера "Я не разделяю ваших убеждений, но готов отдать жизнь за ваше право их высказывать". Ведь здесь речь идет о своеобразном кодексе самураев от либерализма, предусматривающем к тому же подробно градуированную шкалу заслуг.
Перед нами антитезис фанатиков всех времен. Например, русских революционеров, поставивших идеалы Просвещения на опустевшее после смерти Бога место: "И как один умрем в борьбе за это". Теоретики открытого общества зашли еще дальше в логике подмены, произведя рефлексивное удвоение: "Умрем за тех, кто умрет в борьбе за это, пусть даже это совсем не то и борьба идет с нами самими". Вот чем воистину озабочен субик, почитающий себя современным философом, и хуматон мог бы ответить ему словами Чжуан-цзы: «Не пора ли перестать печалиться о тех, кто печалится о чужих печалях?» В свойственной хуматону манере это звучало бы более лаконично: не парься. Ведь убеждения – не та вещь, ради которой стоит убиваться, есть много других, куда более важных вещей, – так что не дай себе засохнуть.
Контекст Другого, утвержденный европейской метафизикой, это, по существу, контекст страшилок, иногда даже буквально сопровождаемый рефреном "в темной-темной комнате". Обратимся, например, к трактату Сартра "Бытие и ничто", где введение тем Другого сопровождается метафизическим придыханием: "Я постигаю взгляд другого в самой глубине моего действия, как затвердевание и отчуждение моих собственных возможностей. Например, потенциальность темного угла становится данной мне возможностью спрятаться в нем от одного того факта, что другой может перевести ее к своей возможности осветить угол своим карманным фонариком"[75]. Так и кажется, что Другой перехватит наш затаившийся взгляд и закричит страшным голосом: «Отдай мою руку!» Таким со времен Просвещения и оставался удел субъекта – трепетать перед пришельцами из другого мира, из мира других. Безусловно, это удел промежуточности – страдать от самопротиворечивости, от неустранимых расхождений между данностью и заданностью. Сартр прав, требуется немалое мужество для того, чтобы видеть свою собственную возможность как реализованную, и притом непоправимо реализованную, – а ведь скоростные скользящие обмены учреждают новый тип конвертируемости присутствия, присутствия, избавленного от хронических осложнений. И вот, пока субики продолжают предаваться отчаянию от невозможности подобрать ключик к загадочной душе другого, их дети всех цветов радуги, прямодушное поколение Транспарации, обмениваются собранными этикетками-упаковками, новостями (в особенности музыкальными), впечатлениями от футбола и компьютерных игр – и нельзя не отметить бескорыстности и подлинности этих обменов. Ведь они не заботятся о сохранении права copyright как непременного представительства субъекта, им чужды навязчивые страхи быть перепутанным с кем-то другим. Опыт мимолетных идентификаций, полученный в тех же компьютерных играх, показывает, что при встречах и расставаниях другой не потребует назад свою руку».
Здесь мы вновь прервем господина Аутисто, который по мере развертывания критики субъекта все яснее дает понять, что речь идет о самокритике. Ничего удивительного, ведь позиция внеположности субъекту недостижима путем интеллектуального трансцендирования: любой дискурсивный мостик, в какую бы территориальность он ни был переброшен, означает расширение субъектности. Только срыв дискурсивности и прекращение практики подозрений дает шанс метаморфоза, в результате которого на свет может появиться хуматон.
Все кризисные явления связаны с промежуточным состоянием «недопросвещенности»: бытие между субъектом и хуматоном или даже от субъекта к хуматону преисполнено зримыми знаками порчи и нечистоты, усиливающимися по мере приближения к аттрактору, к новой сингулярной точке устойчивости. Но достижение этой точки странным образом расставляет все по своим местам и даже обнаруживает неожиданные преимущества. Наиболее точное описание такой метаморфозы можно найти в книге Левит Ветхого Завета: «Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику; священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его; и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже, и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое; он чист» (Лев. 13; 9-13). Ну прямо один к одному написано о сникерснутых и хуматонах! Когда уже некуда клейма ставить, чтобы заклеймить презрением выродка, не сумевшего воспользоваться почти ничем из багажа высокой культуры и изощренного разума (из арсенала субъекта), оказывается, что в этом гомункулусе, в этом продукте Транспарации обозначилось собственное обретенное достоинство – и как обозначилось!
Придется согласиться с Транспаро Аутисто, что очевидным моментом силы становится обретенная безыскусность веры, сопоставимая с искренностью веры первых христианских общин. Пусть неоязыческий пантеон лишен мистической аффектации, пусть новый Олимп не слишком возвышается над землей, ему недостает заоблачного парения, которое поддерживалось бы напряжением предельного чаяния, – твердость веры заветам, обещаниям своего Июксты впечатляет и действительно обезоруживает. Обезоруживает в том числе и исламистов, успевших привыкнуть к мерзости духовного запустения, царящей в ПСК. Вера, истощенная манией наглядности, порушенная разгулом репрезентаций, еще вчера заставляла непредвзятого священника заключать о нечистоте, о «паршивости» ее верующих по инерции приверженцев. Но парша прогрессировала, и вот теперь священник с изумлением вынужден объявить больного вторично чистым, «потому что все превратилось в белое; он чист».
Подтвердилось хорошо известное положение о том, что жизнеспособность веры определяется не простором для толкований – найти его задача не такая уж и трудная, – не степенью интеллектуальной проработки ее исходных символов, а прежде всего верностью верных, приверженностью общины исходным заповедям, какими нелепыми они ни казались бы изощренному разуму. Косноязычность основоположников и пророков, как правило, не мешала распространению культа – вплоть до эпохи Возрождения, когда и произошла первая мутация: возникновение мощной и самодостаточной риторической составляющей, в значительной мере определившей идеологию Просвещения[76]. Впрочем, с тех пор риторическая часть credo просвещенного разума была значительно сокращена, преимущественно за счет «аргументов», за счет того, что касалось обоснования основоположений исходного экзистенциального выбора. В области практической политики последние лет пятьдесят востребовались преимущественно разрозненные фрагменты, произносимые на манер заклинаний: о правах человека, о непреходящих ценностях демократического выбора, etc. Под убаюкивающие звуки этой колыбельной и шла интервенция верных рыцарей чужого трансцендентного, в данном случае – поборников ислама. Ситуация начала меняться лишь после следующего шага редукции, результаты которого было доверено озвучить уже не политикам, а пророкам бога Июксты и новым культурным героям вроде Микки-Мауса. Образцом тут может служить священное косноязычие Йоды, одного из главных персонажей эпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны»:
«Размер не имеет значения. Взгляни на меня. Оцениваешь меня по размеру, a? M-да… Этого делать не следует. Ведь Сила есть союзник мой. Могучий союзник это. Жизнь порождает ее, расцвет жизни дает она. Ее энергия окружает и связывает нас. Вокруг себя ты должен чувствовать Силу. Здесь, между мной… тобой… деревом… камнем… повсюду! Даже между кораблем и берегом должен чувствовать ты ее!»
Вот как описывает Иоду философ Джеролд Абрамс: «Всего в несколько футов ростом, зеленый и длинноухий, ковыляющий, опираясь на специальную палку, Иода кажется безвредным… даже глуповатым. И Люк с трудом может себе представить, что это маленькое неуклюжее существо – величайший воин-джедай (хотя не война делает великим, как позднее замечает Иода). С точки зрения Люка, чей взгляд на природу вещей все еще замутнен, Йода попросту слишком мал, чтобы быть джедаем»[77].
Столь же мал и невзрачен безупречный мышонок Микки. Да и Гарри Поттер, заставивший отступить Сами Знаете Кого, тоже всего только ребенок. Но как раз безыскусность, неиспорченность, незамутненность рефлексией и составляет их силу. И если Поттер не повзрослеет, сила пребудет с ним. Главное, что пророки Июксты хорошо усвоили лапидарные чудодейственные реплики Ветхозаветного Бога: «хорошо весьма» и «сие есть мерзость предо мною». В новой редакции формулы силы, не требующие дополнительных объяснений, звучат примерно так: это круто и полный отстой.
8
Демократизация сексуальности
Рассмотрим теперь подробнее преобразования чувственной сферы, общее направление которых можно определить однозначно: дрейф в сторону конвертируемости чувственного (эротического) в другие дискурсы символического, экспликация языка чувственности в качестве одного из рабочих языков Плоско-Субъектного Континуума. Тут тоже прослеживается стадия «ритуальной нечистоты», сплошных сбоев и недоразумений, – и предположительная идеальная стадия, когда субъект «вновь чист». Чист и устойчив, поскольку подменен в качестве субъекта. Стратегия выравнивания вершин и засыпания ям-провалов не обошла стороной и сексуальное измерение человеческого; при этом сказались и общие закономерности синтеза новой имманентности и особенные коллизии, вызванные попытками просветить чувственность. Соответствующую задачу решала еще греческая эпимелея[78], но ее опыт гармонизации человеческой природы не слишком пригодился, в частности из-за интенсификации чувственности под влиянием христианства. Работа Просвещения в этом направлении долгое время оставалась едва ли не наименее успешной, что и констатировал Фрейд, великий критик Просвещения и в то же время один из его самых полезных сотрудников. Исходным пунктом психоанализа, говоря вкратце, стала всякий раз обнаруживаемая некогерентность libido и ratio, отсутствие имманентных переходов между этими инстанциями – принципиальная неконвертируемость умопостигаемого и «страстно желаемого».
То есть опять же, с одной стороны, имелась общая несовместимость сущностных проявлений субъекта вообще, закрепленная бинарными оппозициями всех, говоря словами Кассирера, символических форм. Еще до психоаналитической реформы чувственного была провозглашена эпистемологическая революция Декарта, утвердившая идеал ясного, отчетливого, а главное, когерентного на всем протяжении знания, сводимого в континуум ratio. Этот идеал, лежащий в основе любой феноменологии, преодолевал и продолжает преодолевать сопротивление материала, хотя обретенный в виде «истины-light» результат лежит далеко в стороне от феноменологических проектов. Подобная же двойственность или, лучше сказать, полярность была характерна и для социальной среды (в частности, для гражданского общества), расщепленной, согласно Гегелю, на Weltodnung и Weltlauf. Эротическое же вообще двусмысленно по определению, оно и в идеале, т. е. в предельной эротической утопии, задается набором несовместимостей, которые в своей «чистой», дискурсивной форме, без чувственного коррелята, предстают как сплошной абсурд. Например, несовместимость женского (соблазняющего) и материнского (облагораживающего) начала, несовместимость Я и Оно, светских принципов comme il faut (или, скажем, увлеченности сутью дела) и тайных декольтеологических языков, собственно, безбрежной сферы кокетства…
Все эти (и многие другие) несовместимости совмещаются, благодаря чему и возникает любовь во всей ее неизымаемой полноте, самый уникальный по характеру своей процессуальности феномен во Вселенной. Любая физическая экземплярность в подобных условиях подверглась бы аннигиляции задолго до критической массы несовместимостей, она не могла бы быть даже описана. Аналогом любви в мире физических явлений было бы «горячее мороженое, которое для пущей сладости требуется посолить». Исключено такое нагромождение несовместимостей и для живых организмов, ибо оно явно несовместимо с жизнью. И только субъект, этот высший род бытия, несмотря на погруженность в среду аннигиляции, пребывает, как говорят англичане, «still in one peace». И великая заслуга Фрейда в том, что он все же справился с описанием «горячего мороженого», не стал пасовать перед неописуемым и предложил вразумительный язык для регистрации феноменов, исключительно далеких от умопостигаемости.
Благодаря Фрейду самоотчет субъекта о своих желаниях утратил традиционную и, казалось бы, непреодолимую иносказательность, когда ответ на вопрос «Скажи, чего хочешь?» определялся правилами риторики (например, моральной риторики), а не экономией аффектов. Мы и сейчас редко способны высказать то, чего нам хочется, если в дело замешано либидо. Вместо этого мы хотим того, чего хочется, а говорим то, что говорится. Но успехи в точности самоотчета налицо. Отталкиваясь от достижений психоанализа (как когда-то математика от достижений Евклида), Жан Бодрийяр пишет: «Перверсивное желание – это нормальное желание, внушаемое социальной моделью. Если женщина не подвластна аутоэротической регрессии, то она уже не объект желания»[79]. Разумеется, социальная модель желания, выражающая чувственную связь субъектов, а не просто агентурную связь агентов чистого практического разума, «учитывает» всю подозрительность, присущую субъекту по определению. Но одно дело – учет, необходимый для действующей жизнеспособной модели, а другое – отчет, долгое время бывший крайне запущенным. Здесь дешифровка оказалась посложнее расшифровки египетских иероглифов: «Женщина бывает вполне собой, а значит, наиболее соблазнительной тогда, когда принимается любоваться прежде всего сама собой, не желая никакой другой трансцендентности, кроме своего собственного образа»[80].
Упоминание о трансцендентном в данном контексте не просто уместно – мы имеем здесь дело с одним из первоисточников трансцендирования вообще. Полагание трансцендентного происходит не только внутри умопостигаемого как некий предел постижимости. Трансцендирование есть обусловленность потока происходящего разными полюсами, так сказать, «послойность» происходящего, которая для своей регистрации требует интеллектуальных усилий, – при том что регистрация имеет форму объяснения, которое ничего не объясняет, то есть форму парадокса. Трансцендирование обнаруживает себя как перекрестное причинение вполне рядовых поступков. Понятность таких поступков или поведенческих актов не вызывала бы вопросов, если бы они были нанизаны на одну причинную цепочку, но всякий раз явочным порядком вводится союз «и» (скромность и прозрачное платьице), в результате чего понятность тут же исчезает, оказывается иллюзией понятности, зато соответствующие феномены обретают измерение daseinmassig, становятся явлениями, в которых субъект опознает себя. Существуют принципиальные зоны трансцендентного, непроницаемые для -сознания и стратегий хитрости разума, – апофатическая непостижимость Бога, не укладывающаяся в порядок творения, моральные идеалы, не тускнеющие от ежедневной эмпирической фальсифицируемости, измененные состояния сознания, в том числе и священные, переход в которые не мотивируется нитями причинности, сплетающими ткань Weltlauf.
Но юная девушка, примерная послушная дочь и мать будущего героя, самозабвенно ласкающая себя перед зеркалом, обнаруживает такую же очевидность (и непостижимость) трансцендентного, какую обнаруживает и всемогущий Господь своим участием в мирских делах. Во всеобщей экономии либидо подобные провалы обнаруживаются как слепые пятна, уже упоминавшиеся зоны meconnaissanse. После выявления Фрейдом эдипова комплекса Ференци Анна Фрейд, Мелани Кляйн и Лакан отследили изнанку самой изнанки, комплексы Электры и Иокасты, когда не только младенец использует мать как первый, еще недифференцированный сексуальный объект, но и мать «эротизирует» мальчика, проявляя по отношению к нему всю амбивалентность чувства, включая безусловный сексуальный компонент, даже если она и не практикует буквальную игру с гениталиями, как полагала Мелани Клайн.
В этой удивительной реальности, создаваемой перекрестным причинением взаимно трансцендентных желаний и мотиваций, проблема наблюдателя стоит не менее остро, чем в квантовой реальности. Со времен Бора и Шредингера важнейшей загадкой физики микромира считалась тайна регистрирующего прибора, когда факт регистрации события решающим образом учреждает новое положение дел, раскладку мира де-факто. Познанное бытие меняет свой онтологический статус, при этом «простое измерение» оказывается несравненно более результативным, чем рутинные физические взаимодействия. Подобно квантовой механике, экономия либидо вводит в такой регион происходящего, где гарантированная самой себе экземплярность, единство сущего, застрахованное от преобразований в результате самоотчета, является скорее исключением, чем правилом. Диалектика вредного знания, столь занимавшая Сократа и Платона, с новой силой обозначилась в дискурсе психоанализа, причем не только как еномен отреагирования (познать – значит избавиться). Приобщение к сфере самоотчета, к имманентному строю умопостигаемого важнейших трансцендентных разрывов, приводит к необратимым изменениям в эротической составляющей бытия, общим итогом которых является падение мерности, размывание среды, пригодной для субъекции. Термин интеллигибельность, благодаря скрытым аллитерациям русского языка, как нельзя лучше выражает суть происходящего. Только недоговоренность дает жизнь важнейшим феноменам, полный отказ от нее интеллигибелен для субъекта.
Союз «и» в универсальной формуле соблазнения «скромность и прозрачное платьице» должен быть оставлен как есть, без приведения к какой-либо умопостигаемости. То есть – оставлен непостижимым. Даже всевидение как высшая точка эротической утопии должно содержать в себе эпистемологические разрывы, о чем совершенно справедливо пишет Лакан: «Зрелище мира в этом смысле оказывается всевидением. Фантазия находит подтверждение в перспективе абсолютного бытия Платона, которое трансформируется во всевидимость, видимость отовсюду. На предельном горизонте опыта созерцания мы находим этот аспект всевидения в самоудовлетворении женщины, которая знает, что на нее смотрят, при условии, что смотрящий не знает, что она знает, или не показывает этого.
Мир во всевидимости, но не в эксгибиционизме – вот абсолютная приманка для взора (gaze)»[81].
В данном случае перемены, вызванные вмешательством прибора-наблюдателя, означают некую катастрофу в сфере символического. Можно сказать, что формирование ПСК возможно лишь в результате такой катастрофы, когда экономия либидо вновь стабилизируется на более низком, но зато транспарантном уровне. Но не будем спешить. В порядке исследования превратностей обратимся к порнографии и порноиндустрии, поскольку их судьба чрезвычайно выпукло отражает суть происходящих и в значительной мере уже происшедших перемен.
Порнография предстает как невротический и даже психотический фактор для философии – неудивительно, что на протяжении столетий метафизика предпочитала держаться в стороне от опасного предмета, отделываясь заявлениями о том, что «все прекрасное трудно», и призывая изо всех сил противостоять вожделениям. Приходится признать, что в порнографии философия видела опасного конкурента – не отдавая себе отчета, в чем именно состоит опасность.
Впрочем, все вышесказанное относится к классической философии, которая для здравого смысла продолжает репрезентировать философию вообще. Пожалуй, неклассическая философия и начинается с некоторого момента утраты целомудренности: сфера умопостигаемого лишается своей привилегированности и зоны контактного проживания, где тело является главным аргументом, перестают быть запретными территориями для философии. Критический запал Маркса, Ницше и Фрейда странным образом способствовал расширению юрисдикции философии, и это расширение стало прежде всего вторжением теоретического разума в сферу сексуальности. В ходе вторжения были разрушены сторожевые бастионы цензуры и успешно преодолены рубежи постыдного – темы, ранее запретные для обсуждения, превратились сначала в «деликатные», требующие хотя бы краткого оправдания, а затем и в академические, приспособленные для университетского преподавания. Именно так разворачивалась последовательность освоения: конфиденциальный разговор у психоаналитика переходит в публичный разбор соответствующей девиации или просто «проблемы»; сегодня диссертации типа «Женский оргазм как модель постиндустриального общества» встречаются, пожалуй, даже чаще, чем исследования, посвященные различным аспектам познаваемости мира.
И все же, при всей свободе обращения с производными Эроса, трактовка порнографии остается привязанной к моральному сознанию – что мешает постигнуть истинный масштаб явления. Проявляется это, прежде всего, в неустранимости оценочной характеристики – порнография предстает как очевидное зло, например как отпадение от высокой эротики, уступка низменному началу человеческой природы. Проблема разграничения эротики и порнографии и по сей день остается излюбленным упражнением теоретиков Эроса и разного рода экспертов – как будто вычислив точные очертания порока, мы сможем отнять у него спасаемую или даже спасительную часть, что позволит обезвредить разрушительный заряд сгустка темных вожделений… Великая утопия управляемого механизма оргии, противоречивая в самих своих основах, похожая на задачу вывести такой огонь, который был бы способен обогревать жилище и готовить пищу и принципиально неспособен устроить пожар.
Во всяком случае, существует устойчивое представление, что, если бы человечеству удалось ликвидировать кормовую базу порноиндустрии, оно бы ничего не потеряло, а наоборот, только выиграло бы. Речь, разумеется, идет не о внешних запретах, а о просветлении чувственности, о прополке сорных участков вожделения – полное падение спроса на продукцию порноиндустрии представляется не просто чем-то желательным, но несомненным благом. Именно этот тезис следует поставить под вопрос.
Согласно Фрейду, порнография в качестве самостоятельного феномена возникает в результате отклонения при выборе объекта. Отклонение либидо орошает дикорастущий сад фетишизма, но правильный дренаж, если о нем позаботиться, приведет к засыханию и отмиранию сорняков – при этом полнота сексуальности и вообще чувственности как минимум не пострадает.
Между тем как раз избыточность сексуальной активности, ее принципиальная неукротимость, обеспечивает резервуар энергии для символического производства: сама возможность злоупотребления является надежной гарантией того, что источник не оскудеет. Все важнейшие человеческие феномены основываются на подобной подстраховке. Открытие Витгенштейна состояло в том, что множество человеческих заблуждений, в том числе и пресловутые великие вопросы, возникают благодаря праздности языка. «Если мы говорим о чем-то как о теле, при том что тело отсутствует, мы имеем дело с идеей духа»[82]. Благодаря возможности злоупотреблений то и дело образуются паразитарные существительные: в мире самом по себе отсутствует, например, быстрота (скорость) – есть лишь нечто быстрое, но язык позволяет нам тематизировать в качестве отдельной единицы любое свойство, неотделимое от своих носителей. Идет непрерывная игра пустых означающих, в результате чего то и дело появляются химеры, сбивающие нас с толку. Но одновременно с этим обеспечивается и важнейший ресурс символического производства – среди прочего философия, поэзия и даже остроумие обязаны своим существованием игре пустых означающих. Витгенштейн понял, что идеальный язык, в котором были бы устранены двусмысленности (таков был первоначальный проект Витгенштейна), оказался бы бесполезным для прибыльных инвестиций – обходящиеся таким языком не смогли бы получить никакой прибыли смысла. Роскошь мышления – это бесперебойная работа языка на холостом ходу.
Язык Эроса устроен аналогичным образом – и порнография есть безошибочный показатель его способности работать на холостом ходу. Следует задуматься над тем, что именно порнотексты (включая и видеоряд) демонстрируют великую истину человеческой сексуальности – возможность быть соблазненным без соблазняющего. Соблазненность не субъектом, а самим соблазном, таков индикатор жезнеспособной культуры, чудесный мостик, соединяющий телесное (гормональное) и символическое. Многозначность латинского слова «porno» («грязь», «след», «прилипание», «примесь», «утечка») указывает на факт связи между абсолютно разнородными регионами сущего, и не будь этой клейкой привязки, единство психики могло бы легко рассыпаться. Ведь психика – это способность удерживать вместе непримиримое.
Стало быть, «отлаженная» сексуальность без порнографии – это даже не роза без шипов, это скорее дождь без влаги. И какую бы досаду ни вызывали бесцельные пробеги на холостом ходу (они специально культивируемы порноиндустрией), все же плату нельзя назвать чрезмерной. Ибо погасшая лампочка индикатора свидетельствует о несравненно больших потерях. Когда культура утрачивает способность безнаказанно выращивать цветы зла, она лишается и потенциала для производства человеческого в человеке. Спрос на непристойное, последовательность поз, тиражированная в бесконечности видеоряда и «искажающая» траекторию выбора объекта, парадоксальным образом говорят о некотором благополучии, которое отнюдь не гарантировано само собой.
Это только кажется, что о порнографии нет смысла беспокоиться и ей ничего не угрожает («к сожалению» – добавляют моралисты). Как раз оскудение казавшегося неиссякаемым источника представляет собой характерный и весьма тревожный симптом современности. В ПСК, где посредством транспарации устраняются перегородки иного и потустороннего, большинство проницательных наблюдений Фрейда теряют свою обоснованность. Процесс выравнивания шел и продолжает идти во всех направлениях. Вершины самообладания, возвышавшиеся над горизонтом здравого смысла, резиденции Сверх-Я, равно как и бездонные пропасти, каждая из которых поименована в честь какого-нибудь особенного фетишизма, снабжены теперь подъемниками и лифтами: пейзаж вожделений можно созерцать, не выходя из кабины лифта, из капсулы символического. Само именование несказанного уже представляло собой труднодостижимый компромисс: достаточно задуматься о последствиях сомнительного уточнения выражений «затосковал», «впал в неистовство», «ее иссушила неразделенная страсть» и т. д. Новые ярлыки, утвердившиеся наконец в ходе последовательной медикализации безумия, перекрыли слепые пятна, в некотором смысле одомашнили пугливых призраков, снабдив их инвентарными номерами и прижившимися кличками. Эпоха Великих географических открытий, начавшаяся еще до Просвещения, завершилась только с торжеством Транспарации, и завершилась она составлением подробной карты вожделений. Теперь карта растиражирована, согласно ее легенде проложены туристические маршруты и созданы навигационные приборы.
Итак, сексуальным фантазиям сегодня отказано в конфиденциальности, и уж само собой разумеется, что в конфиденциальности отказано сексуальным проблемам. Трясины бессознательного, в которые уходили корни субъекта, подверглись основательному осушению и вообще грамотной мелиорации. Нетрудно заметить, что принцип взаимообозримости и досягаемости любой точки континуума – основополагающий для ПСК – в полной мере проявляется в чувственной сфере. Прозрачность инвестиций либидо заметно опережает прозрачность собственно финансовых инвестиций, хотя и то и другое находится в одном русле – в общем русле транспарации. Сфера реформированной чувственности, успешно внедряемая взамен темной чувственности субъекта, освобождается от перверсивности, преимущественно за счет легитимации большинства отклонений (исключением является лишь компонент насилия), но тем самым она заодно освобождается и от интенсивности. А значит, и от божественности: Эрос оказывается последним из низвергнутых олимпийских богов.
Процесс составления карты вожделений обнаружил любопытные параллели с проблемой автоматического перевода, которую долгое время совместными усилиями пытались решить лингвистика и теория программирования. По единодушному мнению экспертов и пользователей, существующие на сегодняшний день программы автоматического перевода совершенно неудовлетворительны. Но тут стоит уточнить – неудовлетворительны для субъекта. Уровня, который способен был бы удовлетворить субъекта, они никогда и не достигнут, поскольку субъект как некая реальность из сферы сущего обнаруживается лишь там, где отключен автоматический режим, режим автопилота. Что касается хуматона, то его достигнутый уровень передачи смысловых инвариантов вполне устраивает, а всевозможные осложнения рефлексии вообще не нужны, поскольку в принципе не считываются. Нас, конечно, интересует другой перевод – тот, что в режиме автопилота происходит как переложение смутных объектов желания, с одной стороны, в товарную форму, а с другой – в реформированную в духе политкорректности мораль. С товарным статусом продукции, производимой в ходе массовых инвестиций в сферу либидо, все в порядке. В свое время Карл Маркс, приводя примеры товарного обращения, наряду с сюртуком и штукой сукна любил упоминать Библию. Доведись ему писать «Капитал» сегодня, он наверняка присоединил бы к стандартному ряду обменов «Playboy», виагру и вибромассажер. Ибо особенные регионы желания все более утрачивают свою специфику в универсуме товарооборота.
Наряду с автоматическим переводом либидосодержащих феноменов на язык товара запущены и другие стратегии редукции трансцендентного. Степень обобществления интимного в некотором смысле превзошла самые смелые ожидания основоположников коммунизма, став простой, будничной реальностью ПСК. Всем от мала до велика доступны полезные сведения о свойствах прокладок с крылышками. Давно отправлены в отставку взывающие к трансцендентному лозунги для настоящих мужчин, что-нибудь вроде «Все на борьбу с Деникиным!» или «Долой суд Линча!». Сегодня актуальны другие призывы: «Все на борьбу с простатой!» – вот девиз сегодняшнего дня. И ясно, что ей, как и перхоти, не дадут ни малейшего шанса.
В США уже более десятка лет существуют курсы мастурбации, где под руководством опытных консультантов проходит обучение получению удовольствия от собственного тела. Мы видим, что это, традиционно «не слишком публичное», удовольствие обобществлено, национализировано и переведено в ранг национального достояния. Успешной рационализации подвергся и феномен аутоэротизма, совокупными усилиями психоаналитиков и социальных служб удалось дезавуировать его постыдную сторону. И хотя дистрибуция либидо еще не достигла той степени прозрачности, которая уже достигнута в отношении политических прав и гражданского статуса, тем не менее узлы перверсивных желаний активно распутываются, а пропасти Эроса засыпаются соломкой.
Сегодня обобществление соблазна уже достигло некоторого предела, обозначенного уровнем «don't touch!». Видеоряд транслирует соблазнение и наслаждение без купюр, купировано лишь возможное вмешательство непредсказуемого субъекта.
Подводя в этом пункте промежуточные итоги, можно сказать следующее. Европейская цивилизация (а значит, и формация субъекта вообще), достигшая во времена Фрейда зенита своего могущества, обладала в числе прочего и максимальной разностью потенциалов между полюсами Эроса – наивысшей Потенции, достаточной и для напряженной сублимации в сфере символического, и для поддержания некоторых трансцендентных высот – чести, virginity, «бремени белого человека», ну и не в последнюю очередь для производства сугубо энергозатратных переверсивных желаний. Частная собственность в экономике, гражданское достоинство в сфере Mitsein, непроницаемое для первых встречных, равно как и приватность проявлений либидо (принципиальная персональная адресованность соблазняющей женственности), позволяли удерживать иерархию Weltordnung в неприкосновенности. Ни экзистенциальный минимализм, ни провоцирующая беспомощность «других» – маргиналов, аутсайдеров, «мирового пролетариата» – не могли до поры до времени сокрушить бастионы республики субъекта, ставшей когда-то преемницей Царства Господина. Но агенты Просвещения работали неустанно, осуществляя свою диверсионно-подрывную миссию, – как если бы программа самоуничтожения была записана в формуле субъекта изначально.
Сегодня особенно заметно, какую важную роль в успехе их миссии играет транспарация сексуальной сферы, демонтаж препятствий на пути свободной циркуляции либидо. Выпрямленные перверсии легли на алтарь Прогресса, как остриженные волосы Самсона. Более чем успешный литературный проект Руссо, его знаменитая «Исповедь», в сокращенном и адаптированном виде стала сегодня чем-то вроде общеобязательной анкеты, подлежащей компетентному обсуждению коллектива – обсуждению открытому, демократичному, в духе анализа сравнительных преимуществ прокладок с крылышками и вибромассажеров.
Вслед за успешной сексуальной революцией на повестку дня встала бисексуальная, а затем и асексуальная революция. Все это служит дополнительным основанием, чтобы поставить вопрос: а могут ли в мире истощиться ресурсы субъектности примерно так же, как это происходит с энергетическими ресурсами и запасами полезных ископаемых? Данная монография как раз и призвана дать положительный ответ на этот вопрос и привести соответствующие основания. Сейчас уместно вновь окинуть взглядом основные субъектообразующие ресурсы.
Базисными элементами являются разного рода утаивания, которые лучше всего описываются как шпионо-логические конструкции. Эти конструкции, подобно распоркам, вставлены во все измерения и пласты залегания субъектности. В сфере сексуальности их особенно много, и возможно, что значимость эротического для самоопределения субъекта определяется не только и не столько силой базисного влечения, сколько удобством размещения двусмысленностей, которые в совокупности и образуют поле смысла. На важнейшую субъектообразующую роль сексуальности указывает и Сартр: «Несомненно, что все конкретные действия (сотрудничество, борьба, соперничество, ангажированность, покорность) столь трудны для описания, так как они зависят от конкретной ситуации и особенностей каждого отношения формы Для себя к другим – но все они содержат в себе в качестве своего скелета сексуальные отношения. И это не по причине существования некоего "либидо", которое повсюду присутствовало бы, но просто потому, что установки, которые мы описали, являются основными проектами, которыми Для себя реализует свое бытие-для-другого и пытается трансцендировать свою фактическую ситуацию»[83].
Фигуры соблазна создают напряжение, побочным результатом которого являются и возможная фрустрация, и даже невроз, подобно тому как перегрев может быть побочным результатом работы двигателя (при том что перегрев будет надежным индикатором того, что двигатель все-таки работает). Универсальный принцип шоу, вобравшего в себя стриптиз, варьете, элементы спорта, балета и даже политической манифестации, пришел на смену многоярусной декольтеологии. Новая торжествующая политика состоит в деприватизации sex appeal, в демократизации «соблазнения», адресуемого теперь urbi et orbi, a не потенциальному избраннику, пусть даже им окажется любой. Этому избраннику теперь следует знать, что он не сможет монополизировать и приватизировать эротическую манифестацию желанного тела (неважно, что это тело принадлежит его супруге и уж тем более girl friend), подобно тому как и государство не вправе посягать на неотчуждаемые права личности. В данном случае таким новообретенным неотчуждаемым правом является право отчуждать на всеобщее обозрение (при соблюдении категорического императива «don't touch») свои данные богом прелести, рассчитанные на посюстороннее воздаяние. В какой-то момент стало ясно, что нет необходимости ограничивать себя, уступая требованиям противоречивой фаллоцентрической цензуры.
Поскольку отношения с первым встречным в условиях ПСК служат образцовой моделью межличностной коммуникации как таковой, вполне естественно, что сфера эксклюзивных привилегий «партнера» сужается, а в идеале и специально оговаривается, включается в реестр взаимоприемлемых конвенций, в расширенный брачный контракт. В целом же брачный контракт становится все более важной частью социального контракта (общественного договора), ибо в нем теперь вполне эксплицитно устанавливается, какие права делегируются образуемому субъекту (семье), а какие остаются неотчуждаемыми. Установка, провозглашенная и поддержанная в свое время психоанализом, – лучше говорить, чем комплексовать, прочно вошла в практику матримонального поведения на передовых рубежах ПСК. Типовым бланком для модернизированных брачных контрактов становится перечень услуг проститутки, где все выражено эксплицитно и максимально прозрачно: оговорен каждый тип проникновений (контактов) и прикосновений, прейскурант, исключающий какую-либо двусмысленность, позволяет даже сохранять собственное достоинство. Как говорит героиня одного из голливудских фильмов: «Я делаю все, только не целую в губы». Теперь и женщина, заключающая брачный контракт, имеет право (в том числе моральное право) на столь же подробную регламентацию, только распространяющуюся на всю территориальность совместного проживания.
Этому можно найти множество подтверждений. Впечатляет, например, эпизод из популярного романа Люси Коугридж «Любовь без него». Там девушка Кэт, студентка, с легкой завистью наблюдает за своей подругой Сьюзи, собирающейся на свидание.
Сьюзи достает из шкафа новые туфли, долго выбирает трусики – и по мере того, как продолжаются сборы, зависть проходит и уступает место недоумению. Терпение Кэт окончательно лопается, когда ее подруга начинает подбривать лобок. Происходит достойный внимания диалог:
«– Для чего ты это делаешь? – не скрывая возмущения, спрашивает Кэт.
– Ну, так будет соблазнительнее, ты не находишь?
– Тебе же неприятно. И потом долго колется. И может быть раздражение.
– Понимаешь, Кевин мне действительно нравится…
– Ну и что? Я бы ни для кого такого не сделала. Он же не станет ради тебя красить яйца»[84].
Смысл этой вроде бы невинной иронической реплики угрожающе прост: хватит неэквивалентных обменов! Да здравствует новая экономия либидо, да здравствует равенство инвестиций! Эта новая конвенция, в случае ее окончательного принятия, подписывает смертный приговор порноиндустрии в прежнем понимании слова. Нетрудно предположить, что Кэт ни слова не сказала бы, если бы Сьюзи собиралась на собственное шоу, – ради шоу, этой новой привилегированной формы бытия в признанности, можно пойти и не на такие жертвы. Но прибегать к архаической стратегии соблазнения, реставрировать уходящую в прошлое эпоху субиков с ее наивным фаллоцентризмом – такое, конечно же, не подобает законопослушным подданным ПСК.
Схлынувшее напряжение Эроса оставляет после себя равнину, лишенную складок, в которых могли бы укрыться подозрительность и недоговоренность. Негде спрятаться, чтобы подглядывать или, наоборот, привлечь внимание вуайера. Да и как можно подглядывать за шоу? Эта демонстрация не имеет изнанки, в ней нет ничего такого, что не было бы обыграно в предъявлении. Разочарование подозрительного сознания, не получившего никаких шансов разглядеть сокрытость постыдного, коррелирует с общей универсальной самооценкой субъекта, которую можно выразить перефразированными словами Козьмы Пруткова: если хочешь быть несчастным, будь им.
Исследование транспарированной эротики позволяет увидеть наконец в их целостности отвергаемые и уже отвергнутые модусы сублимации, брошенные задолго до их эвристического исчерпания. Прежде всего это относится к постгенитальной сексуальности и ее изощренным, многомерным стратегиям, в значительной мере инспирировавшим культурный фон двух последних столетий[85]. Искусство флирта (возможно, достигшее высшей точки своего расцвета в среде советских интеллигентов-шестидесятников) оказалось утраченным в одночасье. Лишь теперь, погрузившись в поток забвения бытия, оно способно внятно поведать теоретическому разуму о том, чем оно действительно было: хрупким, но чрезвычайно плодотворным механизмом эротических обменов, в соответствии с которым риторически расцвеченный логос активировал пульсацию женской чувственности и производство фигур соблазна. Стойкая активация направленного эротического выбора женщины, не менявшегося в течение целых столетий (и сама эта неизменность была чудом, которое чудеснее любых трансформаций), поддерживала и подпитывала основные параметры культурного производства. Уникальность расширенного воспроизводства ресурсов субъектности опиралась на принципиальную несимметричность ответа, на неэквивалентный обмен, в соответствии с которым метафизическое построение, музыкальная фраза или поэтическая инвектива не были замкнуты в малом круге кровообращения среди себе подобных «логоцентричностей», а обменивались на эротические отклики, на манифестации чистой декольтеологии – на томные взгляды, выразительные вздохи, приоткрывшиеся коленки, в результате чего с лихвой компенсировалась недостаточная жизненность автономного символического круговорота.
По-настоящему значение этого уникального симбиоза логоса и эроса становится понятным сегодня, когда разность потенциалов растрачена и дистрибуция сексуальности осуществляется в рамках плоского эквивалентного обмена. В отличие от запретного плода, который был сладок (и еще как сладок, он обозначал сладчайшее в человеческом мире), плоды Просвещения оказались безвкусными для субъекта. Упрек Гераклита, адресованный жителям Эфеса («Вы изгнали лучших, чтобы все прочие стали равны»), вполне подходит и для агентов Просвещения, в данном случае – психоаналитиков: вы исключили из сексуальности все непостижимое, постыдное, не укладывающееся в эквивалентный обмен, чтобы усмирить стихию и сделать ее подконтрольной. Но ваша нормализованная сексуальность недостойна более называться эротикой в честь бога Эрота – ибо у нее нет богов и в ней самой нет ничего сакрального. Сфере окончательного выбора друг друга, в которой все прозрачно и рационально, больше подобает называться фаст-факингом — ведь даже реальность флирта для нее есть нечто недостижимое и предосудительное.
Переход от эротического потлача к строго эквивалентному обмену в сфере экономии либидо таит в себе далеко идущие последствия, вполне сопоставимые с последствиями демократизации истины и профанизации гражданского общества. В эротических обменах ПСК постепенно утверждается своеобразный принцип талиона – око за око, зуб за зуб – как это явствует и из уже упоминавшегося романа Коугридж. Короткая юбка – только в обмен на белоснежную сорочку, а если уж ему так важен подбритый лобок – пусть красит яйца. Принцип декольтеологической расплаты за поэтическую очарованность все чаще дает сбои, что уже вызвало кризис всех долгосрочных эротических инвестиций. Ресурс либидо, связанный короткими инвестициями и плоской конвертируемостью, непригоден для систематической поддержки большинства символических практик, он задействуется лишь для привилегированных участков духовного производства, включенного в программу транспарации, – прежде всего это многочисленные шоу и сам принцип шоу как таковой.
Постепенно шоу завоевывает роль универсальной формы репрезентации типового культурного продукта: не только собственно секс-шоу остаются площадками для краткосрочных эротических инвестиций, но и ток-шоу и, к примеру, «бук-шоу», успешно дебютировавшие на американском телевидении и представляющие собой чтение отрывков из книги каким-нибудь жрецом Голливуда[86]. Архаизация сексуальности, точнее говоря, ее примитивизация (транспарация) лишает субъекта важнейшей экзистенциально-психологической опоры, а Европу – величайшего источника ее духовной силы, синтезированной при непосредственном участии христианства полярности постыдного и сладчайшего, сокровенного и откровенного, скромности и прозрачного платьица.
Теперь уместно взглянуть на вопрос, от какого наследства мы отказываемся, с другой стороны. Утверждаемый сегодня в качестве всеобщего образца модус сексуальности имеет, так сказать, англо-саксонские корни. Этот анклав и в лучшие времена европейской цивилизации, в период неколебимого, безальтернативного господства субъекта, дальше всего отстоял от симбиоза Эроса и Логоса и довольствовался наименьшим количеством недоговоренностей.
Существовавший в течение столетий завышенный, если угодно – спекулятивный, курс Логоса по отношению к Эросу санкционировал систематический неэквивалентный обмен, когда создаваемые на мужском полюсе завитки Логоса обменивались на трансцендентные по отношению к ним производные либидо, на чувственную валюту телесности. С точки зрения просвещенного разума такой обмен явно несправедлив, и феминизм, начиная по крайней мере с Симоны де Бовуар, сделал все, чтобы выявить и заклеймить исходную несправедливость[87]. Действительно, констатация неэквивалентности обмена является решающей. Прочие обвинения в адрес неисправимого фаллоцентризма не столь очевидны: вековое зависимое положение женщины, ее социальная эксплуатация и политическая дискриминация могут быть истолкованы по-разному. Скажем, всегда имелись группы мужчин, более бесправные и дискриминированные, чем «сословие женщин» в целом, к тому же и в зависимом положении, что ни говори, были «свои плюсы». Но основополагающий факт никуда не денешь: предъявляемый мужчинами культурный продукт оставался в их распоряжении и в распоряжении человечества, а чувственно-эротический продукт, которым расплачивалась женщина, исчезал безвозвратно…
На первый взгляд может даже показаться, что позы соблазна (в самом широком смысле этого слова) «стоят дешевле», их продуцирование несравнимо с производством конфигураций символического, требующим аскезы, преодоления конкуренции авторствования, да и таланта, который распределен, как известно, крайне неравномерно. На деле, однако, декольтеологические манифестации не менее энергозатраты: красота требует жертв, и в этом огромном реестре требуемого подбривание лобка всего лишь незначительная деталь. Нельзя сбрасывать со счетов и пожизненный шрам морального самопротиворечия: ведь расплачиваясь столь своеобразной валютой за нечто, соприродное собственной душе, трудно избежать морального увечья[88]. Но главная несправедливость, к осознанию которой постепенно и пришел феминизм, – это несопоставимость суммы выигрыша в результате совершаемой сделки. Ведь, как уже отмечалось, предъявитель Логоса, помимо эротической оплаты своего предложения, обогащает себя неким знанием и опредмеченной суммой вдохновения; его товар получает шанс длительного хранения в исторической памяти человечества.
Жесты благосклонности, которыми расплачивается женщина (а еще чаще инвестирует их в качестве предоплаты), никакой умопостигаемостью, разумеется, не обладают, в этом смысле они совершенно «глупые» (впрочем, так же, как облака или звезды). Как правило, не регистрируются и авторы вкладов, несмотря на их незаменимую роль в определении и самоопределении гениев. Исключение составляют, если можно так выразиться, сделки, совершаемые с особым цинизмом, т. е. крупномасштабные инвестиции обольщения, принимающие формы тендера, – тут сразу вспоминаются Лу Андреас Саломе, Лили Брик и те немногие «женщины французского лейтенанта», которые совершенно осознанно выбрали для своих экзистенциально-эротических вложений культурную среду, – но даже их весьма специфическая соавторская известность остается в рамках неэквивалентного обмена. Таким образом, на протяжении ряда столетий женщина неизменно оказывалась в «глупом» положении – и это при том, что она избирала ум, утонченность, сам талант как главный фактор мужской привлекательности, демонстрировала способность чувственно отреагировать на каждый завиток Логоса.
Рано или поздно подобное положение вещей должно было вызвать реакцию противодействия: требование феминизма, обращенное к самим женщинам, собственно говоря, так и звучало: прекратить одностороннее удобрение чужих огородов. Конечно, некоторые формы беззаветного инвестирования были свойственны и мужской половине – речь идет о бескорыстном поощрении женской красоты, конвертируемой в sex appeal, этот наиболее драгоценный ресурс вознаграждался и культивировался без какой-либо практической пользы. Общей чертой, роднящей талант с культивируемой женской красотой, то есть с аурой самой женственности, является принципиальная неравномерность и незаслуженность распределения, тот факт, что никакими трудовыми усилиями и никакими моральными подвигами нельзя обрести то, что больше всего ценится и поощряется противоположным полом[89]. Понятно, что феминизм осудил эти «подачки сладострастников» едва ли не в первую очередь – в каком-то смысле как вторую сторону медали, как важнейшее препятствие на пути к окончательной, прогрессивной транспарации.
О радикальном изменении положения вещей говорить пока рано – все-таки синтез новой идеологии есть дело долгое и весьма проблематичное. Однако отношение к принципу неэквивалентного обмена в современном феминизированном обществе безусловно изменилось: тут можно было бы говорить и о классовом сознании, но в этой роли выступает тендерная солидарность, что-то вроде описанного еще Аристофаном солидарного решения женщин «не вздымать ноги к небу» пред этими жалкими, недостойными мужчинами. В рамках общей тенденции к рациональному, контролируемому обмену вещами и символами, промежуточным уровнем «простого товарного производства» оказывается декларированный принцип талиона (вплоть до полного подчинения эротических инвестиций денежному эквиваленту). «Дурацкое положение» женщины уходит в прошлое, окончательно разрушая при этом конвейер производства человеческого в человеке, выворачивая с корнем опорные столбы (устои) субъектности. Нельзя не отметить, что при всей очевидной утилитарной несправедливости в жертвенных инвестициях женщины (в той мере, в какой она свободна) есть справедливость высшего рода, режим максимального благоприятствования самовозрастающему Логосу. Именно к этому разряду трансцендентальной благодати принадлежит и столь восхищавшее Гегеля почтение, которое здравый смысл испытывает к науке, и готовность платить за говорящие уста, а не за слушающие уши, и еще ряд подстраховок, казавшихся избыточными, но теперь близящимися к своему исчерпанию.
Даже и в этом ряду возобновляющаяся самоотверженность эротического выбора женщины занимала особое место. Грядки удивительно роскошных цветов зла, уникальные духовные формации и, можно даже сказать, целые цивилизации своим существованием были обязаны непосредственной эротической реакции на Логос. Русскую интеллигенцию, это на заре своей чахлое деревце, выходили когда-то тургеневские барышни, их эстафету подхватили затем гимназистки румяные, а затем верные и прекрасные подруги шестидесятников щедро дарили свою любовь непризнанным поэтам и гонимым художникам[90]. Еще более ярко асимметричность эротических обменов была выражена на протяжении нескольких столетий в еврейской диаспоре – и на этом стоит остановиться подробнее.
Существует некая загадка непомерно большого вклада еврейской диаспоры в мировую культуру. Этот неоспоримый факт может быть усилителем ненависти, предметом замалчивания, но и в самом тотальном замалчивании скрывается вопиющая очевидность признания. Путь восхождения от «Йезод» (основание) к «Тиферет» (прекрасному) может быть сопоставлен только с древнегреческим логосом, но в чем-то он достоин большего удивления: ведь в равной мере блистательными оказались и включения в «приютившие» национальные культуры, и духовный вклад собственно диаспоры в ее имманентном творчестве (каббала, гематрия, Хабад, формула существования беноним). Именно в уникальной формуле существования диаспоры и следует искать истоки духовной мощи, а главное – духовной результативности этого народа.
Многие составляющие формулы уже упоминались и исследовались. Например, роль мессианской установки: вкрапленное в материнский инстинкт ожидание Машиаха порождает исключительное по своей внимательности и специфической заботливости отношение к детям. Вдруг это Он; или Она – та, которой суждено понести в своем чреве? Соответственно, обращает на себя внимание легкость переноса мессианских ожиданий на огранку любого таланта отпрыска, возделывание любого знака избранности. Сюда же можно прибавить неподдельное сокрушение в случае неоправданности родительских ожиданий: каждый несостоявшийся мессия виновен перед матерью. Не менее значимы последствия такой установки и для девочек, ведь им передается эстафета, они впитывают атмосферу благоговейного ожидания и учатся играть в волнующую игру узнаваний-неузнаваний.
Бесспорна роль культа знаний. Но и здесь, как в случае протестантской этики, важны не общие слова, а конкретное духовное know-how. Всмотримся в условия существования образованного сословия диаспоры и обратим особое внимание на статус ученых занятий. Этот статус всегда был так высок, так глубоко впечатан в набор исходных экзистенциальных инструкций, что для его поддержания было достаточно самой минимальной инфраструктуры, совершенно несравнимой с той, на которую опирались европейские университеты или даже мусульманские медресе. При этом столетиями обеспечивалось и воспроизводство (можно даже сказать, расширенное воспроизводство) образованного сословия, и преемственность духовных дисциплин. Линия преемственности Маймонид – Исхак Лурия – Шнеур Залман пребывала в безусловной самодостаточности, время от времени делегируя в гойский мир «отщепенцев» вроде Спинозы (массовая инфильтрация началась лишь после отмены заградительных барьеров с середины XIX века).
На что опиралось столь энергозатратное перераспределение социальной активности? Вглядимся в структуру местечковой повседневности, например, XVIII века. Происходит ли дело в Польше, в Литве или в Румынии, мы всюду видим типичную картину: муж изучает Тору и комментарии к ней (то есть предается ученым занятиям), а жена ведет хозяйство, растит детей и выполняет функции семейного министра иностранных дел. Не столь важно, приносят ли занятия мужа какие-то деньги (это зависит от возможности развернуть расширенную инфраструктуру), они, эти ученые занятия, все равно поощряются женщиной. И суть в том, что еврейская женщина не просто терпит (и русская баба вполне способна терпеть чудачества своего непутевого мужа) – она действительно гордится – в том числе и непрактичностью, за которой, как она знает, скрывается высокая ученость, вызывающая у нее, помимо всего прочего, эротический трепет.
Это сочетание, весьма необычное в психологическом смысле, оказалось крайне плодотворным в культурном отношении. Чем же заполнены труды и дни этих цадиков (и пытающихся им подражать беноним)? Двумя вещами: они сидят над книгами и рукописями да еще предаются страсти, чтобы размножиться как песок морской в соответствии с заключенным заветом. Перед нами непрактичность особого рода, принципиально отличающаяся, например, от «непрактичности» русских интеллигентов, а заодно и от всех прочих мужских стереотипов.
В сущности, базовых стереотипов не так уж и много. Есть, например, мачо с ярко выраженной мужской статью. Жена от него может многого натерпеться, но зато уж приласкает так приласкает… Есть интеллигент — неприспособленный к жизни, ни рыба ни мясо, гвоздя в стену не вобьет – но зато с духовными порывами, к тому же несчастненький такой… Есть, наконец, хозяин, настоящий мужик, у которого в руках все спорится. Он, конечно, звезд с неба не хватает, но зато за ним как за каменной стеной. А иной раз и приголубит очень даже ничего. Мы видим, что выбор, в сущности, небогат.
На этом фоне знаток Торы реализует уникальную стратегию бытия мужчиной (разумеется, насколько ему позволяет женщина). По своей непрактичности он существенно превосходит типичного интеллигента и бесконечно далек от «настоящего мужика». Однако в пылкости он не уступает самому крутому мачо – и при этом его устремленность в трансцендентное, скрепленная несгибаемой духовной дисциплиной, даже и не снилась подавляющему большинству «творческих работников» гойской формации. Удерживается уникальное сопряжение крайностей при полном выпадении среднего термина.
Главным достоинством такой ячейки хранения всеобщего духовного опыта является ее компактность. Сжатие Эроса и Логоса в единую монаду без промежуточных звеньев «экономит» дорогостоящую и неэффективную инфраструктуру духовного производства, обеспечивая в то же время его высочайшее напряжение. Зимзум, акт Божественной контрактации, знаменуя космологическое начало, распределяется по самым ключевым точкам бытия диаспоры: переносной кукольный театр пространства, который можно раскинуть, развернуть при любой паузе, при минимуме терпимости со стороны окружения, конденсаторы творческой пустоты на местах зияющих пропусков гласных еврейского алфавита, сама Тора, всякий раз благодатно изливающаяся в ответ на встречную жажду. Это аксессуары номадической цивилизации, доказавшие свою исключительную эффективность в споре с такими неповоротливыми, громоздкими институциями, как государственность и гражданское общество, конституируемое посредством множества передаточных звеньев.
Но даже и в этом ряду роль семейной ячейки уникальна, при том что сама «ячейка» создается благодаря асимметричным эротическим обменам, возобновляемым каждым поколением еврейских женщин. Именно их безупречная реакция на смесь острого ума и хорошей эрекции предотвращает мерзость запустения и предохраняет морской песок от размывания волнами истории. Принципиально важно, что от лица женщины и произносится сама формула компактного хранения в ее кратчайшем конспективном виде. И звучит она, если отбросить эвфемизмы, так: «Когда мужчина читает Тору, всем блядям стоять!»
Можно было предположить, что, пока великая формула действует, никакие враги не страшны избранному народу. И наоборот, распад круга сугубо неравновесных обменов будет означать (или уже означает?) утрату уникальной лаборатории по производству и поддержанию субъектности[91].
Русская интеллигенция и еврейская Шехина, исторически тесно сплетенные друг с другом, являли самый яркий пример самоотверженности асимметричных обменов. Но в той или иной форме этот фактор оказал влияние на всю европейскую цивилизацию. Под двойным патронажем Эроса и Логоса и при максимально выгодном для культуры их обменном курсе решалась сверхзадача производства субъекта – и, как это понятно сейчас, решалась в тепличных условиях. Но санкционированный Просвещением процесс синтеза однородной среды разумности постепенно положил конец тепличным условиям. Транспарация же, выдвинувшая альтернативную программу производства человеческого в человеке, придала движению от Эдипа к Нарциссу необратимый характер.
Изменение принципов и критериев эротического выбора произошло фактически в течение двух-трех десятилетий – что в масштабах истории выглядит как взрыв или обвал. С какой-нибудь инопланетной точки зрения может показаться, что человечество – по крайней мере его авангард – внезапно сменило ориентацию, в результате чего исследованную Фрейдом стадию выбора объекта приходится фактически переписывать заново. Неопознанные эротические объекты эпохи Транспарации чем-то похожи на знаменитые НЛО, они бесшумно, почти не взаимодействуя с веществом, проходят сквозь плотные слои человеческих смыслов, оставаясь пока едва различимыми на фоне других объектов и практик, обслуживающих Lustprinzip, – словом, они, эти объекты, не распознаваемы «традиционными субъектами». Персонажи мужской эротической утопии, населявшие территорию искусства на протяжении нескольких веков, вымирают как динозавры, их впору заносить теперь в Красную книгу. Впрочем, своего рода Красной книгой становится сегодня и Набоковская «Лолита». Когда ее главный герой Гумберт Гумберт, человек знания, носитель высокой культуры и специфической утонченности, выбирал в качестве абсолютного эротического объекта несмышленую нимфетку, он, безусловно, нарушал запреты, но все же действовал в рамках интенций и позывов классического субъекта. В соответствии же с логикой торжествующего феминизма действия Гумберта Гумберта примитивно архаичны, они вообще не несут в себе заряда соблазнения, с которым следовало бы считаться.
Сегодня позиция нимфетки определена лишь в области лесбийского выбора, для гетеросексуальных отношений более характерен скорее нимфет (термин Павла Крусанова). Недавно Америка во всех подробностях смаковала историю Мэри Кей Летурно, тридцатичетырехлетней учительницы средней школы, которая соблазнила Вили Фуало, своего двенадцатилетнего ученика, и, будучи уже матерью и замужней дамой, родила своему возлюбленному двух девочек. Хотя этот случай и шокировал Америку, для эротики эпохи Транспарации он не является настолько инопланетным, каким был бы сегодня случай Гумберта Гумберта.
Как уже отмечалось, в скорости транспарации Соединенные Штаты безусловно идут впереди планеты всей. Поэтому похоже, что в искусстве классического флирта, основанного на неэквивалентном обмене, за всю Америку отдувается один Вуди Аллен. Солидарное женское сознание отказалось обналичивать мужской фаллократический логос знаками эротического возбуждения. Такая же участь постигла и пламенных мачо. Зато феминократия выражает готовность оказывать безвозмездную сексуальную помощь различным дискриминируемым меньшинствам – «колясочникам», даунам, заключенным – вообще всем, кто имеет «проблемы» и готов открыто их обсуждать. Джейн Ван Лавик-Гудолл, посвятившая свою жизнь гориллам, и Мэри Кей Летурно, каждая по-своему, могут служить символами эпохи нового эротического выбора, полюсами скромных предпочтений для простодушных хуматонов. Они обе в равной мере противостоят рыжей красавице, воспетой Венедиктом Ерофеевым, дистанция между проекциями этих точек на воображаемую ось либидо равна общему расстоянию между субъектом и хуматоном. Стандартизация сексуальности органично вписывается в общий процесс рационализации, конституирующий ПСК, наряду со стратегиями потребления она точно так же выбивает опору из-под иррациональной позиции субъекта, состоящей в «противодействии добру упрямством».
Существенный момент состоит в том, что исчезает сверхценность проявлений либидо, на которой, собственно, и основывался весь фрейдовский психоанализ. С точки зрения хуматонов, получающих удовольствие от жизни, виндсерфинг принципиально ни в чем не уступает сексу (фаст-факингу) – это, как говорится, на любителя. Особую маркировку сохраняют лишь картинки, предъявляемые в окна mass media, ведь они все же играют роль эталонов бытия в признанности. Ради персонального обольщения одного из малых сих (то есть мужчин) не следует, конечно, особо напрягаться, но ради участия в шоу стоит подбривать лобок и делать эпиляцию. Стало быть, что-то «святое» все-таки еще сохраняется, одновременно происходит и расцвет стриптиза как своеобразного массового спорта.
Понятно, что речь идет о стриптизе в самом широком смысле – как о времяпрепровождении, напоминающем сидение за прялкой, излюбленное занятие русских девушек вплоть до XIX века. Шоу различаются по степени публичности и по своему значению: в «местечковых» шоу на уровне отдельного университета, клуба или ресторана преобладает прямое нарциссическое удовольствие от собственного тела; в тех шоу, которые транслируются по каналам mass media, доминирует косвенное удовольствие от факта своего растиражированного иноприсутствия. Но какой-либо статусной несовместимости, всегда насыщавшей позицию женственности энергией перверсивного желания, нет и следа. Пожалуй что девушка за прялкой, будучи потенциальным объектом подглядывания заинтересованных парней, вела себя более кокетливо, чем современная стриптизерша. Если говорить о наиболее продвинутых территориях ПСК, например о восточном побережье США, то там участие в той или иной форме стрип-шоу является «делом чести», актом формальной статусной признанности. Современная просвещенная девушка не только не думает скрывать от бой-френда свое участие в местном topless show – она, напротив, требует от него неослабевающего внимания и уважения к этому занятию. Примерно так же три столетия назад какой-нибудь цадик из Лодзи требовал уважения и внимания к своим ученым занятиям от супруги или невесты – и получал плату в надлежащей валюте! Но это была Вселенная субъекта, в галактике хуматона дело обстоит с точностью до наоборот.